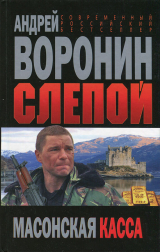
Текст книги "Масонская касса"
Автор книги: Андрей Воронин
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)
Глава 2
Изображение на экране было не совсем четким и время от времени, когда оператор менял позицию, начинало трястись и прыгать. Впрочем, просматривать записи такого же и гораздо худшего качества генерал-лейтенант Прохоров привык давным-давно: все, что надо, он видел прекрасно, фальшивку и наигрыш чувствовал за версту и, как никто другой, умел по тому, как именно падает подстреленный человек, определить, жив он или нет, а если все-таки жив, то оклемается или отбросит коньки в ближайшее время.
Сегодня его задача существенно облегчалась сразу двумя факторами. Во-первых, к видеозаписи прилагалось вполне убедительное звуковое сопровождение (хорошо все-таки, когда один из героев видеоролика действует с тобой заодно и имеет при себе звукозаписывающую аппаратуру!), а во-вторых, Павел Петрович Прохоров буквально два часа назад вернулся с похорон своего коллеги, генерал-майора Федора Филипповича Потапчука, которого у него на глазах при большом стечении народа закопали в мерзлый суглинок. В ушах у Павла Петровича все еще ревела траурная музыка; ружейный салют троекратным похоронным эхом вновь и вновь толкался в барабанные перепонки, и гнусаво гудела нараспев произносимая одетым в жесткий, как железо, стихарь дьяконом заупокойная молитва. Потешно, это, если как следует разобраться: поп, отпевающий старого чекиста! Таков, однако, текущий политический момент, да…
Павел Петрович отмотал запись немного назад и еще раз просмотрел сцену убийства. Из груди его исторгся чуть слышный горестный вздох: да, все мы люди, все мы человеки, и даже лучшие из нас могут перед лицом смерти забыть о чувстве собственного достоинства. Ишь, поскакал, как молодой! Как будто от пули можно убежать…
Глядя на экран, он покачал головой. Нет, все-таки срамно это – бегать от смерти. И бежит-то на самом деле не как молодой, нет, а вот именно как до смерти напуганный старик, которому охота пожить еще хотя бы чуточку, – нелепо, неуклюже, медленно. Лет двадцать небось не бегал, а туда же… И пистолетик, между прочим, опытные люди так из-за пазухи не достают. Тренироваться надо было, Федор Филиппович, а не водку пьянствовать! Тогда, может, не тебя, а этого твоего агента пришлось бы хоронить…
Генерал Прохоров шумно отхлебнул из стакана с крепким чаем. На экране человек в темных очках, стоя над лежащим на земле Потапчуком, готовился произвести контрольный выстрел. Лицо у него было бесстрастное, поза непринужденная; видимо, покойный Федор Филиппович не лгал, утверждая, что это – профессионал высокого класса. Ишь, как он его, болезного… Ей-богу, жутко смотреть! Ведь это не олень, не белка и даже не олигарх какой-нибудь, а свой же брат, генерал ФСБ! Поневоле задумаешься, не такая ли судьба ждет во благовремении и тебя самого…
Думать о собственной кончине было очень неприятно. Поэтому, глядя на экран, где стрелок в темных очках преспокойно удалялся от трупа своего бывшего начальника, Павел Петрович снова задался вопросом, правильно ли они поступили, решив ликвидировать Потапчука. Впрочем, думать об этом было бесполезно, особенно теперь, когда пути назад не было. Как и его коллеги, вместе с которыми генерал Прохоров принимал это решение, он твердо знал одно: мертвые не кусаются. Нет человека – нет проблемы, и, раз так, уже неважно, был он лоялен по отношению к профсоюзу или, наоборот, замышлял какую-нибудь пакость. Конечно, работником Федор Филиппович был отменным – умелым, знающим, опытным, а главное, честным и принципиальным прямо-таки до скрипа. Теперь таких больше не выпускают, и воспитать такого, учитывая реалии современности, уже не представляется возможным. Да, жаль терять проверенных бойцов, жаль! Но если такой человек, каким был Федя Потапчук, повернет против тебя и твоих товарищей по оружию… Это же подумать страшно, что тогда может получиться!
То есть могло бы, если бы руководство профсоюза своевременно не приняло меры.
Изображение затряслось, запрыгало, косо завалилось куда-то вбок и погасло, однако в самое последнее мгновение Павел Петрович успел разглядеть в углу экрана радиатор показавшегося из-за поворота пустынной аллеи «мерседеса». Все было ясно, однако он все же утопил клавишу селектора и негромко приказал:
– Якушев, зайди.
Дверь почти сразу открылась, и на пороге возник Якушев – невзрачный, лысоватый, с бледным незапоминающимся лицом прирожденного филера. Как и генерал, он был в штатском и оттого имел еще более затрапезный вид, чем обычно. Кургузый кожаный пиджачишко был ему тесноват и давно вышел из моды, трикотажная ткань серой водолазки скаталась заметными даже издалека шариками, а просторные джинсы, носившие явные признаки вьетнамского происхождения, растянулись и висели пузырями на заду и коленях. Весь облик майора Якушева свидетельствовал о том, что ему остро недостает женского внимания. Зато служакой он был безотказным, и как раз по этой причине от него сбежала жена – ей, видите ли, начало казаться, что ее круглые сутки снимают скрытой камерой и записывают на пленку то, что она говорит во сне. То есть это она, дуреха, думала, что ей кажется, а на самом-то деле так оно, скорее всего, и было…
– Разрешите, товарищ генерал? – прошелестел Якушев.
– Чего спрашиваешь, раз я сам тебя вызвал? – с грубоватой фамильярностью произнес Павел Петрович. – Заходи, садись.
Якушев осторожно присел на краешек стула для посетителей. На экране телевизора у него за спиной бушевала черно-белая вьюга; Павел Петрович ткнул пальцем в красную кнопку на пульте, и экран погас.
– Посмотрел твое кино, – снова с шумом отхлебнув из стакана, сообщил он. – Финал какой-то не совсем убедительный.
– Виноват, товарищ генерал? – с вопросительной интонацией произнес Якушев и слегка привстал со стула.
– Виноват, виноват, – заверил его Прохоров. – Кто ж виноват, если не ты? Почему не снял жмурика крупным планом?
– Водитель помешал, товарищ генерал.
– Это я видел, – проворчал Павел Петрович. – Ты мне скажи, откуда он там взялся, этот водитель? Ему же ясно приказали вернуться через двадцать минут. А он приперся, когда еще и десяти не прошло… Как ты это объяснишь?
– Не могу знать, товарищ генерал. Может, почуял что-нибудь? Все-таки двадцать лет в органах – не шутка…
– Почуял… – проворчал генерал. – Собака он, что ли, чтобы чуять? Почуял… А ты, случайно, не чуешь, что я с тобой в следующий раз за такие фокусы сделаю?
Якушев вскочил, со скрежетом оттолкнув стул, и вытянулся по стойке «смирно».
– Виноват, товарищ генерал! – уже без намека на вопросительную интонацию отчеканил он. – Больше не повторится!
– Надеюсь, что не повторится, – сказал Прохоров. – Да ты не напрягайся так, майор, сядь. Тут все чисто, я два часа как с кладбища. Но порядок должен быть. Тебя для того туда и отправили, чтоб все было ясно как на ладони. Ты же фактически провалил задание! Если б не похороны, я бы даже не знал, что и думать…
– Виноват, – раздумав садиться, повторил майор.
– Ладно, хватит уже попугая изображать… Этот здесь?
– Так точно.
– Ну, давай его сюда, посмотрим, что за птица…
Якушев, которому так и не удалось во второй раз до конца опуститься на стул, вышел из кабинета. Павел Петрович допил чай и отставил в сторону стакан в старом массивном подстаканнике с рельефным изображением Спасской башни Кремля. Скрытые люминесцентные лампы заливали просторный кабинет холодным, мертвенно-голубоватым светом, ровная матовая белизна стен и потолка наводила на мысли об операционной и – почему-то – о допросной камере. Даже, пожалуй, о пыточной, хотя не только в этой комнате, но даже и в этом доме никогда никого не пытали – для этого существовали другие места. Окон в кабинете не было: генерал Прохоров не любил отвлекаться во время работы, да и в такие вот моменты, как сейчас, это было очень удобно, поскольку не позволяло гостям сориентироваться и хотя бы приблизительно определить свое местонахождение.
Дверь снова распахнулась, и Якушев ввел в кабинет человека, которого генерал в разговоре с ним пренебрежительно назвал «этот». Был он довольно высок, на полголовы выше майора, и, хоть не впечатлял какой-то особенной шириной плеч и всего прочего, крепок и жилист. Было в его облике что-то от японского ниндзя; генерал Прохоров, привыкший во всем докапываться до сути, постарался уразуметь, откуда у него такое впечатление, и это удалось ему практически сразу. Это впечатление было не только внешним, вызванным видом высокой гибкой фигуры, одетой во все черное. Человек этот и был ниндзя, только не японским, а русским – наемным профессионалом, что приходит невидимо и беззвучно, скользя, как тень среди теней, наносит смертельный удар и так же беззвучно уходит, никем не замеченный.
Не дожидаясь приказания, майор развязал узел и снял шарф, а за ним и мешок, надетый на голову гостя. Секунды две человек стоял крепко зажмурившись, а потом вынул из нагрудного кармана черной мотоциклетной кожанки темные солнцезащитные очки, надел их и там, под надежным прикрытием непроницаемых даже для орлиного генеральского взора линз, надо полагать, наконец-то открыл свои слишком чувствительные к свету глаза.
Некоторое время Павел Петрович молчал, с любопытством разглядывая этого человека. Его любопытство было вполне законным, поскольку он знал, кто стоит перед ним. Покойному Потапчуку пришлось выложить всю его подноготную, когда он через генерала Прохорова рекомендовал руководству ложи своего человека для выполнения в высшей степени ответственного задания. Человек этот был героем мрачноватой легенды, которая, то затухая, то вспыхивая вновь, прямо как пожар на торфянике, уже который год гуляла по коридорам и кабинетам Лубянки. Исполнитель самых невероятных акций, всегда работающий в одиночку, никем и никогда не пойманный и не засвеченный, тщательно скрываемый Потапчуком даже от коллег, полумифический Слепой – вот кто это был, вот кто стоял, темной колонной отражаясь в гладком, как озерный лед, паркете генеральского кабинета и бесстрастно поблескивая непроницаемыми линзами очков. В его существование не верили, считая его персонажем байки, неким собирательным образом, коему приписывается множество дел, совершенных разными, незнакомыми друг с другом и в большинстве своем уже покойными людьми. Потом, когда он вдруг взбунтовался, сошел с нарезки и понаделал дырок в собственном кураторе, поверить в него пришлось, как пришлось уверовать в Бога тому библейскому персонажу, с которым Господь лично заговорил из горящего куста. Уверовав в существование Слепого, его постарались убрать и, казалось бы, преуспели. Но этот воистину неистребимый тип выжил, как и его куратор. А выжив, снова вернулся под начало Потапчука, как острый нож, ненароком поранивший руку хозяину, вновь послушно ложится рукояткой в перебинтованную ладонь и продолжает верой и правдой служить тому, кому недавно пустил кровь…
Да, это был профессионал высочайшего класса, идеально подходящий для выполнения той работы, ради которой его собирались нанять. Павел Петрович усилием воли подавил вдруг возникшее желание прикарманить такой ценный кадр, спрятать, скрыть его от остальных, присвоить право единолично отдавать ему приказы и обрести таким образом секретное оружие огромной разрушительной мощи и невиданной точности. Это было заманчиво, но не слишком разумно, особенно если вспомнить незавидную участь генерала Потапчука. Да и помимо этого у Павла Петровича хватало соображений, в силу которых данный кадр надлежало использовать именно так, как было задумано, и никак иначе.
На какое-то мгновение кабинет со стоявшей посреди него ожившей легендой как будто растворился, и перед внутренним взором генерала возникла совсем другая картина, никогда не виденная им наяву, но такая ясная, словно он был непосредственным участником тех давних событий и наблюдал происходящее своими глазами. Он видел припорошенный мокрым снегом галечный пляж, сырые черные скалы, о которые с тупым упорством бился злой холодный прибой, продрогшие вечнозеленые заросли на дальних, подернутых ненастной дымкой склонах и неласковое, тяжелое и серое, как свинец, пестрящее пенными барашками море. Вдали сквозь туман проступали хищные силуэты военных кораблей, которым было совершенно нечего делать в этих водах; сквозь несмолкающий шум прибоя пробился низкий басовитый гул заходящего на посадку самолета. Самолет не был виден, скрытый серой пеленой ненастья, но Павел Петрович знал: в другое время и при других обстоятельствах этому борту ни за какие коврижки не дали бы так глубоко забраться в чужое воздушное пространство – так же, как ни под каким видом не пропустили бы в глубь территориальных вод маячившие на туманном горизонте эсминцы потенциального противника.
* * *
Самолет пробил низкую облачность и начал снижаться, с каждым мгновением увеличиваясь в размерах. К тому моменту, как его шасси коснулись мокрого бетона взлетно-посадочной полосы, он выглядел уже не просто большим, а гигантским – таким, что в души всех, кто наблюдал за посадкой, начали закрадываться сомнения в благополучном исходе этой безумной затеи. Полоса была предназначена для штурмовиков морской авиации; когда ее строили, никто не рассчитывал, что здесь будут садиться подобные военно-транспортные чудища. Собственно, когда этот аэродром строился, транспортников такого тоннажа просто не существовало – во всяком случае, в СССР.
Размалеванная камуфляжными зигзагами и пятнами пузатая серо-зеленая сигара стремительно катилась по полосе. До нее было почти полкилометра, но, увидев в бинокль рваные клочья белого дыма, что поднимались над отчаянно тормозящими колесами, полковник Скориков, будто наяву, ощутил пронзительную вонь горящей резины. Когда самолет коснулся полосы, ощущение, что он вот-вот заденет неимоверно широкими крыльями крутые склоны ущелья, прошло, окружающее снова обрело реальные масштабы, но легче от этого не стало: теперь полковник ясно видел, что самолет слишком тяжел и катится слишком быстро, чтобы успеть остановиться до конца полосы. Если бы еще в кабине сидел русский экипаж! А то ведь эти глотатели гамбургеров теряются и задирают лапки кверху всякий раз, когда ситуация выходит за рамки расчетных значений…
Полковник Скориков поежился, представив самолет, вместе с грузом исчезающий в черно-оранжевом, клубящемся, стремительно раздающемся ввысь и вширь шаровидном облаке взрыва. Вот это будет зрелище! Особенно если знаешь, что именно горит…
Все эти мысли промелькнули за какую-то долю секунды. От них полковника отвлекло назойливое пиликанье телефона, донесшееся из внутреннего кармана теплого камуфляжного бушлата, на плечах и рукавах которого не было никаких знаков различия. Вообще, одеться так, как в данный момент был одет полковник ФСБ Скориков, мог любой дурак, не пожалевший отдать на рынке весьма умеренную сумму за полный комплект зимнего полевого обмундирования, – рыбак, охотник, фермер или, например, сотрудник частного охранного предприятия. В образ «любого дурака» не вписывались разве что кокарда, гордо горевшая во лбу полковничьей шапки, как та звезда, которой, если верить А. С. Пушкину, щеголяла Царевна-Лебедь. Ну и, конечно кобура. Разумеется, рыбак, охотник, фермер, а тем более сотрудник ЧОПа могут, в принципе, владеть пистолетом системы Стечкина, вот только в открытую носить его на бедре вряд ли кто-то из них рискнет.
Морщась, полковник Скориков полез за пазуху и извлек оттуда телефон. Одного взгляда на дисплей было достаточно, чтобы понять: его худшие предположения оправдались. Звонил опять Семашко – раз, наверное, двадцатый за последние пять или шесть часов, – и наверняка все по тому же поводу.
– Ну, что тебе опять, Семашко? – плачущим голосом спросил полковник, нажав клавишу соединения.
– Извини, Михал Андреич, – правильно оценив интонацию собеседника, торопливо заговорил Семашко. Слышимость была отвратительная, ветер и отдаленный, но мощный рев самолетных турбин тоже ее не улучшали, так что голос Семашко – тоже, между прочим, полковника – доносился еле-еле, как будто с того света. Скориков повернулся спиной к ветру, а заодно и к взлетно-посадочной полосе и заткнул пальцем свободное ухо. Слышно стало лучше, хотя и ненамного. – Понимаю, что я тебя уже достал, – продолжал на том конце линии Семашко, – но войди и ты в мое положение. Меня абхазы теребят…
– Чего им опять? – сердито прокричал полковник Скориков, хотя и сам отлично знал чего.
– Они засекли американский транспортник, – послышалось в трубке, – и хотят знать, что сие означает.
– Да пошли ты их на!.. – взорвался наконец Скориков. – Сколько можно, а?! Сказано же им было: все в порядке, сидите тихо, вас это все не касается…
– Прямо так и послать? – В голосе Семашко вдруг прорезались иронические нотки. – Боюсь, их такое объяснение не устроит. Им, видишь ли, непонятно, что это за порядок такой, когда в пределах прямой видимости рядом с их территориальными водами болтаются американские военные корабли, а через их воздушное пространство шныряют натовские самолеты. Они уже договорились до того, что мы якобы снюхались с американцами и грузинами и готовы сложа руки наблюдать, как они оккупируют их маленькую, но, сам понимаешь, гордую республику… Международный конфликт назревает, Андреич!
– Ну, так пусть обратятся прямо в Москву, раз им твоих разъяснений не хватает, – раздраженно посоветовал Скориков. – Что я вам, в самом деле – МИД?
– С Москвой связи нет, – проинформировал его Семашко, сидевший сейчас, надо полагать, в штабной палатке на базе российских миротворцев и, скорее всего, прикидывавший, не спрятаться ли ему от греха подальше где-нибудь в «зеленке», пока все это безобразие как-нибудь не прекратится.
– Ну, а то как же! – ядовито воскликнул полковник Скориков. – Я бы удивился, если б она была… Ну, пусть тогда в Тбилиси позвонят, а еще лучше – прямо в Белый дом…
– Очень смешно, – убитым голосом сказал Семашко. – Они тут с меня скоро скальп снимут, а тебе шуточки…
– Да! – окончательно рассвирепев, заорал в трубку Скориков. – Мне – да, шуточки! Меня все это дерьмо просто до смерти забавляет! Не рви ты мне душу, Геннадий, – добавил он просительно. – Мы с тобой – военные люди, у нас приказ, а кто и почему его отдал – не наше с тобой дело. Скажи своим абхазам, что сегодня их никто оккупировать не будет, это точно. Я тебе обещаю, а ты им пообещай, что к завтрашнему утру американцев этих тут и духу не останется. Короче, держи оборону. Делай свое дело, полковник, и не мешай, Христа ради, мне делать мое…
Когда он, прервав соединение и спрятав телефон за пазуху, повернулся лицом к аэродрому, американский транспортник уже стоял в самом конце полосы – огромный, пятнистый, оливково-зеленый, похожий на неимоверно толстое и непропорционально короткое пресмыкающееся. Сейчас, когда он без движения пребывал на земле, было почти невозможно поверить, что эта титаническая туша способна от нее оторваться. Да еще с таким, чтоб ему пусто было, грузом…
– Сел, – с оттенком разочарования произнес стоявший рядом со Скориковым полковник грузинской госбезопасности Габуния, разглядывая самолет. Его широкое черноусое лицо, самой заметной деталью которого был огромный, полиловевший от холода нос, в данный момент выражало тягостное недоумение. – Слушай, поверить не могу, что я этих клоунов встречаю, как дорогих гостей! Так и хочется выйти на полосу с плакатом «Янки, гоу хоум!».
Произнесенная по-английски с сильнейшим грузинским акцентом фраза заставила полковника Скорикова улыбнуться. С Ираклием Самсоновичем Габуния они вместе учились и не раз пересекались по службе. Было очень приятно, что в этом непростом деле сотрудничать пришлось именно с Ираклием – по крайней мере, не понадобилось тратить время и нервы на поиски так называемого общего языка, на осторожное хождение кругами и прощупыванье друг друга обманчиво нейтральными фразами. Впрочем, Михаил Андреевич Скориков, человек бывалый и видавший виды, не без оснований подозревал, что их с Ираклием встреча на этом продуваемом всеми ветрами грузинском военном аэродроме вовсе не была случайной. Скорее всего, некто очень и очень осведомленный, перелистав личные дела, пришел к выводу, что вдвоем Скориков и Габуния составят отличную команду на эти несколько часов, после чего снял трубку и позвонил в Тбилиси, своему тамошнему коллеге. Что ж, как бы там ни было, повидать Ираклия оказалось приятно. Жаль только, что за работой не останется времени спокойно посидеть за бутылкой, вспомнить былые времена, курсантские хохмы и сослуживцев, многие из которых уже не первый год парят кости в земле – кто в своей, а кто и в чужой…
Через летное поле, дымя выхлопными трубами и рыча дизельными движками, уже ползла колонна большегрузных трейлеров. Двадцатитонные цельнометаллические фуры с броскими рекламными надписями на грязно-белых бортах довольно странно смотрелись на фоне зачехленных истребителей грузинских ВВС и тяжелого пятнистого транспортника с заключенной в окружность белой пятиконечной звездой на фюзеляже. Обменявшись взглядами, Скориков и Габуния уселись в дожидавшийся их «уазик» без водителя. Ираклий Самсонович запустил не успевший остыть движок, и машина покатилась напрямик через поле, наперерез грузовикам.
Грузовая аппарель транспортника начала опускаться, из-за чего самолет сделался похожим на невероятно жирную самку какого-то насекомого, готовящуюся отложить яйца. И действительно, стоило лишь нижнему краю аппарели коснуться мокрого рубчатого бетона, как из раздутого брюха показалось то, что издалека можно было легко принять за яйца какого-нибудь богомола или тли. Одинакового размера, все как один песочно-желтой расцветки, люди горохом сыпались наружу, растекались двумя ручейками и замирали, припав на одно колено, с автоматическими винтовками наперевес, в полной боевой выкладке, в обтянутых матерчатыми чехлами касках, неприятно напоминающих головные уборы солдат вермахта, – американские морпехи во всей своей красе, отборные, обстрелянные, прожаренные яростным солнцем Аравийского полуострова, с песком и пылью Междуречья, забившимися в складки одежды, всего несколько часов назад разъезжавшие на своих «хаммерах» по окрестностям Багдада…
Скориков подумал, что, увидь эту картину кто-нибудь из абхазского руководства, с ним непременно случилась бы истерика. Если не обращать внимания на «пустынный» вариант формы одежды, эти ребятки и впрямь здорово смахивали на десант. Двигались они стремительно и обдуманно, как под огнем, и вид у тех, кто, присев на корточки, охранял подходы к аппарели, был деловитый и решительный – такой, что даже Габуния, которому, по идее, полагалось быть с нынешними союзниками Грузии на короткой ноге, благоразумно остановил машину в полусотне метров от самолета.
– Красиво работают, черти, – заметил полковник Скориков, наблюдая, как морпехи ловко и слаженно скатывают по роликам аппарели какие-то кубические предметы, обтянутые зеленым армейским брезентом. Каждый куб катили четверо, а внизу его сейчас же подхватывал автопогрузчик и, совершив четкий разворот, задвигал в кузов поданной под погрузку фуры.
– Э! – пренебрежительно воскликнул Габуния, аккуратно просовывая под свои роскошные усы фильтр сигареты. – Посмотри, как одеты! Улетали – потели, а тут ноль по Цельсию. Забегаешь, слушай!
Усмехаясь, Скориков дал ему прикурить. Оба знали, что американцы суетятся вовсе не для того, чтобы согреться. Борт прибыл прямиком из Ирака, а там от быстроты, с которой производилась погрузка и выгрузка, зависело, взлетит самолет или останется на полосе грудой исковерканного, чадно полыхающего металлолома. На их глазах происходила отработанная до автоматизма стандартная процедура. Это напоминало работу хорошо отлаженного механизма, и полковник Скориков, человек в высшей степени ответственный и уравновешенный, почувствовал, как толкает его неожиданно проснувшийся дух противоречия – тот же самый, что внушил полковнику Габуния ни с чем не сообразную идею насчет плакатика «Янки, гоу хоум!». Работу этого механизма так и подмывало нарушить – пальнуть в воздух, например, или просто со всех ног броситься к самолету, размахивая руками и вопя какую-нибудь чушь про мир, дружбу и жвачку. Впрочем, с таким же успехом можно было выстрелить себе в лоб из «стечкина» – по крайней мере, эффект обещал получиться точно таким же.
«Нервы», – подумал Скориков, и это была правда: он действительно нервничал и даже не думал этого стесняться. Ему уже доводилось общаться с американскими военными, причем при самых разных обстоятельствах – и в рамках официальных дружеских визитов, и во время двусторонних инспекционных поездок, и в куда менее официальной атмосфере (в Афганистане, например, где пришить американского военного советника считалось большой удачей). Ему случалось с улыбкой жать этим парням руки и резать им глотки, однако нынешняя ситуация была воистину уникальной.
– Послушай, Ираклий, – поддавшись внезапному порыву, сказал он, – ты хотя бы представляешь, что мы все сейчас делаем?
Полковник Габуния затянулся сигаретой – глубоко, так, что красный огонек, разгораясь все ярче, подкрался совсем близко к его пышным усам, – и, отвернувшись от Скорикова, некоторое время смотрел в забрызганное растаявшим снегом окно. Там, за окном, уже выстроилась вторая линия обороны: грузинский спецназ с автоматами на изготовку стоял редкой цепью, повернувшись спинами к американской морской пехоте. «Уазик», в котором сидели полковники, очутился между двумя шеренгами вооруженных людей, в запретной зоне, куда без специального пропуска не посмела бы залететь даже птица. За грузинской цепью, частично скрытые пеленой разгулявшейся непогоды, серыми приземистыми призраками проползали бронетранспортеры.
– Не знаю, Миша, что здесь делаете вы, – откликнулся наконец Ираклий Самсонович, подчеркнув интонацией слово «вы», – а я просто стою на стреме. Помнишь, как в училище, когда по ночам лазили на кухню жарить картошку?
– М-да, – неопределенно произнес Скориков, не зная, как ему реагировать на такой, с позволения сказать, ответ. – Картошку… Знаешь, я бы дорого дал, если бы этот летающий гроб действительно был загружен картошкой. А так… Черт его знает, вдруг это какие-нибудь ядерные отходы?
– Нет! – мгновенно оживившись, засверкал черными глазами весельчак Габуния. – Это не отходы! Это то самое ядерное оружие Саддама, которое их эксперты до сих пор ищут по всей пустыне. Они его ищут там, а оно уже тут, слушай! Какой сюжет, а?!
– А смысл? – уныло спросил Скориков, который за долгие годы их знакомства с грехом пополам научился понимать, когда Ираклий Самсонович шутит, а когда говорит серьезно, но вот соль его шуток мог уловить далеко не всегда – примерно три раза из десяти, а то и реже.
– Зачем смысл? – удивился Габуния. – Люди пошутили, слушай, при чем тут какой-то смысл?
На аэродром вдруг накатилась волна густого плотного рева, и, задрав голову, Михаил Андреевич увидел стремительно промелькнувшие в серой ненастной дымке прямо над их головами стреловидные силуэты истребителей-бомбардировщиков. Их было три – ровно на три больше, чем позволяли международное право и сложившаяся в данном регионе напряженная обстановка. Даже ядерное оружие (нет, ну что за дурацкие шутки у этого Габуния?) вряд ли стоило того, чтобы гнать сюда с военной базы в Турции звено реактивных самолетов и соединение военных кораблей, которые, невидимые отсюда, издалека грозили грузинскому берегу жерлами палубных орудий и расчехленными ракетными батареями.
Габуния со скрипом приоткрыл треугольную форточку и выбросил наружу коротенький окурок. В машине было холодно, и в сочетании с этим густая табачная вонь казалась особенно отвратной. «Сумасшествие какое-то, – подумал полковник Скориков, наблюдая за процессом разгрузки загадочных брезентовых кубов. – А главное, все в курсе. Грузины в курсе и дали «добро», Москва тоже в курсе, не говоря уже о Белом доме… Одни абхазы не в курсе, но их дело – сторона, пускай сидят и помалкивают в тряпочку, пока их никто не трогает. Главное, чтобы в курсе были заинтересованные стороны… Только вот в курсе чего?»
«Из этой командировки ты вернешься генералом, – сказал ему на прощанье генерал-майор Прохоров. – Работа несложная, но ответственная. Ты там просто для страховки, но не воображай, что это дает тебе право расслабиться. Наоборот, приятель, совсем наоборот! Самые пакостные пакости как раз и происходят тогда, когда все вроде схвачено, все согласовано и расписано как по нотам. Вот тут-то, бывает, и вылезет какой-нибудь доморощенный виртуоз со своей собственной партитурой. Так что смотри в оба, полковник, а главное – старайся ни во что не совать нос».
Вот так – не больше и не меньше. С одной стороны, не расслабляйся и держи ухо востро, поскольку за исход операции отвечаешь головой. А с другой – ни во что не суйся. Хорошенькое дело! И при этом абхазы еще имеют наглость быть чем-то недовольными. Знают они, заметим в скобках, ровно столько же, сколько и полковник Скориков (без пяти минут генерал, напомнил он себе, но это напоминание, как ни странно, ничуть его не воодушевило), но при этом, ничего не зная, ни за что и не отвечают. Как, впрочем, и Ираклий. Ему-то что? Почему бы не обеспечить безопасность груза там, где на него заведомо никто не покусится? Это ведь не ему, а полковнику Скорикову предстоит тащить эту растреклятую колонну (шесть большегрузных фур, с ума сойти можно!) сначала через Кодорское ущелье, а потом – мама дорогая! – через всю Чечню…
Впрочем, по поводу Кодорского ущелья и Чечни генерал Прохоров тоже высказался вполне определенно – в том смысле, что немытых воинов ислама взяли на короткий поводок. Но при этом он, опять же, не скрывал (а если б даже и скрывал, так не надо быть семи пядей во лбу, чтобы об этом догадаться), что на короткий поводок взяли только тех, кого смогли, до кого сумели дотянуться. И что в итоге? В итоге – шесть двадцатитонных фур на горной дороге, два бронетранспортера и два грузовика с солдатами в качестве сопровождения плюс командирский «уазик», в котором, как явствует из его названия, поедут отцы-командиры. А кругом – горы, в которых полным-полно всякой швали. И вся эта шваль, что характерно, вооружена до зубов…
А с другой стороны, генеральство в тридцать восемь лет просто так, за здорово живешь, само собой на голову не свалится. Иначе говоря, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Главное, что риск этот оправданный, потому что генерал Прохоров, Павел Петрович, – это такой мужик, что сказал – как отрезал. Сказал, что будешь генералом, – значит, непременно будешь, если сделаешь все как надо и ухитришься при этом уцелеть. А насчет того, что произойдет в случае неудачи, Павел Петрович ничего говорить не стал, потому что тут и так все ясно. Разжалование? Увольнение? Как бы не так! Волком будешь выть, в ногах валяться, умоляя, чтоб сжалились, пристрелили…








