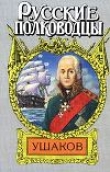Текст книги "Долгие слезы. Дмитрий Грозные Очи"
Автор книги: Андрей Косенкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц)
– «От Господа направляются шаги человека; человеку же как узнать путь свой?..»[2]2
Книга Притчей Соломоновых. Гл. 20, ст. 24.
[Закрыть] – медленно и внятно сказал владыка. Глаза всех с надеждой и удивлением обратились на отца Варсонофия, доселе не произнесшего ни слова.
– Научи, отче!
– Готов ли, сын мой, выслушать меня со смирением?
– Научи, отче! – жарко повторил Дмитрий.
И владыка, многое и многих повидавший на свете, ужаснулся муке в глазах князя.
«Сколь же страдания несет он в себе?! И сколь ему еще вынести?.. Вынесет ли?.. Бедный отрок, – подумал отец Варсонофий. И еще вдруг подумал: – Счастлив ли тот народ, у которого князь – печальник? Но может ли князь над народом быть счастлив, когда слишком много печали на свете?..»
– Слишком много печали, – вслух повторил владыка то, о чем думал.
– Да, отче, – согласился Дмитрий и спросил: – Так как же мне быть?
Он глядел неотрывно, и даже владыке стало неуютно под его холодным и жестким взглядом.
– Молви, отец! – жадно попросила и Анна Дмитриевна. – Все ждем твоего слова.
– Я здесь брату моему, ростовскому епископу Прохору поклон посылал с чернецами… – начал издалека владыка.
Хоть и первым стоял он пред Богом в тверской епархии, однако теперь пусть самую малую долю приходилось владыке лукавить. Еще в мае Анна Дмитриевна, сама до замужества княжна ростовская, упросила отца Варсонофия обратиться за помощью к ростовскому предстоятелю, дабы тот согласился выступить поручителем от тверской стороны перед Юрием. Делалось то без ведома Дмитрия, потому что тогда он и слышать не хотел ни о каких переговорах с новым великим князем владимирским. О каких переговорах могла быть речь, когда при одном упоминании имени ненавистного Юрия, даже если и молчал Дмитрий, так одно слово, чище иного вопля звучало в его глазах: «Убью!..» Однако отец Варсонофий послушал княгиню и действительно послал чернецов с письмом к отцу Прохору. Накануне пришел от него ответ. Владыка Прохор сообщал, что готов выступить миротворцем меж великим князем владимирским Юрием Даниловичем и тверским князем Дмитрием Михайловичем. Впрочем, многоопытный Прохор, разумеется, не мог поручиться за благоприятный исход дела, он лишь обещал сделать все, что в его силах, для того чтобы переговоры не кончились обманом да кровью, как все того ждали…
Но, пожалуй, и сам Господь Бог не мог бы поручиться за Юрия. Всем известен был его подлый нрав. Что ему ручательство ростовского епископа, когда, с легкостью нарушив отцову клятву, убил он рязанского князя Константина, когда он митрополита Всея Руси Максима обвел вокруг пальца, еще четырнадцать лет тому назад пообещав ему не тягаться с Михаилом в Орде за великокняжеский стол, что ему людской да и Божий суд, когда в черной его душе вроде и вовсе нет светлого пятнышка, как в бездонном колодце?.. Однако и вовсе пустым ручательство Прохора быть не могло. Знать, дал Юрий слово не лить боле крови. А русские-то люди доверенны, им верное слово порой бывает важнее, чем дело, а уж ротничества народ не терпит хуже иного злодейства…
Одним словом, владыка Прохор писал, что Юрий готов принять Дмитрия во Владимире «на всей моей воле…». То есть, надо было полагать, при том условии, что Дмитрий вчистую откажется от всякой борьбы за утерянную со смертью отца русскую законную власть и присягнет на верность Юрию как сыновец. А там – бог весть, какие еще у него условия! Еще хорошо, что согласился переговариваться, другого-то ни Анна Дмитриевна, ни отец Варсонофий не ждали. Но это было еще полдела! Теперь надо было повернуть еще так, чтобы ни в коем разе не допустить того, чтобы Дмитрий пошел во Владимир. Мало того что ни у княгини, ни у святых отцов не было веры Юрию, ничто: ни верное слово, ни поручительство – не могло упасти Дмитрия перед ним, если бы Юрий решился разом покончить и с законным наследником, но дело было еще и в том, что сам Дмитрий был вовсе не тем человеком, который способен спокойно взглянуть в глаза убийце собственного отца. Впрочем, спокойно-то, пожалуй, никто не посмотрит, но с Дмитрием опасность заключалась в том, что при виде Юрия он вряд ли мог удержаться пред жаждой внезапной и безрассудной мести. Не всякому дано видеть рядом убийцу отца и не отомстить ему, и более того, покорно склониться пред ним и признать его волю. Так что переговорщик из Дмитрия был никудышный. Безумие было отправлять Дмитрия во Владимир, равное тому, что предлагал Федор Ботрин. И здесь и там только смерть и война… Боясь, что силы ее слов для сына окажется недостаточно, боясь и того, что Дмитрий еще и осудит ее за то, что первой пошла навстречу Юрию, Анна Дмитриевна и попросила владыку, насколько он сможет, уладить дело иначе.
Оттого и молчал так долго отец Варсонофий, ожидая того мига, когда слова его окажутся внятны.
– Так вот, сын мой… ответ ныне мне дал ростовский владыка.
– Об чем?
– Так ведь сносился он с Юрием.
– От чьего имени? – Дмитрий скоро мимолетно взглянул на мать, глядевшую на него смиренно.
– От моего, от моего, Дмитрий Михалыч, – спокойно, не сморгнув, ответил владыка. – Ибо поставлены Господом не затем, чтобы мешаться в мирскую власть, но Божью волю и над князьями блюсти… Так вот, – отец Варсонофий помедлил, прежде чем сказать главное, – готов принять тебя Юрий.
В гриднице стало так тихо, что услышалось, как бьется муха под потолком.
– Принять, значит, готов меня Юрий… – раздумчиво повторил князь и недобро усмехнулся: – Чай, на всей его воле?
– На всей его воле, – согласно кивнул владыка.
– Так не будет того! – твердо ответил Дмитрий и опять взглянул на княгиню.
Глаз княгиня от сына не отвела, только лицо ее стало жалко – не поймешь, то ли улыбается, то ли плачет…
– Сынок, Дмитрий Михалыч… – прерывисто, будто девочка после слез, вздохнула она. – Константин-то ведь у Юрия, брат твой, бояре… Отец в Москве не покоен!
– Так что ж, матушка, али еще раз уж мертвого его на поругание отдать? Али простит он мне, что я убийце его в ноги кланяюсь?..
«Господи! Да будет ли конец этой муке?!» Народ в. гриднице не смел смотреть на семейное. Тошно, ох тошно видеть людям печаль и унижение великих! Впрочем, когда тошно, а когда, однако, и весело – это уж судя по тем великим, что вдруг на глазах опрокинулись…
– «Не говори: я отплачу за зло! Предоставь Господу, и он сохранит тебя…»[3]3
Книга Притчей Соломоновых. Гл. 20, ст. 22.
[Закрыть]
Владыка Варсонофий поднялся со скамьи, и следом за ним поднялся со своих мест весь епископский причет. Уперев руки в столешницу, встал и Дмитрий. Наконец та слепая, тусклая да тоскливая пелена спала с его глаз. Глядя теперь на него, всякий бы догадался, что перед ним не кто иной, а именно тот князь – Грозные Очи!
– Не говори мне про то, отче, не говори! Верю в милосердие Божие, но не верю в справедливость Его! «Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем…»[4]4
Екклесиаст. Гл. 7, ст 15.
[Закрыть]
– Молчи, сын, молчи! – Анна Дмитриевна в ужасе прикрыла лицо руками.
– «Еще видел я под солнцем: место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда…»[5]5
Екклесиаст. Гл 3, ст 16.
[Закрыть]
– Что ж ты далее не твердишь, сын мой? – Теперь Варсонофий в силе Божиего слова стоял спокоен и величав. – Там далее и ответ учтен: «И сказал я в сердце своем: праведного и нечестивого будет судить Бог; потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там…»[6]6
Екклесиаст. Гл. З, ст.17.
[Закрыть]
– В то – верую! – истово осенил себя крестным знамением Дмитрий. – Но то – будет там, а здесь, на земле, я своей жизни и чести князь.
– Не отниму того у тебя, – согласился владыка и тут же погрозил перстом князю. – Но еще отвечу: «Смотри на действование Божие: ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым?..»[7]7
Екклесиаст. Гл.7, ст. 13.
[Закрыть]
– Могу! – сквозь стиснутые до боли зубы не ответил, а как-то рыкнул Дмитрий.
Тишина в гриднице стала еще гуще, кажется, сгустилась и затвердела до той нестерпимой степени, когда становится слышно, как бьется под горлом кровь.
– Что ж, сын мой… не ждал от тебя другого. И не виню тебя. – Владыка вздохнул. – А все же остерегу. Знаешь же, как сказывал Соломон-причетник: «Мерзость пред Господом – неодинаковые гири, и неверные весы – не добро…»[8]8
Книга Притчей Соломоновых. Гл. 20, ст. 23.
[Закрыть]
– Знаю, отче…
– Так вот что… – Отец Варсонофий помолчал, видно подбирая слова, и продолжил не прежде, чем вновь опустился на лавку. – И я так мыслю, что негоже тебе во Владимир идти. И тому Юрию кланяться. – Дмитрий вновь вскинул глаза на владыку, но уже с удивлением. Тот же продолжал, будто и не заметил Князева взгляда. – Ныне ты – князь тверской. На тебе и честь, и покой наш. Один ты за всех и за все в ответе. Так вот, мыслю я… коли ты поклонишься – на всю Тверь тень падет. Коли не поклонишься, ни Твери мира не видать, ни брату твоему Константину – добра, ни боярам – жизни, ни убиенному, Царство ему Небесное, пресветлому князю Михаилу Ярославичу – покоя не будет. Одно – нетерпимо, другое – худо… – Варсонофий умолк.
– Научи, отче!..
– Молиться Господу надо, – вроде бы мимоходом обронил Варсонофий. – Вот я и ныне молился. И сошло просветление…
– Молви, отче!.. – будто завороженная, прошептала княгиня.
– Так вот что понял: не тебе – Александру надо во Владимир идти. Брат твой примет позор – не ты! А значит, и Тверь того позора минует. А значит… – Варсонофий умолк.
Много то значило. И все поняли ту мудрую хитрость, не стоило и растолковывать. Александр будет говорить с Юрием как родич, как сын убитого, всего лишь как брат Константина, но вовсе не как владетельный князь. В том и был дальний загад княгини и отца Варсонофия. Разумеется, Юрий может отказаться с ним говорить, однако вряд ли достанет у него духу перед всем миром отказать сыну в том, чтобы отдать ему на христианское погребение тело отца. Далее что – неизвестно. Однако и того уже для первого шага было б достаточно. А вдруг умилится Юрий видом юного Александра, в скорби отпустившего до плеч волосы, смилостивится да и выдаст ему Константина с теми боярами?.. Чего на свете не бывает!..
Александр же со своей стороны не может взять на себя обязательства за старшего брата. Опять же, если Юрий и вынудит Александра признать его волю, так то признание частно и всей Твери некасаемо, потому как не от тверского же князя получено… Кроме того, всем было ясно: Александр – не Дмитрий, как ни горд, а то испытание, поди, легче вынесет, да и худого не сотворит…
Конечно, и этот ход во многом был слаб и во многом сомнителен. Ничто, например, не могло удержать Юрия взять еще в придачу к Константину с боярами в заложники и Александра с иными, всякое могло статься…
Дмитрий сидел не шелохнувшись, лишь правый угол губ криво поплыл на щеку.
Чуть погодя, не глядя на брата, спросил:
– Готов ли к тому, Александр?
– Брат! – Александр проворно вскочил, и более спрашивать его было не о чем. Щеки его пылали румянцем то ли просто здоровья, то ли смущения от оказанной чести, в глазах виделись светлые слезы.
– Ну что же, владыка, будь же по-твоему. Спасай же Тверь и меня…
В гриднице было тихо.
Глава. 6 Разговоры на Твери
После томительного, жаркого дня сошла на Тверь благодать летней ночи. Низкое небо темно и космато от облаков, вдруг вспыхивающих темными медвежьими да коровьими тушами в мерцании дальних зарниц, К полуночи короткий прогонистый ветер разогнал облака. Небо разом вызвездилось и стало выше. Прогретая за день земля медленно, неохотно расстается с теплом, отдавая его свежему воздуху и воде, что клубится нежным, седым парком.
Тихо. Ни ветерка, ни шороха, ни перешептывания листвы. Оттого всяк редкий звук особенно сочен да смачен, точно падает в глубь колодца. Взбрехнет ли спросонок одиноко собака, провожая какого-нибудь загостившегося у вдовицы или молодухи гуляку, – так будто видишь и ту собаку с влажной, горячей пастью, что ляскает в темноте белыми да длинными, как ножики, зубьями, и того счастливого молодца, что крадется, прячась от тятьки, пройти незамеченным на сеновал, да и ту утомленную скорыми и жадными ласками молодуху, что остатне, уж усыпая, все еще сладко вздыхает, раскидав по постели мягкое тело. А то вдруг, как змей небесный, низко летя над улицей, прошелестит крылами совища, ненароком залетевшая с лесной стороны; да, пролетая, так заухает, так закычет, что у того, кто ее услышит, кровь в жилах застынет от ужаса. Сказывает, от того крика у кормящих молоко прокисает в грудях, у черных душой людей сами по себе волосы белеют во сне. Бывает так: с вечера заснет человек с черною бородой, наутро проснется – будто солью ее нарочно посыпали. Так то – сова пролетала…
Мышь ли пискнет в норе, рожая, рыбища ли сыграет хвостом по воде, яблоко ли в саду падет наземь, конь ли всхрапнет, все ночью слышно! Не слышно лишь, как люди любятся, плачут да шепчут промеж собой, а то в бессонном одиночестве просят у Бога милости и прощения али, напротив того, ярятся злобой, какую днем-то надобно им скрывать под иной – благодушной – личиной.
Темно и глухо в домах на Твери. В редком оконце зыбится неверный свечной огонь, да еще по волжскому берегу ярко горят кострища у рыбарей. Вот уж как по первому солнцу станут они тащить сети да невода, так весь берег Заблистает, укроется серебряной да червленой рыбьей чешуей! Золотые лещи, ротастые налимы, красноперые голавли да язи, брюхатые сазаны, быстрые судаки, язвленные тинной крапиной щуки, узкохвостая чухонь, полосатые окуни, круглые караси, синцы, плотвицы да прочая мелкота – все без счету! На счет – кривые, блесткие сабли стерлядок, крутые бока осетров да иная скусная белорыбица!.. Но то будет утром, а покуда спят рыбари. Впрочем, где и голос раздастся: кто вдруг песню со скуки затянет, кто дремную сказку зачнет, кто так меж собой перемолвится, ан слов не понять. Глухи ночью слова у людей…
– Деда, деда, ты спишь?
– Дак нет – куды! Я ужо, знать, свое отоспал.
– Деда, деда, а Господь Бог сильный?
– Бог-от?.. Как не сильный, чать, он Всевышний! Все в его власти.
– Деда, деда… А бес?
– Что ты рогатого-то на ночь кличешь?.. Спи уж!.. А что бес-то?
– Так, сильный он, говорю?
– Бес-от?.. Тоже, чать, сильный.
– Деда, а Бог-то сильней?
– Вестимо – сильней!
– Деда, а деда, так что ж он его не споймает?
– Кто?
– Да Бог-то!
– Кого?
– Да этого ж беса!
– Тьфу ты!;. Прости меня, Господи!.. Вот заладил-то! Спи уж…
– Внучек, внучек… Спишь, что ли?
– Нет, деда, не сплю.
– Слышь, что говорю-то?
– Чего?
– Видел червей-то в говне? Мерзкие этакие, белесые?..
– Как не видел – видал!
– Так вот, думаю, так же и бес сидит в каждом из нас до времени тихохонько, покуда не вылезет, окаянный. А ты его разве внутрях разглядишь?
– Нет, деда…
– Так же и Бог, думаю… Смотрит Он на нас сверху, все ему любы, ан бес-то внутри… Рази его уловишь?
– Вона что… Деда, али и во мне тот бес?
– Нет, внучек, что ты! Господь с тобой! Покудать ты маленький ишшо, нет, вот ужо, как вырастешь, тогда… А ты вон что: молися Богу-то, он тебя и убережет…
– Деда, деда! А пошто ж Бог-то не внутри нас?
– Дак я, ить, не знаю… На иного-то глянешь – истинно в нем Благодать Господня!
– Как во князе Михаиле была?
– Да хоть бы и в нем… А на иного-то и вовсе б глаза не глядели!
– На кого это, деда?
– Да мало ли…
– Деда, деда…
– Что, внучек?
– А в тебе-то бес есть?
– Тьфу ты!.. Типун тебе на язык!.. Эх, грехи наши тяжкие… Коли и был, так уж вышел давно. Что ему до меня?..
– Деда, деда…
– Да спи ты уже…
А в княжьем дворце не спит Александр. Вздул огонь в плошках. В одном шелковом чехольчике сидит на постели. Коленки подтянул к подбородку – дивится сам на себя.
Днем-то, как услышал решение братово, возрадовался, даже сердце чаще в груди забилось. Мол, уж я-то пойду к тому Юрию, все стерплю, все исполню заради отца и брата. Ан теперь отчего-то смурно на душе, точно боязно. Откуда этот страх?
Разве страшно стоять за правду? Он ведь к Юрию во Владимир не лукавым послом идет, о чем просить станет, так в том ничьей чести урона нет – отца отдай да брата освободи! Что в том бесчестного?.. А все же, все же не по себе ему, муторно на душе, как перед битвой, которую заведомо проиграл. Отчего так?.. Ведь не за жизнь бережется! Знает: не резон Юрию его теперь убивать. Не его черед ныне, иначе и Дмитрий ни за что бы не согласился подставить его вместо себя. Да потом, сызмала привычен к мысли: чему быть, того уж не миновать… А все же, все же…
Али он и правда не крепок?..
Вот ведь тогда на Нерли: разве не искренне молил он отца – чтобы его, Александра, послал вместо себя в Орду? С братом Дмитрием тогда и молили. Разумеется, знали, что отец умереть им вперед себя ни за что не уступит. Но Ведь и не пустые то были слова? А если бы вдруг отец согласился и пришлось идти – пошел бы?.. Дмитрий – тот бы пошел, от слова не отступил, но то, ясное дело, Дмитрий! А он, Александр, также принял бы смерть за отца? – тот вопрос давно уже мучает Александра. Пожалуй, с того августовского дня, когда прощались с отцом, И мучает… И нет на него ответа. Разно всегда выходит у Александра с ответом. То он сам себе отвечает: «А что ж, конечно, пошел бы в Орду за отца! И смерть бы принял, коли б разом да без мучений, а что ж!» – и знает в тот миг, что не тешится, не обманывается на собственный счет. А то вдруг так ясно и жутко видит, что струсил, струсил!..
И то, отец-то уж пожил, вон какую махину дел своротил, чуть бы еще – и надо всею Русью единым царем сотворился!.. А он, Александр, что он? Девку толком не щупал, не то что о каких-то великих делах помышлять!..
«Вот жизнь моя, батюшка. Возьми ее, коли для отечества надо…» – выговорить-то не легко, не то что… Так ведь сказал же! Али бы отступился? Страшно…
Кровь-то, она у всех одинаково по жилам бежит, ан слышишь-то лишь, как своя в сердце тукает.
«Тук-тук…» Мягкими пальцами кто-то стукнул о дверь.
Матушка.
– А я гляжу – свет у тебя не гаснет. Али не спится тебе, сынок?
– Не спится, матушка.
– Что так? – Мать глядит ласково, не судя. – Али сердце страхом смущается?
Спросила и глаза отвела, будто о пустом и спросила.
– Да, смущается, матушка.
– Что ж, ничего… На то ему испытание. Это, ить, допрежь дела-то у всякого смельчака бывает.
– Так ведь сам не пойму, матушка, чего и боюсь? Ведь ни плена, ни казни, ни иной какой муки! Да и не казнит он меня, ведь так, матушка?
Мать глядит на него спокойно, даже с тихой улыбкой, точно не в стан к врагу отпускает, а погулять с боярчатами.
– Что ты, Саша! Казнит!.. – Она легко усмехается. – Чай, не ты в роду старший, не тебе и ответ перед ним нести. Да и ты ему не мертвый, а покоренный нужен. Потому-то и удержали Дмитрия.
– Али ты думаешь, матушка, я покорюсь?
– Не о том теперь речь, да с тебя покуда не спрос… – Анна Дмитриевна тяжко вздыхает, и сразу становится видно, как ей тяжело казаться перед сыном спокойной. – Костяню надобно выручать, отца хоронить…
– Знаю, матушка, знаю! – Теперь Александр улыбается, дабы утешить мать.
– А Юрия ты не бойся, – говорит Анна Дмитриевна. – Он ведь лишь зверством силен, а не сердечной крепостью.
– Да я и не боюсь его, матушка. Что мне! – взмахивает он по-детски руками и осекается. – Ан отчего тот страх во мне, и сам не пойму? Да и не страх то, матушка, а точно оторопь. Ну, знаешь вот, как в лесу – за ягодой руку потянешь, а там, возле самой-то ягоды, гадючка осклизлая. Рот расшеперила, глазками смотрит, а рука-то уж чуть ее не касается… и не знаешь: то ли она сейчас кинется зубом, то ли вбок ускользнет?.. Так как-то, матушка, даже не страшно, а противно, гадко, что ли, вдруг сделается, и стоишь с той рукой протянутой, не в силах пошевелиться – не знамо, жив ли, мертв ли уже… Не страшно, а тошно, матушка…
– То-то, Саша, что тошно. Змей он и есть! – соглашается Анна Дмитриевна. – А ты в глаза ему не гляди, слышишь, сын. Вон чего тебе боязно! – догадывается она. – Странно то… Сама не ведаю, Саша, отчего и безгрешному так тяжко бывает рядом с иным нечестивым? Отчего так? Ведь и Бог за него, за безгрешного, и сил в нем не мене, ан столкнутся взглядами, так честный-то первым порой глаза опускает, словно это он в чем виноват, или слаб, или боится… А ведь другому, другому на свет да на людей глядеть заказано! Так у тебя, Саша? Того боишься, что взгляда его не выдержишь?..
– Истинно так, матушка! Не меры его боюсь, а лишь того, что с ним мериться буду.
– Переступи через то. Знай, сколь он низок, и не бойся его. Бог с тобой будет.
– Матушка… а пошто Бог оставил отца, когда его убивали?
– Не так то, Саша! – мягко укорила сына Анна Дмитриевна. – Отец сам встал за Бога, страдания принял за Него и за нас. Смерть смерти рознь, знаешь ведь?..
– Знаю.
– Ну, пойдем же! Помолимся с тобой вместе.
– Пойдем, матушка.
Ночь. Тихо в тереме. Двое стоят на коленях перед строгими, темными ликами, что в колеблемом свете лампадки глядят с отцова иконостасца то сурово, то ласково.
Тихой и ясной речью плывут слова к Господу:
– Не дай, Господь, бесславной смерти чадам Твоим.
– Не дай, Господь, забвения, но дай покой убиенному слуге Твоему благоверному Михаилу…
– Не дай, Господь, гнева в сердце и ярости, но дай нам крепости на врагов Твоих…
– Не дай, Господь, неправде служить…
– Не дай, Господь, восславиться на Руси бесчинной, преступной власти…
Услышь, Господи, о чем просят они!
Неровно вервие горит в масляной плошке: то вспыхнет ярко, то чадом зайдется, колеблет тени по бревенчатым стенам боярской горницы. Мал круг света от этой плошки, да болыне-то и ненадобен – двое тесно сидят за столом, голова к голове, так, что тень от них одна-одинакова, ползет-уползает в угол, там, в углу, и вовсе воедино сливаясь – не отличить.
На столе давно уж пустая братина, нужно б девку позвать – донести вина, да, видно, и вино им уже ни к чему. И без вина больно крут идет разговор…
– Эх, братка! За тобой я пришел! Слышь ты меня-то?
– Слышу.
– Сам видишь – не будет здесь боле покоя. Сомнут Даниловичи Михайловичей! Уходить пора!
– Легко сказать – уходить! Куда?
– Али я тебе не талдычу полночи? Говорю тебе: на Москву иди, там ныне праздник-то!
– В чужом-то пиру незваному гостю похмелье. Как чашей-то обнесут, что мне прикажешь – обратно бечь?
– Да зачем же обратно, братка! Говорю же: сам князь Иван меня за тобой послал!
– Так еще повтори. Сам Иван, говоришь?
– Говорю же! Он впрок мыслит – люди ему нужны! Не ныне, так завтра понадобятся… Слышал он про тебя. Сказывали ему, как ты корел-то давил, а на Твери-то тебя чуть не бесчестили…
– Ладноть!
– Брат твой, говорит, москович природный. То, что отец ушел, – отцово и дело, отцова и вина, он, мол, за нее головой заплатил. А, мол, его вины передо мной нет ни в чем, нечего ему и горе мыкать в чужой стороне. Пусть, мол, назад бежит… Я, говорит, ему и отцово верну, и новое выплачу, коли заслужит…
– Больно стелет мягко!
– Так ты и верь ему вполовину и то внакладе не останешься, слышь, что ль?! Ан здесь-то многого ты достиг?
– Куда!..
– То-то! Вот батюшка и голову за них сложил, а много ли чести? Слыхал я, как по сю пору его срамотят…
– Так что ж, вполовину-то?
– Да уж так – вполовину! Князь-то Иван тоже… прижимист. Зело скуп – в батюшку. Однако, коли заслужишь – озолотит. Слышь, что ль? Ступай, брат, на Москву! Сколь за отцом деревень-то стояло, знаешь ли?
– Так, ить, не мало.
– То-то! Коли и половину отдаст, и то не последним на Москве боярином станешь!
Душно в горнице и до того тихо, что, кажется, слышно, как шевелятся в головах от мыслей мозги.
– Ишь, половину!.. Мало!
– Так ведь как поклонишься и ко двору придешься, может, и все отдаст!
– Так, ить, и. ты, поди, запросишь чего?
– Что ж, запрошу… Так я ведь, Федя, не чужой тебе! Хоша и не единоутробный, а брат. Все же, как ни суди, а от одного мы корня-то! Али и по сю пору не веришь, что я брат твой?
– Как тебе, идолу, не поверить?.. – вздыхает Федор Акинфыч Ботрин, взглядывая, как в зеркало, в темное лицо собеседника.
И то, коли раздельно на них глядеть да в мыслях о родстве не держать, куда ни шло – разны! Но коли поставить их рядом да еще на ушко шепнуть о родстве-то, так и слепому увидится: одна кровь. Оба черны, востроглазы, волосаты, носасты и, хоть один при этом пригож лицом, а другой страхолюден, в обоих есть сходство с Акинфом Великим. И пусть один худ и вертляв, точно нахохленный грач, другой – осанист, широк плечами и вальяжен в движениях, в обоих, как приглядишься, узнается одна стать. А то, что разны, так и это не мудрено, чай, и выношены разными чревами.
Федор – младший брат из трех Акинфовых сыновей, что принесла ему первая супружница, своей смертью умершая в Москве еще года за три до того, как Акинф переметнулся на Тверь. Из тех сыновей теперь в живых был лишь Федор. Старший вместе с отцом погиб под Переяславлем, средний тоже принял лихую смерть, но уж в новгородских наместниках.
Данила же Челядинец (а это именно он сидел против Ботрина) был куда как младше Федора. Он и рожден-то был в тот год, когда Акинф убежал от князя Ивана на Тверь. И рожден был Данила вне брака.
Жила у боярина Акинфа в наложницах то ли жидовка, то ли персиянка, незадолго до того купленная им за красу на Каффском людском базаре. Говорили, мол, души в ней Акинф не чаял. Однако убегал он из Москвы, спасая голову, спешно, потому, знать, не сумел о ней позаботиться, оставив ее врагу на сносях. Впрочем, потом, говорят, сильно жалел о ней Старый Акинф. В Твери-то уж не было у него такой любезной утешницы… Вт та наложница и родила Данилу уже в людской князя Ивана. Родила, а сама-то и померла, недолго после того промучившись…
Но ведь была у Акинфа еще и вторая жена из московских боярышень, на которой женился он спустя некоторое время после того, как овдовел. В свое время на Москве про ту боярышню и Акинфа многое и разное сказывали: то ли она ему постыла была, то ли он ей… Словом, что-то у них не заладилось, а то досужие люди мигом угадывают и уж трепят языками без всякой совести. Так вот, после того как сбежал Акинф из Москвы, след второй жены затерялся. Одни говорили, что и ее, беременную, Акинф оставил в Москве и там она, мол, померла, то ли родив, то ли скинув до времени безрадостный плод, другие говорили, что, напротив, увез ее Акинф с собой в Тверь, а уж в Твери, мол, тайно постриг в монастырь. Третьи и вовсе болтали, что, мол, из-за той боярышни и поссорился Акинф с Даниловичами, мол, приглянулась она кому-то из них, и более того – от кого-то из них же и понесла, только точно не сказывали от кого: от Ивана или от Юрия? И за то, мол, за свой позор убил ее в гневе боярин по дороге на Тверь. Находились даже такие, кто и могилку видел бедной боярышни. В общем, с той женой выходила полная несуразица. Во всяком случае, на Твери той Акинфовой жены никто не видел, хотя тоже знали о ней и разное сказывали. Кстати, ее-то в Твери и посчитали за ту наложницу, что родила в Москве, а вернее, ту наложницу считали оставленной Акинфом женой.
Разумеется, Федор знал о том, что где-то в Москве – жив ли, нет ли? – но есть у него еще брат. Подозревал он, что и те разговоры про вторую жену отца были не вовсе зряшны, хоть мало-мало, но он ее помнили вполне допускал, что где-то на свете бродит еще одна родная ему душа. Какими б мы ни были, однако в вечном сиротстве ищем мы на земле своих и вдвойне рады, когда своим оказывается к тому же единокровник… Оттого, лишь вглядевшись чуть пристальней, поверил он сразу Даниле, когда тот вдруг открылся ему. Но, как ни велика и внезапна была та новость, что брат отыскался, но и она померкла, когда Федор узнал, какое слово принес ему Данила от московского князя…
Чует Федор правду в словах Данилы, да не просто ему решиться разом жизнь изменить. Хотя уж знает сам про себя, что решился, давно уж решился, оттого ныне по Данилову наговору и подбивал столь рьяно Дмитрия немедля идти на Москву.
– Так много ли с меня-то запросишь? – еще раз спрашивает он у Данилы.
– Что ты! Что ты, братка! Много ль мне надо? Одного хочу: не век в чужих людях челядинцем пребывать! Нажился уж в людях-то! Что дашь, тем и рад буду! Воли хочу! Пойдем, брат, со мной, слышь, брат!..
– А коли я Дмитрию-то скажу, на что меня подбиваешь, а, брат? – спрашивает вдруг Федор, не отводя от Данилы тяжелого, будто хмельного взгляда.
– Не выдашь, – едва усмехнувшись, спокойно отвечает Данила.
– Почему же?
– А ты ведь, Федор, чужой здесь. Я-то сразу сердцем тебя различил среди прочих. И понял: один ты здесь, Федя. Али не так?
– Так! – С силой Федор Акинфыч бьет рукой по столу, так что опрокидывается на пол пустая братина.
Данила не спеша наклоняется, поднимает ее.
– Вот и ладно. Уходить тебе надобно. Верно говорю: князь Иван тебя с честью ждет! Ступай, брат, на Москву.
– А ты?
– Что ж я? Чай, я тебе не поводырь, а ты не слепой – сам дорогу отыщешь, дорога известная.
– А ты? – настороженно повторяет Федор.
– А мне еще Дмитрию надобно послужить. – Данила улыбается, отчего лицо его делается еще острее и гаже. – Уйду, как время придет. Князь Иван-то, – подняв значительно палец, поясняет Данила брату, – многохитер, у него во всех землях свой глаз да ухо приставлены. Потому обо всем наслышан! От князь-то мудреный!.. А Дмитрий – что ж, слаб он, молод против Даниловичей. Что на уме, то и в глазах прописано, а что проку попусту глазищами-то сверкать!
– Как ни слаб, ан не пошел на Москву-то. Уж я старался, – замечает Федор Акинфыч.
– Ништо, – утешает его Данила. – Была б голова на плечах, а петлю-то ей примыслят.
Федор отводит глаза, вздыхает, не зная, как ответить на то, и, вдруг впервые, неожиданно для себя самого называет Данилу братом.
– Да вот, брат… Здесь-то и правда, худо мне, худо! Веришь ли, девку любую и ту Дмитрий себе забрал, – жалуется он Челядинцу.
– А ты, брат, не горюй – на Москве-то энтих девок – что лошадей у татар на базаре. Да и девки-то иным не чета, чисто что твои лошади, всякой масти для сласти. Э-э-э… – скалится да жмурится Данила, – таки есть сисясты да крутобоки!..
– «Э-э-э… сисясты!» – передразнивает его Федор зло и обиженно. – Дурак ты, брат! Любая она мне…
– А ты, Федя, не серчай, коли сказал что не так, не со зла я. Мы ведь, чай, родные с тобой…
– Ладноть! – машет рукой на Данилу Федор. – Чего уж…
– Ах, кабы девка-то еще вина принесла, я бы выпил, а, брат! – предлагает Данила. – Больно ноне ночь хороша!
Федор готовно идет к двери, приоткрыв ее, кричит в темноту:
– Глашка!
Воротясь к столу, вздыхает, крутит озабоченно головой:
– Пустым-то мне к Ивану идти неохота. Беда – Юрия предупредить не успеем.
– А и о том не печалуйся, – проворно, умело собирая со стола заветрившуюся закуску, мимоходом роняет Данила. – Поди, у князя Ивана-то я здесь на Твери не один таков. Думаю, уж какой молодец еще с вечера на Москву тронулся…
– Да ты что?! – подняв брови и открыв рот, Федор изумленно глядит на брата.
– А что? – смеется Данила на братово изумление. – Говорю же, хитромудр князь Иван! Истинно византийского ума человек!..


![Книга Миг власти московского князя [Михаил Хоробрит] автора Алла Панова](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-mig-vlasti-moskovskogo-knyazya-mihail-horobrit-239654.jpg)