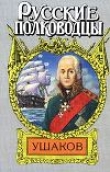Текст книги "Долгие слезы. Дмитрий Грозные Очи"
Автор книги: Андрей Косенкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
Глава 12. Михаил. Последнее утешение
«…и осквернят дом твой, и потопчут обжи, и побьют и унизят твоих людей, и кто любим тобой – будет не вблизи от тебя и не счастлив, и сам ты узнаешь горе, и будешь плакать слезами, и примешь муку на смерть! Но радуйся: ныне и вечно утешишься славой отца своего!..»
Скорбный и светлый лик Пресвятой Богородицы, истинно такой, каким видел на иконе владимирской, явственно был перед взором. Как на Христа-младенца, прозревая судьбу, печально и ласково глядела Богородица в самую глыбь Александра.
– Матушка Богородица, мимо пронеси эту чашу! – плакал и молил Александр.
– Всякая чаша горька, – молвила Богородица и отступила из сна в зыбкую вишневую тьму. И сам сон, так же нечаянно, как явился, истаял, будто его и не было.
Лишь глаза горели от Небесного света, а слез на них – полные пригоршни, как из ковша наплескали.
«Господи! Царица Небесная! В чем утешен-то буду? Али мне нынче горько?..»
Как ни чуден сон, а все ж – только сон. А уж на сколь вещий, разве сразу поймешь? Бывает, покуда сбудется, прорва лет пролетит. Но если и сбудется, неужто, что сбудется через многие годы, увяжешь со сном? Разве вспомнишь его потом? Как ни ярок сон, а все ж – только сон. Да и снилось ли?.. А коли сон в руку, так на то немедленный знак должен быть.
«Как сказала-то Богородица: «…ныне и вечно утешишься славой отца!..» Вон что!..»
Прежде чем выбраться из-под медведны, под которой, видать угревшись, он нечаянно, вдогон сну ночному, и заснул среди утра прямо на верхнем намостье ладьи, Александр рукавом вытер внезапные слезы, дал обсохнуть глазам, дабы приметливый Максимка или еще кто иной тех слез не заметил.
Солнце взошло в полную меру, сияло до ослепления, играя бликами по воде. Сиять-то сияло, но уж грело не так, как в июле. Вмиг от ветра да от воды зазнобился князь, вновь притянул на плечи медведну, что еще хранила его тепло.
Максим Черницын, тут же, недалече, вольно лежавший на досках подперев рукой голову, завидя, что князь проснулся, живо поднялся: может, квасу, может, воды поднести испить?
Александр покачал головой. Спросил:
– Как думаешь, будем в Твери до полудня?
– Должны! Коли ветер не стихнет, так и ранее прибежим!
– Дай-то, Господи! Заждались там, поди…
Из Москвы, ранее, чем сам вышел, посуху отправил гонцов верховых с вестью, что скоро будет. Да намедни, от ближнего Вертязина, где вчера прикололись к пристани по темному времени, еще и иных послал. Да уж и без того земля слухом полнилась: везут! Михаила Ярославича, великого князя везут!.. От самого Святославлева Поля, куда добрались на возках и где пересели на дожидавшие их ладьи, те ладьи, не иначе – по воздуху, с птицами, слух обгонял; ото всех деревенек прибрежных, малых усадищ да монастырских слобод жители выходили к воде, скинув шапки, молча стояли по берегам, провожали глазами ладьи.
Везут! Великого князя везут!
– А кой ныне день, Максим?
– Чай, шестой от сентября, день памяти чуда Михаила Архистратига в Хонех.
– Вон что…
Лето уже отошло, но осень еще не вполне вступила в свои права. Дни стояли ясные и сухие. Как всегда после лета, настоянный ли на зелени луговой, на сини вод и небес, воздух был бирюзов и плотен, как ткань, – кажется, вытяни руку да щупай его руками. Прогонистый ветер в высоком, как глубокий колодец, небе гнал кружевные, легкие облака наперегон с ладьями. Однако поди-ка их догони! Тяжелые, с набоями по железной клепке тверские ладьи против течения бежали не так скоро, как хотелось бы того Александру…
В Москву поспели как раз к Успению. Московичи гуляли весело, широко. И тверичей, будто не помня обид и раздоров, приняли хлебосольно. Да ведь и не диво: чай, одному Господу молимся, у одной Матушки-Заступницы защиты просим. Правда, случается, что защиты-то ищем у нее именно друг от друга…
– …А потому и не получаем искомого: ей-то, Матушке, каково предпочтение иным пред другими отдать? Мы же ей все будто детишки… – с искренним умилением говорил Александру московский князь Иван Данилович.
Слишком ярко помня еще Юрия и наблюдая теперь Ивана, Александр не мог не поражаться природе: эко, из одной утробы исходит столь разное!..
Дело не в том лишь, что внешне разнились братья – Юрий был высок, костист, ясноглаз, бесцветен волосом, а Иван, напротив того, – приземист, тучен телом, черняв и скрытен взглядом; дело было еще и в самих повадках братьев двигаться, говорить, да просто жить… Рядом их представить было немыслимо – один угрюм, вечно зол и порывист, будто волк в западне; другой – тих, улыбчив, даже шепеляв, как березовый лист, неспешен ни в словах, ни в движениях, по мощеному двору в сухой день идет так, будто лужи обходит… В чем и скор, так во взгляде. Не ухватишь, когда и смотрит на тебя, а ведь смотрит – да так, что скользко и холодно делается в груди, точно змейка, которой не видишь еще в траве, ан взгляд ее уже чуешь. Да еще ладошки Иван Данилович этак быстро, забавно трет друг о дружку, точно липнут они у него, чисто как мушка лапками перебирает…
Хотя, надо сказать, что и видел-то Александр Ивана Даниловича совсем коротко. Иван Данилович хоть и был с Александром душевно ласков, но в гостях не удерживал: видно, и впрямь спешил скорее избавиться от Михайлова тела. И на Москве о том беззаконии достаточно разговоров плели, да все не на пользу.
– …Народ-то у нас, известно, жалобен, – говорил Иван Данилович, и слова-то, будто глазки свои суетливые, упрятывая. – А что ж я мог?.. Без воли-то Юрьевой? Чать он меж нами старшой. Абы моя-то воля была, так сам бы, весной еще, как доставили, отвез дядю-то матушке Анне Дмитриевне… Али, думаешь, мне в том честь, что батюшка ваш по сю пору в Спасском-то монастыре лежит неприбранный?.. Да, ить, Юрьев он местник-то был – не мой, не мой, Александр Михайлович… – И по молодости его лет не гнушался Иван Данилович тверского княжича по батюшке величать. – Так-то, абы иначе что?.. – И все всплескивал ручками, с белыми короткими пальцами, унизанными перстнями, точно беспокойная, пугливая баба на сносях, первым разом брюхатая.
Несмотря на то, заметил Александр, как робки в присутствии князя бояре Ивановы. Не то что словом никто не перебьет, но и взгляда прямого не кинет на Ивана Даниловича. Не понять – чем и берет князь московский? Тихи да опасны его слова…
Впрочем, после беседы с ним Александр толком и вспомнить не мог – о чем шла речь? Не говоря уж про то, какого же цвета глаза у Ивана: то ли ржавого, то ли болотистого? Да, по чести сказать, и вспоминать-то о нем не хотелось.
«Бог даст, авось да разминемся!..» – махнул рукой наперед Александр, оставив душные покои московского князя.
Ни в Преображенской церкви Спасского монастыря, когда забирали гроб, ни после в долгом пути, пока везли тот гроб, укрытый опонами, на телеге, ни здесь – на ладье, недостало у Александра сил взглянуть на отца Как ни любопытствовали иные взором проникнуть, и иным не велел до времени рушить сбитые гробовые доски – и без того много тревоги покойному…
Однако же, как ни уныл и скорбен был путь возвращения отцова, но и то тайное, светлое, что связало Александрово сердце с владимирской боярышней, вовсе его не оставило. Будто тихая музыка играла в душе, когда он вспоминал Параскеву. Глядя на пух облаков, видел он ее волосы, глядя на водную синь – видел ее глаза, глядя на то, как солнце лучами бежит по воде – видел ее улыбку, а уж чего представить не мог – о том не загадывал, было ему и того довольно, что сохранила память. Казалось бы, как ни пристало печальным быть Александру на этой скорбной ладье, ан нет-нет да ловил он себя на сладкой, блаженной улыбке, точно и здесь, на ладье, была она рядом – его Параскева…
«Господи! Упокой душу усопшего раба Твоего Михаила», – опамятовавшись, твердил он и просил простить его, грешного, батюшку и Царицу Небесную…
Не доходя до Твери, гроб с мощами отца велел вознести на помост, а тот помост – укрыть дорогими опонами. И вовремя распорядился: лишь управились, показались крытые оловом родные и дальние купола Спаса Преображения.
Слава тебе Господи, прибыли!..
Сколько раз покидал Михаил Ярославич Тверь, ради силы ее и славы! Но всегда возвращался, ради силы ее и славы! Вернулся и в этот раз, дабы впредь, докуда достанет остатних небесных сил, одним святым именем беречь ее, бедную…
Последнее ли то возвращение?[10]10
В 1935 году тверской собор Спаса Преображения был взорван. Останки святого князя Михаила Тверского исчезли.
[Закрыть]
От самой Твери до пригородного монастыря Михаила Архангела точно лента вилась по берегу: плечо к плечу, голова к голове тесно стояли тверичи. При таком стечении народа округ было странно тихо – ни всхлипа, ни стона. Бабы и те пока лишь кусали губы, зажимали готовые скривиться в горестном плаче рты углами платков. Да что бабы! Ветер – и этот утих, будто выполнил свое дело; устало, бестрепетно поникли паруса на ладьях.
Не доходя до городских пристаней, прямо напротив Архангельского монастыря ладья с Михайловым гробом тихо ткнулась носом в мелкое место. Десятки град-ников кинулись ей навстречу. Стояли по брюхо в воде, ждали, когда спустят с борта им на руки гроб. Каждый первым хотел коснуться потемневших, подгнивших дубовых досок.
Ужели и правда все? И более нет на земле их князя? И под этими досками лишь его прах? Прах того, кто принял смерть ради них…
Гроб сняли с помоста, от борта на веревках опустили на руки тверичей, медленно, как святой сосуд, полный всклень драгоценным елеем, понесли на берег. И при виде нищего гроба, от очевидности простоты и неизбежности смерти, точно по мановению руки весь берег зашелся в едином рыдании. Высоко, пронзительно кричали женские голоса – так кричат бабы, теряя детей и единственно дорогих, мужики выли утробой, не стыдясь перекошенных болью и плачем лиц.
Каждому, кто рожден матерью и отцом, кто и ныне живет на земле, допрежь собственных Не миновать и чужих похорон. И хоть главные похороны у каждого – свои, но тот, кто видел во гробе лица близких ему людей, знает, как пусто и неутешно становится в этот миг на земле. Что ж и какими словами можно к тому добавить?..
Здесь же, на берегу явилось тверичам чудо! Как ни высока и ни велика жизнь у иных людей, а все же лишь в смерти дано человеку святостью воссиять.
Когда по велению епископа Варсонофия пред княгиней и сыновьями отбили с гроба верхние доски, прозрели тверичи чудо! Да и что бы то было иное, ежели не явленный Божий знак?
Девять месяцев оставалось непогребенным тело благоверного князя, от дальних Ясских гор везли его до Москвы, в Москве пять месяцев лежало оно не-прибранным и лишь теперь достигло родного приюта… Ан дал Господь Михаилу и после смерти утешить тех, кого он любил.
Князь лежал во гробе мертв, яко жив. Тело его не истлело! Высокий, в залысинах лоб хранил покой, прикрытые веки, казалось, готовы были открыться, губы сжаты так, будто не все досказал и вот-вот сорвется с них слово… Какое?..
– Верую! Верую в Тебя, Господи! – Анна Дмитриевна упала на гроб, приникла к мертвому телу мужа. – Великий княже, господин мой! Отошел от меня еси к возлюбившему тебя Господу! Ты ныне ходатай мой и молитвенник за Тверь перед Ним! Верую, Боже, верую! Господи, Христе, упокой душу его со святыми…
– Со святыми упокой… – запели иноки, но от многого вопля не слышно было поющих.
Так, плачущие, понесли в город. В собор сразу внести не смогли – так было тесно от провожающих. Поставили гроб у дверей, чтобы каждый мог проститься с князем и причаститься чуду.
Стоя на коленях пред гробом, с солью слез мешая молитвы, просила Бога о милости взять ее к себе, следом за мужем, княгиня.
«Ныне утешишься! Ныне утешишься!..» – повторял про себя вещие слова Богородицы Александр. Как маленький, будто в том недавнем утреннем сне он плакал навзрыд, и сам не знал: плачет ли по отцу, наперед ли оплакивает себя…
Дмитрий не плакал. От гроба не отходил. Глаз не сводил с отца. И хоть глаза его оставались сухи, было в них столько любви и отчаяния, что никакие слезы более не добавили…
Михаилов соборный колокол бил в вышине тягостным медным криком. И было неясно: то ли колокол вторил тем, кто рыдал, то ли те, кто рыдал, вторили колоколу…
Часть вторая. 1320–1327 гг

Глава 1. Анна Дмитриевна свеча негасимая
 олее года минуло с той поры, когда, узнав о смерти мужа в Орде, сменила Анна Дмитриевна нарядную, изукрашенную жемчугами кичку замужней женщины на простой черный повойник. Лишь в редкие важные или торжественные дни, выходя на люди, надевала она поверх повойника тонкий да высокий золотой княгинин венец, еще при венчании воздетый ей на голову самим Михаилом. Ах, кабы знал кто, как тяжек ей стал тот венец!..
олее года минуло с той поры, когда, узнав о смерти мужа в Орде, сменила Анна Дмитриевна нарядную, изукрашенную жемчугами кичку замужней женщины на простой черный повойник. Лишь в редкие важные или торжественные дни, выходя на люди, надевала она поверх повойника тонкий да высокий золотой княгинин венец, еще при венчании воздетый ей на голову самим Михаилом. Ах, кабы знал кто, как тяжек ей стал тот венец!..
Внешне вдовство почти не изменило Анну Дмитриевну. Лишь суше, строже стало ее лицо, да у глаз легли вечные скорбные тени. Но тот, кто знал ее издавна, хоть словом обмолвившись с ней, не мог не заметить, как внутренне разительно преобразилась княгиня. Прежде, за мужем, была она лишь покорна и терпелива, чадолюбива да ласкова, никогда без нужды не мешалась в дела Михаила, раз и навсегда уверовав в его правоту. Ее счастливым уделом было жить для семьи, всегда и во всем быть для мужа подпорой, его утешительницей, верной подружней в славе, горестях и трудах. И это не всегда ей давалось легко – слишком жестка, беспокойна, кипуча, стремительна была жизнь ее князя. Да к тому же, даже родив сыновей Михаилу, в молодой, деятельной и воинственной Твери долгое время она все еще оставалась ростовской княжной, более склонной к тихой, благочестивой, молитвенно-книжной жизни взрастившего ее древнего города. Теперь же, став в одночасье «матерой» вдовой, она ощутила на плечах, да не плечами, а сердцем, всю тяжесть и силу власти, ту нестерпимую ответственность за каждое принятое решение, которое вполне могло оказаться гибельным. Да и какое решение могло стать выигрышным и удачным в том положении, в каком очутилась ее семья и все Тверское княжество? Уже тогда женским ли чутьем, Божиим ли Провидением Анна Дмитриевна понимала всю ненадежность, зыбкость и неизбежную гибельность того положения. Хотя и вера, светлая вера в высшую, конечную Господню мудрость и милосердие не оставляла ее. По злобе, по недомыслию, по дьявольскому умыслу мир ополчился против, да ведь не вечна власть бесовская над душами, верила Анна Дмитриевна в безмерном терпении: грядет еще светлое Воскресение для Руси, не на то ли Господь и знак послал, нетленными сохранив останки страстотерпца и мученика христолюбивого слуги Своего Михаила!..
А покуда ту горькую, ту нестерпимую тяжесть власти взяла она в свои руки. Нет нужды в том, что старшие сыновья вполне достигли зрелых лет, власть ей на то и надобна, чтобы их удержать от ошибок. Хотя и сама порой сознает: что ни сделай, как ни реши, а все будет худо – такое пришло, знать, худое время…
А тогда, в сентябре, дождавшись и похоронив наконец мужа, более всего желала княгиня уйти к сестрам-постницам в монастырь. Видела уж себя в земном «ангельском образе» смиренной инокини. Одного хотела душа: в безмолвии только с Богом молитвой беседовать. И даже просила наставить ее на светлый духовный путь отца Варсонофия.
– Больно мне, отче! Не могу боле одним глазом на небо зреть, другим же под ноги глядеть в землю!
– И-и-и, матушка, – утешал ее владыка. – Кому какие очи даны: иной и в небе лик явленный Божий узреть не способен, а иной и на земле чудеса небесные в малой толике прозревает!
– Ужели и в том грешна, отче, что в смирении, в послушании иноческом одному Богу хочу служить?..
Жаль было владыке княгиню Анну, однако не силу, но слабость, обычную вдовью слабость видел он в ее стремлении уйти из мира, а потому оставался тверд:
– Греха твоего в том нет. Однако ведаю: не в том Божий Промысел, дабы избегнуть пути своего.
– Да каков же путь мой, владыка? Али не видишь: шагам ступать больше некуда, да и сама-то под ношей падаю?
– Не в том наша ноша, матушка, чтобы плакать, но в том, чтобы другим глаза от слез утирать… – Всякими словами в те черные дни увещевал княгиню владыка. – Душа твоя к Богу влечется, но покуда нуждаются в тебе ближние, и Господь не укроет тебя от мимотечной мирской суеты. Твой путь ныне и ноша твоя – свечой стоять на подсвечнике, светить во тьме домочадцам твоим и всем твоим людям. В том и путь обретешь, в том и духом окрепнешь…
Знала, сама знала о том Анна Дмитриевна, но и сильным и знающим бывают нужны слова поддержки и утешения. Чем желанней была ей схима, тем острее осознавала: доколе, хоть в малой мере, будет нужна она сыновьям, дотоле не сможет оставить их, даже ради Господа Бога. И в том ее путь и ноша…
Порой, да и часто, и в монастырских-то стенах, в строгом ли постничестве, во всенощных бдениях, в затворе, в молчании, истязая тело веригами, в бесконечном томлении себя бессонницей, жаждой ли, иным добровольным, ради Господа, воздержанием, куда как способней и легче уберечь свою душу, чем в прельстительном, манком на искушения, беспокойном, тревожном, страшном, суетливом и прекрасном миру, где мерой жизни служат одни лишь потери да горести…
Однако, сколь неизбывно бывает горе, но и оно, по Божией милости, утишается. Надо было жить дальше, надо было «стоять свечой на подсвечнике», светить всем. Легко сказать, светить всем, а поди-ка постой той «свечой на подсвечнике», посвети-ка иным, когда округ мрак да ветер, и в своей-то душе черно от обиды, и дальнейшая жизнь представляется не иначе, как адом, тем паче что адом она и была. Как вынести все, как не угаснуть, но более того, сквозь ветер и мрак истинно воссиять негасимой свечой долготерпеливой и безутешной судьбы?..
Однако в страдании более всего научаешься вере и благочестию, через смирение научаешься покоряться Божией воле, как высший дар принимать свою земную долю, какой бы нестерпимой она ни была. И все же, как ни крепка была духом Анна Дмитриевна, случалось, что и она отчаивалась и тогда просила Бога быть снисходительней не к ней, но к ее сыновьям.
– Господи Иисусе Христе, Владыка мой, ненадеющихся надежда, будь хоть к ним милосерд, дай им волю и разума, отврати от погибели…
Год прошел в хлопотах.
Не успели слез отереть после похорон Михаила, пришла глумливая, пакостная и клятвопреступная весть: Юрий волей своей венчал в Костроме четырнадцатилетнего Константина на дочери Софье. Можно было удумать что-либо более мерзкое, да ничего более мерзкого, знать, удумать было нельзя. Истинный бес был тот Юрий, и черноты души его, как ни старайся, невозможно было постичь. Тверь возроптала от малого до великого, семейный позор и несчастье люди принимали, как свой позор и свое несчастие. И без Князева слова, сами собой сбивались полки, кровью хотели тверичи поднять на щит уроненное тверское достоинство. Многих и слов и слез стоило Анне Дмитриевне отговорить Дмитрия тотчас идти разбираться с Юрием. Ведь он, бес, поди, только и ждал того…
От этого не оправились, так уже из Орды, из Сарая добежала глухая и смутная, но от этого не менее дикая и внезапная весть. Принес ее старый Михаилов знакомец, не раз выполнявший мелкие поручения князя в Орде, бывший киевский жидовин Моисей, еще при Тохте перебравшийся в Сарай и ставший на службу к татарам. Несмотря на доброе отношение к Михаилу Ярославичу, о котором он говорил лишь с почтением и даже от почтения того будто и пришепетывая, о главном, по жидовинскому обычаю прежде всего чтить выгоду, Моисей сказал только в самый последний день своего пребывания. Да и то не сказал, а обмолвился…
В Тверь же он прибыл не гостем-купцом, не простым проезжающим, но важным ордынским сановником – откупщиком ханской дани. Моисей даже войско с собой привел – до полутысячи верховых бесермен, над которыми он был начальник. И хоть войско его было невелико, новым своим положением жидовин кичился необычайно, пред своими татарами ходил строг и угрюм, точно каждого подозревал в воровстве Моисей, как то на словах было ему «ужасно и наиприскорбно», пришел получить с тверичей по долгам покойного князя, в каких тот якобы оказался в Орде перед смертью. Так что ж – жизнь в Орде для русского всегда дорога была, даже если и оканчивалась его собственной казнью.
Плата по долгам, предъявленным Моисеем, была велика. Отдали лишь половину. И то та половина составила изрядную часть серебра, что за целое лето собрали тверские мытники с проезжающих по Волге купцов. Впрочем, жидовин был доволен. Известно – откупщик внакладе редко когда остается. Сколько он заплатил тем ли, иным ли вельможным высоким татарам действительных долгов Михайловых, тем самым откупив их на себя, проверить было почти невозможно, и теперь он был вправе, разумеется по силе, какой снабдили его те же ханские чиновники, взять с тверичей столько, сколько сумеет. Так что, судя по тому, как доволен был Моисей, свое он уже с лихвой получил, да еще и на будущий год перекинул часть долга…
– Однако же, княгиня-матушка, батюшка Дмитрий Михалыч, не все мной покуль с вас получено… – Моисей был низкоросл, но обилен жирным и тучным телом, головаст, но плешив, от привычки ли долгого сожительства масленые глаза его, когда он улыбался, прятались в щеках, точно кейс у татарина. Было ему лет сорок, но из-за седых длинных волос, свисавших от висков по лицу ниже самой бороды, казался гораздо старее. – Знаю, горе-то какое у вас, вижу: скорбите. Сам скорблю вместе с вами. Для нас-то, жидов, Михаил Ярославич и то звездой в черном небе слыл…
– Ври, Моисей, да помни слова-то! – перебил его Дмитрий.
Как ханского сановника принимали жидовина, за одним столом сидели в Князевой малой гриднице, медом поили на счастливый отъезд; слава богу, без крови да грабежей обошлось.
– Да как же мне врать-то? – грустно и с укоризной покачал головой жидовин. – Веришь ли, Дмитрий Михалыч, верите ли? – Он обвел глазами бояр за столом, сидевших рядом с ним, набычась и молча. – Когда в Маджарах-то на базаре его на правеж поставили…
– Врешь, жидовин! Не было правежа! – выкрикнул старый Шетнев.
– Был, боярин! Истинно говорю! – Он с безмолвным вопросом – продолжать ли говорить ему дальше, взглянул на князя.
– Ну, говори! – кивнул Дмитрий, жадно глядя на жидовина.
– Так вот, когда поставили его на правеж коленами на телеге, согнали к телеге отовсюду народ – и нас, жидов, и русских, что были, и яссов – так всем, без счету, кому должен ли, нет ли, велели бить его плетью…
– Что ты?.. – почти беззвучно выдохнула княгиня.
– Так, матушка, было! Сам я тому свидетель…
– Дальше!
– Так истинно говорю: ни один из нас руку не поднял. Татарин-то Кавгадый аж плевался, ногти чуть от досады не сгрыз. «Бейте, кричит, жиды! Что не бьете? Или не должен он вам? Бейте, а не то вас бить прикажу…»
– Так что?..
– Страшно было, – вздохнул Моисей. – Да как ни кричал Кавгадый, а никто не осмелился и плеть в руку взять…
– А он, он что? – тихо спросила Анна Дмитриевна.
– Что ж он? – развел Моисей руками. – Прямо глядел, разве ж он кому должен? Истинный царь был над людьми Михаил Ярославич…
– Что ж ты теперь за долгами-то его прибежал? – упрекнул Моисея Шетнев.
– Так ведь и сам, поди, знаешь, боярин, – улыбнулся Моисей, обнажив неожиданно молодые, белые зубы. – Одно дело – небесное, да другое дело – земное суть.
– Да ведомо ли тебе небесное, кроме того, что и звезд отражение в лунную ночь из луж воровать норовите, – завелся было тогда на злой спор боярин, но Анна Дмитриевна не дала им поспорить, спросив жидовина:
– Так сколько же тобой с нас еще не получено?
Правой рукой Моисей погладил длинную прядь, свисавшую с левого виска, будто хотел расправить курчавые завитки, потом сунул ту прядку в рот, быстро, как собака ловит блоху, погрыз концы волосков зубами и, не сдержавшись, хитро улыбнулся:
– Так что ж, матушка, или неведомо? Все от воли ханской зависит. Как он велит, так и считать придется…
– Ты уж, Моисей, не крути. Попомни Михаила-то Ярославича, говори соответственно. – Анна Дмитриевна словно наверняка знала, что услышит от Моисея нечто важное, так и впилась в него глазами.
– Да что ж, матушка, знаешь ведь: долг долгу-то рознь. – Моисей усмехнулся. – Мне вон иные огланы ордынские, ой, сколько много должны, да много ли я с них получу? Да и они с ханских визирей лишь столько возьмут, сколько те им отдать соизволят… – Моисей помолчал и вдруг, подняв глаза на княгиню, сказал будто бы одной ей: – Все мы должники перед ханом, а сколько должны ему и когда он с нас долг спросит, он один лишь и ведает… – И уж оборотясь ко всем, неожиданно весело рассмеялся: – Да разве мало бездельных татар в Орде, что ныне-то я с таким смешным войском пришел к вам за долгами?
– Ясней говори, жидовин! – вспылил Дмитрий, не вынеся его смеха.
– Да уж куда яснее-то, князь! – обиделся и Моисей. – Помилуй! Сказал же: на все воля хана! Может быть, на будущий год еще приду добирать, да добирать-то буду столь, что нонешнее-то каплей покажется, а может быть, и то, что должен ты мне, всемилостивый хан тебе простит, а мне и вспоминать не велит!..
– Да что ж ты, в самом деле, Моисей, суть-то словами прячешь! – не выдержала, прикрикнула и Анна Дмитриевна. – Говори уже!..
Может, и рад был Моисей более ничего не сказать – да уж пришлось, а может, напротив, нарочно к тому и вел, чтоб будто ненароком предупредить семью Михайлову – разве ж его поймешь, жидовина?
– Слышал я – большой диван собирал хан Узбек. Все визири на том совете были да родичи. Семьдесят эмиров со всей Орды съехалось. – Моисей замолчал.
– Ну! – поторопил его Дмитрий.
– Другую сестру свою хан отдает за египетского султана Эль Марика Эннасира.
– Нам до того что за дело?
– Слышал я, на том совете и про вас говорили…
– Что? Не тяни, Моисей, – воскликнула Анна Дмитриевна.
Но Моисей не тянуть, видно, никак не мог. Всякую выгоду лестно было ему получить, хотя бы вниманием Князевым.
– Слов не передам, княгиня-матушка, меня на тот диван не позвали… Однако говорят в Сарае; скоро к вам хан переменится. – Он еще помолчал и добавил: – Не зря Кавгадыя того, облыжника Михайлова, велел Узбек бить и мучить до смерти…
Кабы грянул тогда в гриднице гром небесный, и тот, поди, не так изумил бы. У бояр сами по себе рты разинулись, Александр, допрежь сидевший так, будто его здесь и вовсе не было, глаза вскинул, Дмитрий с места вскочил.
– Что? Повтори!..
– Ох и лютую смерть принял тот Кавгадый, – подтвердил Моисей и с видимой охотой, не гнушаясь подробностей, рассказал, что знал о неожиданной Кавгадыевой казни.
И впрямь, большие искусники по части мучительства ханские палачи, знать, с особой жестокостью истязали бывшего Узбекова темника. Сначала ему вырвали ногти, затем по суставам до дланей срубили пальцы, выкололи глаза, кожу со спины резали на ремни, а напоследок вытянули из задницы толстую утробную кишку, затянули ее арканной петлей, другой конец веревки закрепили на конском стремени и пустили коня с верховым вскачь по сарайским улицам, покуда кишки Кавгадыевы напрочь из чрева не вымотались, точно нитка остатняя с пяльцев.
– И ведь что удивительно: сказывают, и пустобрюхий-то сколь-то жив он был, дышал, чуял муку, собака…
Отчего-то не радостно, но тягостно стало в гриднице после услышанной Моисеевой повести. Вроде и совершилось возмездие, да совершил его тот, кто более иных и был повинен в смертоубийстве. Дмитрий до крови закусил губу – не хотел он Узбековой милости!
Анна Дмитриевна молча осенила себя крестным знамением. Пришел на ум стих из псалма Давидова: «Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого; да впадет в нее на погибель»[11]11
Псалтирь. Псалом 34, ст. 8.
[Закрыть]. Но почему-то и священный стих не утешил.
«Ангел Господень преследует их, – еще подумала Анна Дмитриевна, но усомнилась: – Может ли Ангел Господень вложить карающий меч в руку поганую и преступную?..»
Кажется, одного Александра рассказ Моисея развеселил, глаза его наполнились живостью, какой уж давно не видела в них Анна Дмитриевна.
«Бедный, – пожалела она сына. – До какого же он края озлился?..»
– Тьфу!.. – без слюны, одними губами досадливо сплюнул в ладонь боярин Шетнев. – Собаке – и смерть собачья! – сказал он, и с силой той ладонью, в которую якобы сплюнул, растер плевок по столу.
– Так-то оно так… – раздумчиво молвил Дмитрий. – Однако, казнив Кавгадыя, тем самым великий хан перед отцом неправду свою признал. Зачем ему это надобно?..
Н-да, хитер и извилист татарский ум. Не всякое слово их враз поймешь, бывает, голову поломаешь, думавши: к чему оно тебе сказано? А уж в делах их вовсе не разберешься, тем более когда дела эти «добрые»… Али их «добро» не худому служит для русского…
Разумеется, все в гриднице связывали казнь Кавгадыя с судом над Тверским. На том суде Кавгадый от татар был главным обвинителем Михаила. Понял ли хан, что напрасной ложью обнесли перед ним великого князя, и за то наказал теперь своего татарина? Иное ли что припомнил и не простил? Хотя бы то, что татарской силой не смог Кавгадый одолеть русских под Бортеневом, а тем самым и хана унизил? Или то, что Кончаку Михаилу отдал? Так в том, пожалуй, Юрий был поболее виноват… Так ли, иначе ли, однако сильно, знать, огорчил Кавгадый Узбека, коли «лучезарный и милостивый» не просто убил провинившегося слугу, что было вполне в сарайском обычае, но обрек его на такую памятную да затейную муку…
«Не иначе хочет, чтобы не его, а Кавгадыевым именем на Руси бабы деток малых страшили…» – подумал Дмитрий, а вслух спросил будто сам у себя:
– Пошто ж хан Юрия жалует?
Моисей тотчас откликнулся:
– Всякого человека милосердный хан долго осмысливает, но уж как осмыслит, так скоро решит. Знать, пока не его черед, – засмеялся он мелким высоким смешком. Видно было, как смех разбирал его, но жидовин давил в себе этот смех, отчего его тучное чрево ходило ходуном под одеждами. Моисей и вообще-то, как поведал о Кавгадые, сидел за столом именинником.
«Ишь, как весело-то ему!.. – с неприязнью подумал Дмитрий. – Покуда хан князей морит, вольно им над Русью летать, лакомиться мертвечиною! Об отце, вишь, жалкует, а сам первый на Тверь налетел – очи выесть! Ишь, черт носатый, смеется…»
Дмитрий так взглянул на откупщика, что смех застрял у того меж зубов.
– Что ж сразу-то не сказал мне про Кавгадыя?
– А дал бы ты мне тогда, князь, то, что взял у тебя? – Моисей улыбнулся виновато и покорно, как умеют жиды. Такую-то улыбку бить рука не поднимется. – Ой, князь! – Из улыбки чуть не в плач скривилось его лицо. – А то нам, жидам, жить легко? Всяк норовит обругать да обидеть, потому нам и деньги нужны…
– Экая ты уродина, Моисей! – махнул рукой Шетнев на жидовина и отвернулся нарочно в угол, будто и глядеть на него было ему несносно, как отроку на хмельное в первом похмелии.
– Не сердись на него, Моисейка, – не по злу, но по горю бранится боярин, – как могла ласково утешила откупщика Анна Дмитриевна.


![Книга Миг власти московского князя [Михаил Хоробрит] автора Алла Панова](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-mig-vlasti-moskovskogo-knyazya-mihail-horobrit-239654.jpg)