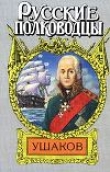Текст книги "Долгие слезы. Дмитрий Грозные Очи"
Автор книги: Андрей Косенкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
Будто на скорбной тризне поминали Михаила Ярославича, всяк почитал своим долгом вспомнить для сына что-то хорошее об отце, а владимирцы-то как раз много доброго знали от великого князя, а худого-то и вовсе не ведали от него. Одна была им обида в том, что, приняв владимирский стол, не остался он править во Владимире, а ушел в свою Тверь, но и за то теперь не винили, понимали, ради чего так поступил. Во-первых, не мог он оставить Тверь в опасности от Новгорода и Москвы, а во-вторых, с открытием волжского прямого пути в татары, к торговому Тохтоеву Сараю и далее к хулагуидскому морю именно из Твери можно было объять всю Русь. Кабы в двенадцатом-то годе юный Дмитрий, что шел тогда с полками через Владимир, взял на щит Нижний Новгород – вся-то Волга, весь доходный торговый путь оказался бы в руках Тверского, где б была теперь та Москва? Поди, за Бога-ради те московичи-то в Тверь да Нижний, да в тот же Владимир ходили бы за сотни верст кланяться да киселя хлебать. Ан больно в Божьем страхе да сильно нравственно выпестовал Михаил сыновей-то, знать, не на ту жизнь рассчитывал…
А получилось вон как; от Владимира, подкрепившись здесь владимирцами, что охотно выставили ему в подмогу войско, Дмитрий должен был идти на Нижний, чтоб наказать хитроумных нижегородцев и прогнать от них Бориску, младшего из братьев Даниловичей, которого Юрий в обход всех понятий и законов посадил туда княжить. В правоте и удаче того предприятия никто и не сомневался. Юрий, оставив Бориску в Нижнем, убежал в Новгород Великий, Иван в Москве сидел тихонько, мол, за братьев я не ответчик, но тут за московичей вступился вечный Михаилов враг митрополит Всея Руси Петр. Тяжба у него с Михаилом длилась с самого первого дня, как утвердил Петра митрополитом царьгородский патриарх. Дело в том, что, по мнению Михаила Ярославича, впоследствии, кстати, подтвержденному Константинополем, Петр взошел на митрополичий престол вопреки воле русской Церкви, а едино благодаря случаю. Родом волынец, он был представлен в Царьграде к утверждению митрополитом Галичским, однако как раз в то самое время пришло в Царьград из Руси скорбное известие о кончине пресветлого митрополита Всея Руси Максима. Петр ли сумел воспользоваться тем известием, престарелый ли царьгородский патриарх не разобрал разницы между Галичской и Низовской Русью, еще какая произошла несуразица, однако так ли, иначе ли, но высшим предстоятелем перед Господом на Руси был назначен тот Петр. Михаил же Ярославич не мог простить ему мнимого ли, истинного ли лукавства, оттого и правили и действовали тогда не рука об руку мирская и церковная власть. А что же хорошего может случиться в стране, где самые ближние к Богу властители не могут договориться промеж собой?..
Так вот, когда уж все было слажено и готов к выступлению на Нижний, митрополит Всея Руси и владимирский Петр, ради Москвы, ради Ивана ли, Юрия, а скорее тогда еще просто во вред Михаилу, своим высочайшим словом перед Господом наложил запрет на Дмитрия и его войско. Что было делать малолетнему Дмитрию, а и самому-то ему сравнялось недавно двенадцать лет? Другой бы, поди, и ослушался, да тот же Юрий, когда б ему было надо, гласа самого Господа не услышал. Ан Дмитрий заколебался, ведь не кто-нибудь – сам предстоятель Господен встал на его пути, а того колебания оказалось достаточно, чтобы и войско разуверилось в несомненной своей правоте, ну, что было делать? Распустил Дмитрий войско…
И о том вспоминали владимирцы. Глухо жалели, что послушался тогда Дмитрий митрополита. Вообще о митрополите Петре богобоязненные владимирцы говорили непочтительно, разумеется, настолько, насколько позволял его сан. И то, сильно они были обижены на него: уж третий год, как покинул Петр владимирские святыни, оставил без благоволения митрополичий град. Вроде бы ничем и не обижали его, а он ушел, уж третий год жил в Москве, неведомо чем и прельстил его тихий, велеречивый Иван. Да чем бы и не прельстил, но разве дело из-за земных-то прелестей бросать свою паству, оставлять боголепные храмы и саму чудотворную Богородицу, от которой вся-то русская земля святится?..
– Да уж, такое, знать, время пришло, что и мед горек стал.
– Да уж, боярин…
О Юрии да о татарах помалкивали, хотя и подразумевали в словах. Вообще о настоящем судили осторожно, не в лоб, будущего и вовсе не трогали. Темно и неведомо было будущее.
– Такое, знать, время! Прожить бы…
– Да уж, боярин…
Поведали владимирцы Александру и о брате Константине, которого привел за собой из Орды пленником Юрий. Однако все, что ни говорили о брате владимирцы, было Александру странно и непонятно. По их словам выходило, больно уж милостив был Юрий ко княжичу. Лелеял, мол, пуще родного. Где б ни являлся Юрий, везде сопровождал его Константин, и даже в Богородичной церкви, когда венчали Юрия на престол, рядом с ним находился младший отпрыск Тверского. Ясно, что тем хотел показать Юрий: мол, и Тверские отныне ему сподручны, но как Константин-то согласился на то, али и впрямь сломили, запугали его в Орде до того, что отцова, да и своя честь стала не дорога?.. И то, как его судить, ведь Совсем мальцом пошел он к хану в залог за отца, сколько мук претерпел, чудом, что жив остался, когда Узбек велел голодом его уморить… Хоть бы глазом взглянуть на него – каким стал? Ан как раз накануне прибытия Александра услал его Юрий вместе с теми тверичами, между прочим, по сю пору в железа закованными, которых привел из Орды, сказывают, мол, в Кострому. Зачем? Какую новую пакость умыслил? Во всяком разе получалось, что предвосхитил он Александрово посольство, и Александр не мог уж выручить разом ни брата, ни тех плененных бояр Михайловых…
– Н-да… Поди, потешится он над тобой, Александр Михалыч.
– Уж, поди… Незнамо, что в выкуп возьмет?
– Кабы не всю Русь.
– Ну, это мы еще поглядим…
Поминали и про славное Бортенево, где Юрий был бит с татарами. Владимирцы-то очень гордились тем, HIP и под страхом татарского наказания, которым грозил им Юрий, не дали тогда ему войска против великого князя Михаила Ярославича. И на то мужество надо было иметь. Вон, как ни верны, казалось бы, были костромичи Тверскому, ан припугнул их Юрий татарами – и смутилися.
– …Ить, кабы не тот Узбек, рази мы батюшку твово выдали?!
– Ты, боярин, мед-то пей, да словами зря не кидайся! – урезонивал иного хозяин. – Слова-то ныне летучие…
Впрочем, в основном беседа шла за столом тихая, вежливая, неторопкая, девки блюда меняли чаще, чем гости находили новый повод для слов.
Так и сидели под шум дождя да вой ветра. И то, спешить было некуда. Велено было ждать Александру, когда снизойдет до милости и покличет его великий князь Юрий Данилович, вот он и ждал. Однако и представить-то страшно, какова б тоска-то была его да нетерпение в тех упокойных беседах с вятшими седыми от старости владимирцами, кабы, сидючи супротив него, не сияла ему веселыми да озорными глазищами боярышня Параскева, обещая, что ныне уж непременно допустит до поцелуя.
«Экое лихо-то – целоваться!..»
И Александр, порой забывая слушать бояр, глядел на нее открыто, улыбался как зачарованный… до того неотрывно уставится на боярскую дочку, что хозяину приходилось иногда отвлекать его голосом.
Под вечер дождь наконец иссяк. Лишь потемнелые сиреневые кусты во дворе кидали с листьев последние капли. В самые сумерки небо вдруг неожиданно высветлело. Багряным закатным светом налился край небесного окоема, тот край, где осталась Тверь. Жуток и пламенен был закат, точно огнем полыхало в дальней дали.
Проводив последнего гостя, Софрон Игнатьич повел князя в сад вместе поглядеть на поруху, что наделала буря. Многие ветвистые яблони обломались, какие стояли и вовсе в нижнем стволу разбитые надвое, неведомо какой силой их разломило. Землю округ усыпала падалица, ступать и то приходилось по яблокам. Было прохладно, как всегда бывает летом после долгих дождей. Воздух был свеж, напоен влагой до того, что, казалось, та влага, как иней, каплями оседает на усах при дыхании, горько пахло укропом, лебедой да малой травкой, что растет по дорогам и какую в иных местах называют гусиной кашей.
– Так что, Александр Михалыч, коли Юрий-то на Тверь теперь двинется?.. – спросил осторожно боярин Смолич, не докончив вопроса.
– Мы войны не боимся, – коротко сказал в ответ Александр.
– Так знамо, что не боитесь, – усмехнулся боярин. – Сдюжите ли?
– Бог рассудит, Софрон Игнатьич.
– Ишь ты, Бог… А сами-то али надеетесь победить?
Александр на то ничего не сказал, и боярин продолжил:
– Я к чему говорю-то… – Он замялся, будто искал слова, но, видно, так и не найдя нужных, махнул рукой: – Чую я – худу быть!
– Да ведь куда ж хуже, Софрон Игнатьич? – Александр улыбнулся, и от той простодушной улыбки боярину стало не по себе. Софрон Игнатьич усомнился в Михайловом сыне и даже обиделся за него.
«Э-э-э, – подумал он о нем с горечью, – да уразумел ли он, чего деется? Али и впрямь девки одни у него на уме?!»
– Худого-то, знать, не видал, князь! – зло бросил Смолич. Он остановился и шапкой отер лицо, точно снял паутину.
– А ты меня, Софрон Игнатьич, не кори, – остановился и Александр. Светлые его глаза сузились и потемнели, как перед гневом. – У каждого – свое, доброе да худое! Поди, со мной-то не станешь меняться, боярин?..
Смолич оторопел. Таким не видел он еще Александра, и такой-то он нравился ему больше. Знать, есть отцова сила в сынах, не зря, чай, народ байки плетет про молодых-то Тверских, а особо про Дмитрия. Не отступятся, мол, они, не выдадут Русь с потрохами-то…
– Ах, Александр Михалыч, – боярин доверительно тронул князя за руку, – да ведь не в том суть, что мы-то с тобой, хоша и по-разному, а все же и однова страдаем да маемся, на то страдание и маету Господь нам и жизнь поручил! А в том суть, что вся-то Русь к вечной погибели катится!
– Да в чем ее гибель-то?
– Али не ведаешь?
Чуял боярин и верил себе: со смертью Михаила Тверского, на которого, как оказалось, были напрасны надежды и упования, подошла Русь к той роковой черте, к тому рубежу, за которым либо слава ее безмерная, либо столь же безмерная тьма и вековые несчастия. От Александра Ярославича Невского, от сыновей его Дмитрия и бешеного Андрея до Михаила Ярославича, более иных почитавшего русскую волю, было время Руси определиться, понять, как ей далее жить. По-прежнему ли ей льститься к неверным чужим законам, перенимать через страх татарскую хитрость да лживость или все-таки вспомнить Мономахово время, когда не было на земле более достойных, открытых и свободных людей, чем русичи! Али не так?.. Что ж, в который уж раз сплоховала Русь, отдала своего государя на муки и поругание, так ведь и грех искупается перед Господом покаянием. Все ж оставалась пусть малая, но надежда на то, чтобы повернуть вспять то, что уже случилось, и в той живой надежде были для боярина, да и для многих иных, сыновья Михаила, их сила и решимость не оставлять усилий отца. А Русь, что ж Русь? Коли увидит и поймет их усердие, разве не вразумится, разве не поддержит их старания. Али мы так и останемся на века нераскаянными?..
Они стояли друг против друга посреди темного побитого сада – старый и молодой, и думали об одном.
– Дмитрий не согласен отцов стол Юрию уступать, – сказал наконец Александр.
– Так… – неопределенно молвил боярин. Белая борода вздымалась у него на груди от дыхания, словно сама дышала.
– Как отца упокоим и Константина выручим – к хану пойдет.
– Али думает…
– Коли у хана правды не дознается, – нетерпеливо перебил боярина Александр, – так сам великим князем над Русью себя назовет.
Тихо было в саду. Лишь какая-то невидная птица в листве однообразно, уныло и тонко плакала. Видно, звала птенцов, потерявшихся и сгинувших в бурю.
– Так ведь это… война.
– Мы войны не боимся, – усмехнувшись, повторил Александр.
– Так ведь то война, князь, не с Юрием, но с Узбеком, – сказал тихо Смолич.
– Али мы, боярин, с ним в мире живем? – так же тихо спросил Александр.
– Господи, Твоя власть! – задрав бороду к небу, воскликнул боярин. – Ужели пришла пора?! Того и ждал от Твери, того и ждал, Господи! – кидал ко лбу руку боярин, осеняя себя крестным знамением. – Истинно, князь, не чаял и слова такого дождаться, – чуть погодя сказал он, шумно выдохнув и отворотив лицо. Потом, шмыгнув носом, обыденно, просто, как говорят о погоде, добавил: – Чую – худому быть.
– Что-то я в толк не возьму, боярин, – рассмеялся Александр. – То ты Господа славишь, а то вороном каркаешь?
– Так ведь и всегда-то так было, князь: хочешь воли – так готовься на муки. А татары-то мучить – искусники? Чать, и сам, поди, знаешь! А уж я-то от них всякого повидал. – Он помолчал. Но, видно, хотелось старому выговориться перед князем. За три-то дня мало наговорил. – Я-то по жизни крестник батюшке твоему. Когда б не он – меня и в живых-то давно уж, поди-ка, не было…
– Как то? – удивился Александр.
– А так, – усмехнулся Софрон Игнатьич и начал с охотой рассказывать: – Было то, когда сынок Невского Андрей бешеный – дядя он Юрию-то! Юрий-то, кстати, и костью в него пошел, и норовом, – заметил он между прочим. – Так вот, когда Андрей-то Дюденя с погаными на Русь навел, когда подступили они к Владимиру, Господь меня вразумил, истинно слышал: ступай, говорит, в Тверь, Софрон, там упасешься!.. – При упоминании Господа Софрон Игнатьич не забывал бережно обнести себя рукотворным крестом. – Ну я и помчался! В том лишь спасение нашел. А ить, страшно сказать, какое тогда по всей Руси побоище было. Стон стоял – от города до города Слышно! Владимир догореть не успел, а уж Коломна пылала… Баб да девок на смех в церквах силовали, ризами да парчовыми опонами подтирались, святые лики рубили, в Богородичной церкви медный пол выломали, мужиков убивали без счету, в плен со всех городов гнали лишь малую толику. Не за людьем, не за прибытком, а лишь на страх Андрей их тогда навел. А уж в страх-то умеют они вогнать, спаси Господи!.. И ведь что любознательно: все города доброй волей, сами на милость сдавались ему, окаянному, думали: ить, коли Андрей-то с ними, так русский – чай, защитит!.. Куда!.. Сам еще и натравливал, бешеный! На крови встать над Русью хотел!
– Так ведь встал! – вклинился Александр.
– Встал, – кивнул боярин. – Дак непрочно княжий столец стоит на крови. Как на болотине. Кровь-то, она, Александр, – назвал он князя только по имени, – живая…
– И то, – согласился Александр.
– Так что, сколь городов ему тогда в ноги пало, все и пожег от Владимира до Дмитрова и Волока Дамского. Одна Тверь ему воспротивилась – и устояла же! – Софрон Игнатьич разошелся, какие слова и выкрикивал в бодром запале, а тут и руку поднял над головой: – А почему?..
Александр не ответил.
Тот Дюденев поход на Твери свято помнили, по сю пору свято чтили чудесное избавление от поганых, чудом же поминали воистину спасительное возвращение в Тверь Михаила, знаком свыше и Божией милостью вдруг явившегося в город из Орды, где он был до того у Тохты, как раз накануне татарского приступа. И без него решили тогда тверичи до последнего биться, а уж как он явился внезапно, их светлый князь, пуще воодушевились умереть, но не сдаться поганым. Не в том ли и величие иных русских князей, что в смертный, губительный час одним лишь своим именем и бодрым присутствием могли они сплотить вкруг себя народ крепче каменного раствора. Где теперь те князья?..
– Знаю, о чем думаешь, – молвил Софрон Игнатьич. – Заслуга твоего батюшки в том была велика – словами-то не оценишь! Его духом и крепостью упаслись! А было-то ему тогда лет, поди, столь, сколь тебе сейчас…
– Поболе немного, – поправил Александр Смолича.
– Н-да, его духом упаслись, – повторил боярин и воскликнул, рукой, как мечом, рубанув по фиолетовому темному воздуху: – Ан была, княжич, и еще причина тому!
– Какая?
– Дак ведь со всей Руси, со всех городов сожженных, кто уцелел – битые да озлившиеся куда прибежали? Где сошлись?
– В Твери. – Александр улыбнулся довольно.
– То-то – в Твери! Неведомо как, ан весь-то русский народ будто сердцем проник, где будет битва, кто сможет татарве воспротивиться! Толи не чудо-то, князь! Знать, тогда не одного меня Господь вразумил в Тверь идти, искать защиты у батюшки твоего! Истинно говорят: Господь направляет шаги наши! Знать, милосерд Он покуда к нам, коли жалеет да не оставляет нас своими заботами! Только мы-то, мы-то – глухие – не слышим Его, токуем, как глупые глухари, чего ради – сами не ведаем, покуда башкой-то нас в петлю не сунут…
– То так, боярин, – согласился Александр, почувствовав в словах Смолича и тайный упрек себе. – А все ж не сказал ты, какая еще была в том причина, что Дюденю Тверь тогда не отдали?
– Так, ить, понятно! – развел руками Софрон Игнатьич, но все ж пояснил: – На стенах-то тверичей было равно, а то и поменее, чем остальных, пришедших тогда к Михаилу. Кто рядом-то, плечо о плечо, не бился на стенах против татарина! Каких людей только не было! А уж откуда сошлись – и пальцев не хватит на руках загибать! – А все ж боярин начал закладывать пальцы, перечисляя разные земли и жителей, в них живущих: – Звенигородцы, юрьевцы, как я – владимирцы, рязанцы, коломенцы, можайцы, дмитровичи, ярославичи, переяславцы – чуть не всем городом ополчились! – мало-мало, но и московичи были, они-то думали, коли Андрей – родной брат их Даниле, так уж Москву-то он пощадит, ан – хрен, он и Москву пожег! Кого еще-то я, князь, не перечислил? А и ростовцы, и кашинцы были, да ото всех двунадесяти городов сбились ратники в Тверь в единую силу! Вот и выстояли! – Софрон Игнатьич перевел дух. – Это же надоть! Двунадесять городов татарин без боя взял, от Владимира до Торжка огненной стрелой пролетел, ан на первом-то городе, что в бой с ним вступился, и обломался. Вона что единение-то значит! Али, думаешь, князь, без того единения устояла бы тогда Тверь?
Александр пожал плечами.
– Нет, князь. – Боярин покачал головой. – Как ни крепок был духом Михаил Ярославич, ан знал: одним духом-то вражью силу не сломишь. Единяться надо нам, русским-то, единяться, слышь ты, Александр Михалыч! Дурак, кто думает, что, мол, чем далее, тем легче будет нам от татар-то, мол, коли силы нет, терпеть надобно, а там, глядишь, и стерпится – слюбится! То, что они наших баб силком еть полюбили, от того добром не отучишь, так и будут зариться, как волки на ягнят. Единяться нам надобно против них, одни мы на свете, во всей-то земле никто, кроме Господа, нам не помощник. Батюшка-то ваш хорошо то понимал, о том и радел! Да ведь знаешь, каков народ-то у нас?.. – Софрон Игнатьич вздохнул и пусто махнул рукой. – Когда Андрея Боголюбского, что, как. и отец твой, о могучем единении думал, наши же владимирские бояре Кучковичи насмерть забили, думаешь, кто копнулся али заплакал о нем?.. А где теперь те Кучковичи?
На Сити весь их собачий корень лег! То-то… Вперед не глядим, добра, не помним и невольного-то, необходимого зла не прощаем, в грехах не каемся, живем меж собой в злобе и зависти, э-э-э, да что говорить…
– Не больно ли сильно народ-то хаешь, боярин?
– Да я, ить, не хаю, а знаю! И то знаю, князь, что народ-то у нас золотой! В сердце-то у каждого как в храме каменном: и красы, и простору много, ан не над всяким сердцем Божий крест высится, а, ить, ведомо, что и в церквах-то без креста, случается, бесы заводятся…
Помолчали. Боярин поднял с земли из-под ног оббитое яблоко, надкусил, сплюнул – зелено. Снова заговорил:
– Вот так и князей-то мы гоним. Только в силу они войдут, только, ради нас же, возьмутся за нас, убогих, дабы за собой повести, а мы-то в тот же миг как раз и исхитримся, да и отрясем их прочь, вона, как бессмысленный ветер безо времени отрясает яблоки с ветки. А после плюемся: мол, горьки да зелены те плоды. Э-э-эх!..
Боярин попробовал было подставить подпору под одну чудом сохраненную, богатую будущим урожаем ветвь, но в темноте не заметил, что и она-то висела на одной кожице. И та кожица порвалась, сук обломился и глухо упал на влажную землю.
– Вот ведь беда-то, – посетовал Смолич и тут же продолжил о том, что мучило его больше всего: – А власть-то, я думаю, слышь, Александр Михалыч, на одном дереве, да что на дереве, на одной жильной ветке плодоносить должна! А нам-то, людишкам, надобно заботиться о ней, угождать когда чем: когда говном, когда поливом, и всегда-то подпорою, тогда и яблоки на том суку золотые будут, и всякому от тех яблок во рту станет сладко, а не как теперь – все в оскомину!..
– Так-то, боярин, – сказал Александр.
– А коли так-то – пусть Дмитрий власть берет, пусть не даст править над Русью злому семени! Погубят они ее…
– Так-то, боярин…
– Ты вот что, Александр Михалыч… – Боярин чуть-чуть помедлил, знать, к главному подошел: – Передай Дмитрию Михалычу, что Владимир, мол, добро помнит. Коли загорится, так все, как один, за него поднимемся. На то мы батюшке вашему крест целовали, о том и велели мне сказать тебе люди владимирские…
Александр не сразу ответил, как ни готовил его к тому главному боярин, ан все одно слова его прозвучали внезапно. До того внезапно, что слезы выступили на глазах молодого князя.
– Ко времени, ко времени слова твои, Софрон Игнатьич. Спасай вас Бог, владимирцы, за вашу верность…
Вечер опустился на город. Первые звезды загорались в высоком, очистившемся от дождевой хмари небе.
– Да вот еще о чем хотел попросить тебя… – когда уже возвращались в дом, сказал боярин, придержав Александра за рукав перед самым крыльцом.
– Проси.
– Стар я, князь… А то бы, ей-богу, вместе с тобой ушел теперь к Дмитрию. Тошно мне здесь под Юрием – худо чую…
– Так что?
– Возьми моих сыновей. Скажи Дмитрию, что, мол, старый боярин Смолич просит их в службу взять. Коли даст им какой доход путный – хорошо, коли нет – и то ладно, сами серебра себе выслужат.
– О том и просить не надобно, Софрон Игнатьич! Чай, на Твери всякому рады, кто с добром-то идет. А сыновья-то твои, чаю, не последними у нас будут!.. – Александру сделалось весело, захотелось как-то приободрить славного старика, вертелось на языке, да не вылетело, что и дочку его Параскеву прямо-таки сейчас он и рад бы забрать, да уж потерпит, пришлет сватов, как положено по обычаю… Ан не сказал, лишь приобнял за плечи боярина, припал головой к бородище: – Спасай тебя Бог, отец…
– Параскева! Пойдешь за меня?
– Что ты, княжич! Куда?! – мелко, будто бисером сыплет, смеется. И от ее смеха, от жемчужных зубов, что влажно блестят во рту, перехватывает у Александра дыхание.
– В княгини тебя зову!
– Мыслимо ли?..
– Да отчего же…
Вот уж почти словил ее губы, мягкие и горячие, своими губами услышал нежный девичий пушок над ними, но отвернула Параскева лицо. Дышит запальчиво, так, что слыхать, как вздымаются груди под сарафаном.
– Смеешься ты надо мной?
– Ничуть не смеюсь, Параскева!
Тонкие пальцы, защищаясь, останавливают Александровы руки, да не больно-то останавливают.
– А вот я батюшке-то скажу!..
– Да ты мне-то сначала скажи: люб ли?..
– Что ты… что ты… увидят же!..
– Ну?..
– Так, ить, сам-то али умом повернулся, княжич? – Одно говорит, да сладко стонет в руках Александровых девушка. – Разве ж я тебе пара?
– Да люб ли?
– Да как же не люб-то?..
Наконец-то Параскевины губы раскрылись навстречу Князевым. Долог их поцелуй, ох как долог, да уж лучше и не кончался бы никогда. Через един-то тот поцелуй будто навеки слились друг с другом.
– Ах, княжич, что же мне будет-то?
– Дак что? Сватов за тобой пришлю.
– Ой ли?
– Слово мое!
– Как и верить-то?
– Ай не веришь?!
– Тише, тише… Как не верить, люба ты мой!..
– Истинный крест – как улажусь, пришлю за тобой!
– Не божись, княжич, – грех!
– Параскева!..
Мягко катятся, тихо звенят на запрокинутом лбу боярышни жемчужные обнизи, пышет жаром под сарафаном налитое юной силой и прелестью упругое тело, да достичь-то его нелегко – дрожит Александр от сладостной, не терпящей промедления муки и еще пуще путается руками в бесчисленных поневах под пышной, семиклинной сарафановой юбкой.
– Ай, как зажглось-то мне, княжич, пусти! – Сама же целует, целует его неопытными губами, попадая то в темя, то в шею.
– Параскева!
– Ах, пусти! Идтить мне надо! Матушка ругать станет!..
– Постой, погоди еще, погоди…
– Да, ить, не могу я так, княжич! Вот-вот сгорю, как огарочек…
– Параскева!..
– Параскева! – слышится снизу нарочно грозный матушкин голос. – Параскева! Чертова девка! Искать тебя, что ли?..
Легкая, жаркая, как огонь, подхватив с пола масляную чадную лампицу, убегает она, будто ветер листвой, шурша непроникновенными, таинственными своими поневами, оставляя князя впотьмах.
«Ай!..» – стонет он неутоленно и горестно. И не скатится семя его в манящее, нежное Параскевино лоно…
Никогда.
Наутро позвал Александра Юрий.


![Книга Миг власти московского князя [Михаил Хоробрит] автора Алла Панова](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-mig-vlasti-moskovskogo-knyazya-mihail-horobrit-239654.jpg)