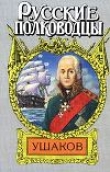Текст книги "Долгие слезы. Дмитрий Грозные Очи"
Автор книги: Андрей Косенкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
А он ведь и при живой Евпраксии сколь баб из одной любознательности обиходил: а вдруг понесет какая? Так озлился да распалился, что всякую ему еть не зазорно стало – и сдобну, и пышну, и тощу, и молоду, и уж развалисту не едиными родами, и русску, и иноверку… сколь их было-то, разве счесть? Так ни одна, ни одна не понесла от него!..
Истинно, бесплоден он, как та бесплодная смоковница!
Не в том ли и есть проклятие Максимово да наказание Госпоже?..
«Господи, прости меня, грешного…» – поворачивается Юрий лицом к божнице, да рука не идет ко лбу, будто высохла. Так и падает рука, не сотворив крестного знамения.
– Пошто сына не дал? – глухо, устало, сквозь зубы спрашивает он Господа.
Нет ответа ему.
– Али я хуже Ивана-то? – кричит Юрий.
Нет ответа.
«Знать, хуже…» – усмехнувшись, качает головой Юрий и, медленно, старчески шаркая, забирая по полу подошвами мягких сапог, идет к трону.
И то, плодоносит Иван со своею Еленою, точно заяц с зайчихой. Кажется, надысь под венцом-то стояли, а она уж троих ребятишек ему принесла: двух девок – Марию и Евдокию, и первенца – сына Семена. И ныне – донесли – опять брюхатая ходит. И пузо-то, говорят, у нее, будто дыню целиком проглотила, вперед и вверх торчит – не иначе снова малого носит! Ни дня она, что ли, пуста-то не бывает?.. Будто на злобу Юрию.
Хитер Иван да ухватист! Во всем ему благодать! Только за что – не понять. Да чем же он лучше-то Юрия? Али не знает он, Юрий, сколь пом и страшен Иван, хоть с виду ласков да тих. Ишь, взял обычай с денежным мешком – калитою ходить по Москве, нищих одаривать. Али не Юрьевы деньги в том мешке брякают?.. Худо ли ему чужими руками угли из костра выгребать?
Али за то ему милость, что Богу угодничает?.. На лбу да коленках шишек набил, всечасно грешит и в деле и в помыслах, да не устает беспрестанно каяться. Для того и митрополита к себе завлек, от заутрени до вечерни дарами да лестью потчует Петра Волынца, чтобы тот пред Господом его оправдал… Ужели ты так простодушен, Господи! Али не видишь, как брат мой во лжи искусен?..
Да! Да! Безбожен я, Господи! Грешен перед Тобой! Ан как не хочу покаяться, будто бесправен душой. Порой творю то, чего не желаю, точно в себе не волен, а после – и сам не пойму – то ли радуюсь, то ли содрогаюсь в омерзении и ужасе от содеянного… Так отчего же не шлешь последнего наказания? Али слеп, али впрямь нет пределов Твоему милосердию к грешникам. Так пошто же Ты к праведникам-то суров?..
Никогда еще, как в тот несчастный год убийства Тверского, столь много и постоянно не думал Юрий о Боге. И иногда искренне и горько жалел, что лишен благодати Господней веры. А все ж и его душа жаждала оправдания. К тому же, как то ни покажется странным, но, достигши своего, он начал вдруг прозревать, мучительно сознавая, что со смертью Тверского кончилось и его счастливое, верное время. Слишком много новых страхов и новых внезапных забот обрушилось на него в одночасье. И более всего хотелось ему теперь скорее уйти из Руси, где его не любили и он никого не любил, под щит Святой Софьи, в любезный его сердцу вольный Великий Новгород. Там сидел сейчас на правлении другой Юрьев брат – Афанасий, единственный свет в окне. Вот уж кто искренне души не чаял в Юрии, едино жил его мыслями и делами. Да жить-то ему, видать, не долго осталось – из Новгорода доносили; хворает Афанасий, того и гляди, помрет без прощания с Юрием. К нему бы надо спешить, да, покуда здесь не решишь всех дел с тверичами да долгами татарскими, отсюда не тронешься. Ох, увязлива, болотиста эта Русь, теперь не понять, пошто и нужна-то была, когда сунулся? Сидел бы себе на Новгороде, пугал шведов да немцев, авось и с Тверским поладил, кабы не тот хитромудрый да злополучный Иван…
«А, ить, теперь-то так просто, как прежде, и в Новгород не вернешься! – с тоской вспомнил Юрий. – Любим да желанен новгородцам я был, когда вместе с ними стоял против Тверского, великого князя владимирского, а ныне, когда сам стал великим князем, люб ли им буду? Вестимо: от века Низу-то быть подвластными им неугодно. Да ведь, поди-ка, слух-то уж и до них добежал, что я и новгородских купцов татарам отдал с потрохами… А сколь еще отдавать? Уж как того ни хочу, а и новгородцев придется прижать, ради долгов ордынских. Али им и то будет любо?.. Ох, куда ни кинь – всюду клин…»
Он с силой растер руками замерзшие вдруг и в летний день, и под шапкой свои маленькие, невидные, будто птичьи, уши так, что хрящи затрещали.
Днями положил себе Юрий уйти из Владимира в Кострому. Больно нетерпелив да настойчив стал Байдера. Кабы и без слова его, самовольно не начал он жечь да грабить Владимир. А ведь то не дело самолично великому князю глядеть, как народ его бьют. Ныне же позвал он к себе Александра – нечего и его зря томить. Знает Юрий, зачем тот пришел. Дело-то и яйца не стоит. Скажет ему: пусть, мол, он его, Юрьевой милостью, беспрепятственно забирает в Москве мощи отцовы да везет их на Тверь. Али и впрямь не заслужил Михаил Ярославич покоя-то – так и спросит. А о мире с княжичем толковать нечего, Александр в том не властен. Велит ему лишь Дмитрию передать, чтобы тот не спешил подниматься-то, коли он хочет того, на великого князя, мол, вскоре великий-то князь так всю Тверь удивит, что, может статься, ей и самой воевать расхочется…
«А что ж, так ему и велю передать», – думает Юрий.
Кабы Дмитрий-то не только силой да норовом, но и умом был в отца, поди, понял бы долговременный Юрьев загад. Да с годами, поди, и поймет, коли поздно не станет. Хотя тот загад его столь хитроумен, что никому, даже ушлому на каверзы Ивану сразу-то в голову не войдет. Так-то оно и лучше! Иное дело, захочет ли смириться с тем Дмитрий, больно уж горды да честны Тверские-то…
А покуда пусть говорят, что он низок и подл, пусть одного его винят за смерть Михаила, не понимая, что и без него, Юрия, не было ему места на этой блядской земле. Что Юрий? Разве без него Узбек не убил бы Тверского? То-то… Да и не свою волю, как понимает он теперь, всю-то жизнь исполнял Юрий, а чью-то, не иначе Ивана-беса, то ли еще кого пострашнее! Ради него и душу свою дочерна исчернил!..
Так не будет же по-Иванову!
Коли не дал Господь сыном грех искупить, то уж и Ивану великий стол не видать! Не должен он достаться ему, не должен! Против того умыслил Юрий меры принять. Решил он младшего Михайлова сына Константина с дочкой своей повенчать. Кровь и вражду любовью заметить! Затем он и собирался идти теперь в Кострому, где их ждала его Софья и куда ранее отправил он Константина с боярами.
Вот уж воистину вопреки всему мыслимому поступал человек, но в том-то и была Юрьева суть, чтобы всех удивлять да еще и самому на себя дивиться! Но, как его ни суди, только это одно ему и осталось, коли хочет он кровь свою, семя свое бесплодное на Руси возродить. Пусть в ненавистной Твери, однако прорастет оно все же! Авось для него – дальнего – и добыл он великий владимирский стол.
«Не для Ивана! Не для Ивана, Господи! Иначе для чего душу-то свою я так испохабил?..»
Темно и пусто глядел в себя Юрий, нахохлившись, сидя на троне. И со стороны могло показаться, что он уже мертв.
Как ни настраивал он себя на встречу с сыном убитого им князя, ан, к сраму, к стыду и позору, все вышло опять вовсе не так, как хотел того Юрий Данилович.
Лишь только увидел Александра, помимо ума и воли, будто ковш до краев, налился той желчью, от которой горько во рту и все, даже самые обычные и простые, слова словно ядом напитываются. Да и Александр, как на вид ни смирен и покорен стоял перед ним, не в силах был скрыть несказанной, яростной ненависти в глазах, так и брызгал взглядом, будто плавленым оловом.
– …Богом прошу тебя, Юрий Данилович, матушкиными слезами молю, отдай тело отца! Дай упокоить его на Твери!..
Словами-то просит, а взглядом-то бьет!
– Али, княжич, гнушаешься по чести меня величать?
Иванов, соглядатай московский дьяк Прокоп Кострома закивал головой, аки дятел долбежный.
– Кабы не отвалилась, – процедил Юрий сквозь зубы дьяку.
Александр пожал плечами:
– Отчего же? Как давеча повеличал, так и сейчас повторю: ты – великий князь, – сказал он и, помедлив, добавил: – Ныне – ты…
– Ишь, ныне… – Юрий Данилович горько покачал головой, – Али и язык-то не поворачивается без оговорок признать?
– Так нет вечного в мире, – усмехнулся Александр.
– Смеешься надо мной? – удивился Юрий Данилович. – Ну, так смейся. Каково-то я еще над тобой посмеюсь, – сказал он и впрямь рассмеялся недобро. – Так признает ли Тверь меня над собой князем великим?
Александр развел руками:
– Молод я, Юрий Данилович, – не властен ответ тебе на то дать. Знаешь ведь, сам покуда под братом хожу, – смиренно, тихо произнес он и потупился.
– Значит, война?
– Говорю же, о том у Дмитрия сведай.
– Али он мне и вовсе не велел ничего сказать?
– Сказал: чтобы знал ты – мы войны не боимся, – сколь мог твердо произнес Александр.
И того, наверное, не следовало ему говорить.
– Так что ж он прямо с войском-то сюда не приспел? – крикнул великий князь. – Коли не мила ему ханская воля! А? Что? Отвечай!
Хуже некуда, как покатились переговоры!
– Не мое дело ваши споры судить, ибо не о мире вы говорите… – вмешался владыка Прохор, покуда стоявший молча позади Александра. – Сыне, великий князь, – обратился он к Юрию, – не бери греха пред вдовой да сиротами – отдай им Михаила! Сказано: мертвые сраму не имут. По жизни был славен тобой убитый, а ведь ныне-то срам ему мертвому в чужой земле без креста лежать и последней чести лишенным. – Владыка скорбно поднял двуперстие: – И ты блажен будешь, ежели не отступишься во грехе. Милосерд Бог, и прощает нам беззакония, когда…
– Погоди, отец Прохор, – прервал его Юрий Данилович. – Не я пришел к тебе под причастие! Да и не в чем мне каяться пред тобой!
– А надо б покаяться! – возвысил голос и владыка. – Или так во вражде, в братской ненависти землю свою на погубление чужим отдадим? – Он уперся не-Моргающим взглядом в Юрия, однако Юрий вынес тот взгляд.
– На других обратись, владыка! – зло сказал он. – Как поется-то на помазание: «Помышляющим яко на государя не по Божью благоволению… тако дерзающим против него на измену – анафема!..» – насмешливо прогнусавил он. – Али не я государь? Отвечай! – крикнул он Александру.
– Государь… – не поднимая глаз, ответил тот. И яростно, тихо выдохнул: – Отдай отца! Отдай брата!
– Погоди, больно скор… – Юрий Данилович помолчал и вдруг скривился в такой гадкой ухмылке, от которой всем, кто видел ее, стало нехорошо. Он взял в руку ухо, покрутил его с силой, будто вовсе хотел оторвать, потом сказал: – Можешь забрать на Москве Михайловы мощи… – Помолчал и добавил: – Но прежде заплати мне за них.
Слова повисли громом в просторных покоях. Пожалуй, еще никто и никогда на Руси не требовал платы за мертвых.
Александр недоуменно поднял глаза. Всякого ждал он от Юрия, но и представить себе не мог такого гнусного торга.
– Что смотришь? Чай, я его за свой счет из Орды-то волок. А мог бы и там псам скормить! – Слова хлестали, как по щекам удары. – Али не нужно мне возмещение?
– Уж не минуешь, – глухо сказал Александр.
– А? Что?
– Сколько? – спросил Александр.
– Погоди! Постой, Александр! Что ты, великий князь, что ты! Грех-то какой! – заметался меж ними, поднимая долгополой рясою пыль, владыка Прохор. – Не усугубляй, Юрий! Братья же вы!
– Молчи, отче! Коли решил, назад не отступлюсь, – сказал Юрий Данилович.
– Сколько? – повторил Александр.
Великий князь усмехнулся:
– Двойную меру хочу – с Твери и с Ростова. – Он ткнул пальцем в сторону ростовского предстоятеля. – А что ж, коли вы вдвоем ко мне прибыли.
– В чем твоя мера? – нетерпеливо перебил его Александр.
– Так, ить, с Твери в серебре.
– Сколь серебра?
– Так, ить, не думал еще. – Юрий Данилович улыбнулся, и от той улыбки морозом дернуло Александра по коже. – А сколь, думаешь, серебра твой батюшка стоит?
– Не мерено в серебре, – сказал Александр, едва удерживая себя, чтобы не кинуться на великого князя.
– А мы вот померим! Померим!.. – повторил он с какой-то бессмысленной, блудливой улыбкой. – Сколь весит батюшка-то, столь и серебра мне отдашь!
– Пошто над мертвым глумишься? – воскликнул владыка Прохор.
– Молчи! Покуда не твой черед, отче! – огрызнулся великий князь и, пытливо взглянув в глаза Александра, осклабился довольной, гнусной улыбкой. – Да уж ладноть, иссох, поди, батюшка-то, – поморщился он и махнул рукой. – Сколь с собой серебра?
Александр ответил не сразу. В глотке вдруг высохло, и он судорожно горлом ловил слюну, которой не было, без которой и губы было трудно разлепить для ответа.
– Двести рублей с собой.
– И то – цена! – презрительно рассмеялся Юрий. – Их и отдашь! – И повернулся в сторону отца Прохора, будто более не было перед ним Александра. – И с тебя, отче, плата…
Владыка поднял на великого князя глаза. Мало на кого из грешных на этой земле глядели с таким презрением. Так-то, бывает, застыв в омерзении, иная баба смотрит на таракана, попавшего ненароком в квашню.
– Пошто злобствуешь, Юрий? Не от Господа шаги твои…
– Пустое – меня стыдить! – предостерег Юрий, подняв властно руку. – Лучше слушай… Пусть в Твери откопают и в Ростов привезут Кончаку, сестру хана Узбека и супругу мою драгоценную… – Видать, чтобы нарочно больнее задеть владыку, Юрий назвал жену не православным именем, какое все ж приняла она со святым крещением, но девичьим – иноверным. – Там ее похоронишь, слышишь! Во храме, где ордынский царевич лежит.
– Не место! – крикнул Прохор, в бессильной ярости сжав кулаки.
– Место! – так же яростно крикнул Юрий. – Или Кончака в Ростове под крестами покоиться будет, или там велю закопать Михаила, где от века не сыщете!..
Его несло, как малую щепку несет мутным, безумным, сокрушительным половодьем. Он и сам не понимал, что с ним сталось – ведь и те тверские рубли его никак не спасали, и треклятый Кончакин прах его никогда до сих пор не тревожил.
– Смилуйся, сыне!
– Али в чем я богопротивен? Али просьба моя срамна?.. Али вечный покой убиенной моей супруги не стоит покоя ее убийцы?
– Не доказано!
А коли и так! Разве не велит нам Господь быть милосердными? А, святый отче?.. – Юрий будто насмешничал, хотя глаза его оставались серьезны и холодны. – Я-то – ладно, ведомый греховодник, но отчего ты-то так не смирен, святый отче? Какой гордыней ты-то обуян, коли себя выше чтишь, чем иных?
– Не себя чту, но веру Христову!
– Так и смирись! Разве не тому Господь-то учил? Смиряться нам велено – вон что! А ты, владыка, разве к тому смирению народ-то зовешь? – Великий князь зло прищурился на ростовского предстоятеля – знал, на что намекал! – Так найдешь ли место супруге моей в Ростове?..
Отнюдь нет, не угрозы, что явно звучала в словах Юрия, убоялся старый Прохор – понял, ныне спором не осилить ему той дьявольщины.
– Что ж, исполню, как тобой велено… – Владыка смиренно приложил руку к кресту.
Оттого, что происходило теперь, и в светлых княжьих покоях будто затмилось; лишь крест на груди святителя, словно вопреки тому, что происходило теперь, сиял еще ярче!
– Все ли, великий князь? – спросил ростовец.
– Али мало? – усмехнулся Юрий Данилович.
– Брата отдай! – едва слышно, схватившимся комом горлом прохрипел Александр.
– Бра-а-та?.. – Одно то слово будто подсекло Юрия. Он как-то разом поник, взгляд его вдруг стал туманен, точно забыл он, с кем, где и о чем говорит. – Бра-а-та? – помедлив, еще спросил он и помотал головой.
Так-то мотают башкой похмельные, сгоняя остатнюю одурь и муть.
– Брата отдай!
– А-а-а, Константина!.. – словно придя в себя, вспомнил Юрий Данилович. На кой-то миг лицо его посветлело и, кажется, сделалось мягче, но тут же вновь исказилось кривой и гадкой ухмылкой. – А брата я тебе не отдам! – тяжко, раздельно, будто гвозди вбивал, сказал он. Как ветер подул, судорога схватила его лицо. – Впрочем… Передай Дмитрию: сам пусть за ним приходит! Только не знаю… – Он еще помедлил в словах. – Захочет ли Дмитрий взять того брата?..
И, перекосив бескровные, бледные губы, Юрий Данилович, как и сулил, засмеялся. На владимирском троне, знаке русской силы и славы, прикрыв руками лицо, вздрагивая плечами под багряной порфирой, смеялся великий князь.
Жуток был его смех. Будто в рыдальной задышке коротко всхлипывал человек.
На том и покончили. Да и не о чем было более переговаривать…
В тот же день, получив от Юрьева дьяка грамотку для Ивана, помолясь в Успенском соборе и преклонив на удачу колена пред скорбным и ласковым взглядом Матушки Богородицы, простясь с ростовским владыкой и владимирскими боярами, Александр отбыл в Москву.
Провожая его как мужа, у всех на виду, до самых ворот Золотых шла Параскева, держась рукой за князево стремя…
А еще через день – в ночь, тишком, оставил Владимир и Юрий.
Глава 11. Разговоры во Владимире
– О-о-о-о-о!..
Круглый, как тележное колесо, от дома к дому, от двора к двору катится вой по городу. В едином вопле боли, страха и ужаса слились тысячи голосов горожан. Не разобрать в том вопле, мужик ли кричит истошно, баба ли кличет пронзительно, дите ли ревет…
– О-о-о-о-о!..
Тяжек ханский посол для Владимира. Не стал ждать бек Байдера, покуда подальше отъедет от стольного города великий князь Юрий, с первым утренним светом ото всех ворот разом: от Ирининых, Волжских, Медных, Серебряных, Золотых, со стороны Клязьмы и Лыбеди – вошли его воины в город, беспощадно, кровавой лавой растеклись по сонным улицам и дворам…
Не народ долги множит, но князья его неразумные, ан платить по долгам всем миром приходится. Не многое выторговал у Байдеры для владимирцев Юрий: обещал Байдера церкви и монастыри не зорить, домов почем зря и во злобу не жечь, а ото всех жителей и их добра взять лишь десятую часть. Да кто ж учет-ником-то над татарином встанет? Богатых да в тайных умыслах противных великому князю горожан вызвался назвать Юрьев союзник суздальский князь Александр Васильевич. У того свое на уме: вечная зависть к соседу да скрытная, заветная мечта самому править Владимиром. Как-никак, ан тоже внук старшего сына Ярославова Андрея – брата-то Невского!..
Ну и пошла потеха!..
– …Ай, харош руска девка! Айда со мной – женой будешь!
– Пусти!..
Намотав на кулак косу, как коня за узду, тянет-волочит за собой татарин боярышню. Рвется, упирается Параскева, зубами пытается ухватить грязную руку – забава татарину. Однако, знать, больно ему – как собаку травит, тычет укусанной рукой в лицо, затем со всей силы кидает на пол, тонкой волосяной веревкой, что впивается до крови в кожу, ловко крутит девичьи руки, вскинутые над головой. А что ему не ловчиться – насел тушей на самое горло – не вырвешься. Вонюч, смраден запах…
– Пусти!..
Смеется татарин, нарочно ерзает вмиг вздувшейся елдой по девичьей шее.
– Пусти же!..
Внизу, у лестницы, – матушка. Рот в безмолвном крике раззявлен, глаза выпучены, вот-вот по щекам потекут. Под ней лужа кровавая. От лона до грудей чрево вспорото.
– А-а-а! – кричит Параскева.
– Ай! – смеется татарин.
По двору мечутся люди: парни и девушки, бабы и мужики; кто-то лежит на земле, видно, с коней порублены…
Воротины настежь распахнуты. Возле ворот верховые. Перед ними – по двое на каждую руку – держат старого Смолича. Белы волосы у него, бела борода, бел, будто саван, длинный, до пят, ночной чехол – из постели взяли боярина. На высокий надвратный конек петлю ладят. Сам Байдера заглянул поглядеть, как помирать будет тот, кому ханская воля не люба. Рядом суздальский князь Александр Васильевич. Байдера весел – смеется, Александр Васильевич мрачен – губы кусает, вертит взглядом по сторонам. Хотя оба с утра хмельны одинаково.
– …Ай, не видал я, как твой Христос помирал, – сокрушается Байдера. – Ай, не покажешь, боярин? Вяжите его к воротине, – приказывает он.
– Да полно, бек, забавиться-то, – урезонивает Байдеру Александр Васильевич. – Казни по-хорошему!
– Или не ты указал на него? – удивляется Байдера. – Чего ж о нем плачешь?..
Тот татарин, что ухватил Параскеву, ведет ее мимо.
– Батюшка!
– Параскева! Доча!.. – Слезы бегут из глаз Софрона Игнатьича, не в силах позор снести.
– Ай, дочка твоя? – тычет плетью в лицо Параскевы ханский посол Байдера. И смеется: – Моя будет. Что плачешь, старик? Любить ее буду! Гони! – машет он плетью татарину…
Зол татарин, тот, что первым ухватил Параскеву: хороша девка, да теперь не его, отдавай ее теперь Байдере. Неохота того татарину.
«Ай, последняя девка-то? – думает он. – Я и другую беку найду. А эта девка моя будет. Шибко сладкая девка-то». Аж в озноб кидает татарина от желания.
Не долго тянет он за собой Параскеву. Летним утром подо всяким кустом в русском городе татарину – рай, коли девку ухватить удалось…
– Пусти!.. – Параскева зубами пытается рвать зловонную, сальную морду, приникшую к ней. Сопит татарин, пыхтит, бьет ее в зубы тыльной стороной кулака, в котором зажата точенная из самшита черная рукоять плети.
Крошеные зубы режут десны и губы – не выплюнуть, рот полон кровью – не крикнуть. Обдирая спину о корни и камни, толкаясь пятками, извиваясь змеей, ползет она из-под татарина. Татарин свирепеет, ярится, роняет с губ ей на лицо слюну.
– Пусти! Пусти!.. – хрипит Параскева.
Однако под кустом трудно укрыться от чужих, завистливых глаз. В очередь на свежатинку спешились помогать татарину другие воины. Слышит Параскева: смеются-скалятся, хватают за ноги, тянут вниз под татарина, затем на стороны, будто надвое хотят разорвать…
А небо над глазами сине, бездонно, и день обещает быть высок, и долог, и ласков, как всегда в августе, на Руси, после глухого ненастья…
Будто каленым прутом до самого сердца пронзает татарин плоть.
– А-а-а-а!.. – кричит Параскева.
И падает небо.
– Жги его, жги!..
– Помилуй, бек! Хватит!.. – воротит нос русский князь.
Но Байдера воин. Не дело воина миловать врагов хана.
– Жги его, жги!.. – велит Байдера и не сводит глаз с боярина Смолича, распятого на воротине.
Байдеров нукер каленым прутом чертит по белому телу неясные знаки, проступающие на коже огненно-черными язвами. От прикосновений прута дергается на воротине Смолич, точно живая, беспрестанно и мелко дрожит воротина, на которой распят боярин. Грудь и живот у Смолича волосаты. Пахнет паленым волосом, жженой плотью.
– Бороду-то, бороду ему подпали!
Берестой пыхает седая, пышная бородища боярина. Огонь по волосам бежит скоро, пламя опаляет глаза.
И падает небо.
– Господи! – стонет Смолич. – Прими мою душу!..
– Эвона, кровь-то бежит!
– Кабы унять!
– Поди-ка уйми…
– Эка, чего сотворили!..
– А-а-а-а…
– Терпи, Параскева!..
– Отходит, видать…
– Ишь, как измяли-то, ироды!
– Ты погоди помирать-то, боярышня, за попом побегли! Поп-то придет, причастит… а Бог-то увидит и разом в рай тебя примет.
– Да нешто иначе – по мукам-то?
– А-а-а-а…
– Не слышит она!
– Отходит…
– О-о-о-о-о!..
С сознанием возвращалась и боль. И так она была велика и несносна, что Параскева вновь проваливалась в забытье. А там, в забытьи, точно по водам плыла…
Чисто тело ее, холодна вода в Клязьме, синяя-синяя, будто выпила небо, да быстра и ворониста, того и гляди, утянет… Только отчего-то не страшно то Параскеве. Быстрее, быстрее несут ее воды, мимо бегут берега, а вот и воронка – бешено крутит пенными бурунами.
«Ах, пропаду!..» – думает Параскева, но отчего-то не вниз и на дно, а вверх, в бездонное небо взмывает.
«Господи! Прими душу мою…»
– О-о-о-о-о!..
Не до разговоров ныне во Владимире.
От дома к дому, от двора к двору, круглый, как колесо, катится по городу вой.
– О-о-о-о-о-о!..


![Книга Миг власти московского князя [Михаил Хоробрит] автора Алла Панова](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-mig-vlasti-moskovskogo-knyazya-mihail-horobrit-239654.jpg)