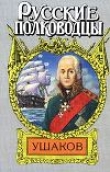Текст книги "Долгие слезы. Дмитрий Грозные Очи"
Автор книги: Андрей Косенкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 25 страниц)
– Истинно так! – подобострастно закивал головой Моисей. – Истинно так! Одно не пойму, добрейший из беков, отчего одним людям ум, а другим лишь несчастья. – Глаза его бегали скоро, как тараканы в пустой избе. – Еще не вели ему воевать, бек-нойон. Ради пользы его не вели, – плаксиво, по вечной привычке, запричитал жидовин. – Ай, горячий князь Дмитрий Михалыч! Чую, худое замыслил. Не вели ему воевать, бек-нойон!..
– Не воюй, – важно кивнул татарин. И опять рассмеялся: – Вольно русским жить в ненависти! Как ни велик хан, а не в силах вас примирить. Но и убивать друг друга без ханского слова вы не смеете – то непорядок в земле, а от непорядка и нам убыток. А, Дмитрий-князь?!
Долго слышал Дмитрий в ушах смех татарина. Причем прав был татарин – что ему не смеяться?
Так и живем ненавидя друг друга, а и убить без чужого слова не в силах.
Таким образом, заход в Кашин напрочь изменил первоначальный загад Дмитрия. Теперь даже малая возможность столь желанной и верной и, может быть, единственно искупительной и необходимой войны исключалась…
Кажется, обочь дороги шел Дмитрий, да ноги, знать, сами к воде забирали. И то сказать, солнце палило в зените. Давно уж и кони и всадники просили пощады, одинаково косили глазами в сторону, где лежала река.
Наконец остановился князь, поднял голову, а перед глазами – что твое небо! – Волга…
Неиссякаемой, немыслимой силой владеет тот родник, что от века питает державную реку. Невидным ручьем, который и воробей вброд, поди, перейдет, начинает она свой неспешный, раздольный ход. Несчетные птичьи озера щедро поят ее серебряной, ключевой водой, жадные, топкие болотины и те не скупясь отдают ей влагу, устья лесных речушек то по-девичьи смущенно, то полюбовной украдкой или же легким целомудренным сестринским поцелуем бегло целует она, в устья иных полноводных рек впивается долгим, любострастным засосом, и талая вода ей в прибыток, и дождевая капля ей в радость, от истока все более полнится, смелее окусывает берега, моет землю до камня, где в рыжь замеднеет от торфа, где от песка замутится, а где – заржавеет от крови, ничто ей не в стыд и не в срам, весной ли, летом, зимой подо льдом без устали точит русло, глубит и ширит, вбирая в себя беспощадно все, что ни встретится на пути. И вот течет – покойна и величава, ласкова и угрюма, добра и алчна, погибельна и целебна, могуча, как богатырь, и беззащитна, как дева, прозрачна и немерено глубока, едина для всех, ко всем одинаково участлива и безжалостна и в том царственно равнодушна и справедлива. И кормит, и топит, и радует, и печалит, и ужасает, и слов не слышит, подвластная только Богу. Не такова ли и власть должна быть на Руси?
Не видя впереди князя, но и не имея приказа остановиться, войско все же сбилось с шага, Передние сомневались – идти ли дальше, задние подпирали, в середке кони переступали на месте. Как бывает на походе среди многих людей, когда вдруг возникает миг нерешительности, всем захотелось и спешиться, и воды испить, и затекшие члены размять, и нужду справить, ну точно как у одного, у всех тысяч разом подперло. В рядах загомонили разноголосо, ожидая Князева слова.
Прискакали от войска.
– Али здесь станем, князь?
– Да хоть здесь. Спешить ныне некуда.
– Али не на войну бежим, Дмитрий Михалыч? – весело крикнул Павлушка Шетнев.
Возглас его повис в воздухе безответен. Дмитрий и голову не повернул. Дмитрий глядел в воду.
Ей-богу, странен и непривычен для тверичей был ныне князь, точно спал на ходу…
Как и предполагал Дмитрий, Юрий подошел со стороны Переяславля. Пожалуй, одни переяславцы были по-настоящему верны великому князю и искренне любили его с той поры, когда еще при жизни Даниила Александровича юнаком княжил он в этом городе и не только никому не давал переяславцев в обиду, но именно с ними воинскую славу добыл, удачно примыслив к Москве Можайск. Всегда-то переяславцы имели отменное войско, отличались отвагой и ратной выучкой, да к тому же войско их, подкрепленное костромичами, ярославцами и московичами, составляло ныне грозную силу, собранную Юрием против Твери.
Но, как и предвидел Дмитрий, шагнуть в тверские владения великий князь не решился – остановился на переяславской земле в виду сторожевого полка.
Однако и сам Дмитрий, к изумлению ближних и дальних, да всех тверичей, шедших с ним, далее Святославлева Поля, волжского городка, войско свое не повел. Надеялись – ждет князь подкрепления, но вот и ладьи подошли, а он отчего-то мешкал. И Юрий, как докладывали сторожа, двигаться вперед будто ад-все не собирался. Без лая и брани, без обычных словесных укоризн, молча стояли друг против друга два дня. Наконец прибежали в Святославлево Поле послы от Юрия, звать Дмитрия на поклон великому князю. Но от прямой встречи с Юрием Дмитрий уклонился, вместо себя послал на переговоры владыку Варсонофия с боярами. Наказал им расплатиться с великим князем ханской данью. Условием того, что не будет искать под Юрием великокняжеского стола, поставил возвращение в Тверь брата Константина с заложниками боярами, по сю пору удерживаемыми в Костроме, да то еще, что великий князь оставит Тверь своими поборами. Одним словом, Дмитрий не более чем повторил требования отца к Юрию, когда он вынужден был отречься от владимирского стола: «Будь великим князем, если так угодно царю, меня же оставь спокойно княжить в моем наследии. Я в своей отчине – князь…»
Юрий, сказывали, сильно удивился и даже обрадовался Дмитриевой покорности. Хотя, разумеется, вряд ли поверил в нее. Однако теперь и ненадежный мир с Тверью был ему на руку. На руку было Юрию и ханское серебро. Великий князь спешил в Новгород, откуда приходили вести одна горше и тревожней другой. Без прощания помер-таки единственный человек, что был ему искренне верен и люб, – брат Афанасий. Нарушив мир, шведы теснили новгородцев в Карелии, стремясь овладеть Кексгольмом, да еще, чуя слабость безвластия, норвежцы взялись за старое: разбойничали против новгородских купцов на воде. Новгородцы же, видно, гневались на Юрия, забывшего их ставши великим князем, хотя готовы были простить и принять его вновь, когда бы сплотил он их и повел против шведов. Да Юрий и сам, не найдя утешения и смысла в великой власти, всей душой теперь рвался в Новгород, казавшийся ему единственным надежным оплотом. Ханское серебро как нельзя кстати нужно было Юрию для пополнения собственной казны, для ведения войны против шведов, норвежцев, псковичей, тоже, между прочим, в то время ополчившихся на новгородцев, литовцев, грозивших войной, не иначе, как думал Юрий, по сговору Дмитрия с Гедимином… В сложившихся обстоятельствах каждый золотник серебра ценен был великому князю. Так что, не сильно отягощаясь угрызениями совести, Юрий готовно принял две тысячи полновесных рублей серебром, назначенных Тверью в ханскую ругу. В конце концов, Узбек без тех тысяч не обеднел, да и не навек же он их присвоил себе.
«Станет леготней – верну…» – так решил Юрий.
В ответ Дмитрию он пообещал немедля отпустить Константина со всеми аманатами и даже с приданым за дочкой Софьей, волею случая ставшей Константину женой, а также дал слово не вступать в пределы тверского князя, коли и он останется своему слову верен…
Так, казалось бы, и разрешилось все к общему удовольствию.
От Бориса и Глеба, и ныне, и присно, чудовищна на Руси судьба государей, что ради ли общего блага, но отреклись от власти, данной им волей Господней. Мученичество их страшно и свято не только лишь гибелью, ведь все, в конце-то концов, когда-нибудь умирают, но мукой истерзанного сознания, что отреклись они пусть с желанием блага, но в пользу заведомого злодея – будь то Святополк Окаянный, будь то Юрий, черный душой, будь кто иной… И не бывает блага за отречением…
Как уныл был поход Дмитрию, когда вел он войско на Юрия, заранее зная, что не будет войны, так тяжко было ему возвращение.
И сомнение и ужас смутили душу его, когда среди белого слепящего дня, в зной и зыбкое марево внезапная мора накрыла тверское войско. Тьма упала с той стороны, куда шли. Солнце как раз висело над Тверью, когда неведомая, более могучая, чем сам Божий свет, мрачная сила заслонила его.
Что то было за помрачение? Чей ли опашень ненароком прикрыл Русь от солнца и правды? Бес ли нарочно застил Господу взгляд? Сам ли Господь в печали о неразумных чадах своих, бедных русичах, в гневе ли на их слабодушие отвел в тот миг взгляд от Руси?.. Но явно видели люди – рука смерти, поднявшись над Тверью, заслонила солнце от глаз и от мира. Неопадаемым черным облаком вопль отчаяния и беды стоял над землей. Кони кричали и спотыкались, плакали воины, тщетно просили прощения за многие вольные или невольные прегрешения, коими так богат человек.
«Господи, Иисусе Христе, защити!..»
– Дай знак правды мне, Господи! Яви солнце, яви! – отчаявшись в сомнении, глядя в пустое, безгласное небо, молил Дмитрий. – Значит, не от Господа шаги мои? Не от Тебя, Господи? Ответь!..
Не оставляло Божий мир омрачение. Пусто и темно было в небе. Жутко и холодно было в сердце.
«Погибе, съедаемо солнце!..»
Глава 3. Константин. Возвращение
Но и в тревоге, и в горести дает Бог утешение. В августе, сразу после Успения, воротился в Тверь Константин.
Не так, как мечтал – с виной и опаской скупил он на отчий двор. Прибыл под самый вечер, когда сумерки сгущались уже во тьму. Нарочно не слал гонцов упредить о своем возвращении. Не хотел юный княжич ни слез, ни лишнего шума, ни праздника.
«Да и какой уж тут праздник?..» – так думал он.
Ан вышло не по его. И шуму наделал, и чужие слезы сронил, и хоть на миг, но вернул на Тверь радость. От Волжских ворот, обгоняя небогатый поезд Константина, неслась счастливая весть – княжич вернулся!
Перед тем как взойти на двор, в пояс поклонился Спасскому собору, высившемуся белой громадой на темно-лиловом доличье вечернего неба, затем ссадил с возка жену Софью Юрьевну. С ней вместе, рука об руку, и ступил за ворота.
А уж двор полон – не поймешь, кто – свои, кто – чужие, тем паче что все округ точно родичи. И то сказать, тверичи! А сзади по улице крик, еще бегут, подпирают боярские жены да матери, сронив платки, разметав волосы, спешат на груди возлюбленных сынов да мужей, тех, кто вместе с княжичем воротился. Напереди сенные девушки сбились стайкой, рты открыли, а и не знают, величальную ли запеть, встречную ли, просто ли заголосить от радости, – только мыкают. Старые челядинцы плачут, ловят княжича за руки, платье целуют; новые дворские не ведают, то ли спину гнуть, то ли голову лишь склонить, а ну как не милостив будет Дмитрий Михалыч ко княжичу? Ан улыбаются приветливо, точно новый кафтан примерили…
– Княжич! Княжич вернулся!..
И все это скоро, мимолетно, что не обсмотришься.
Первым из родных круглым катышем скатился с крыльца Василий:
– Братка! Братка приехал! – Не поймешь, то ли смеется, то ли плачет от радости. Тычется влажными, толстыми губами в лицо целоваться. – Братка! Живой! Ай, матушке утешение-то!.. – И не пускает, виснет на плечах порхлым, не моренным голодом телом.
– Экой ты ласковый-то, Васятка! Пусти, взгляд застишь! Где братья-то? Где матушка?
– Бежит, бежит матушка!
А уж с крыльца слетел Александр. Алая шелковая рубаха на бегу пузырем дуется, летит, как на врага, того и гляди, с ног собьет, а лицо остро, обгоняя ноги, навстречу тянется, глаза полны светом, губы веселы. Не успел вдоволь увидеть – мягкая, пуховая бородка защекотала щеки, ткнулась в глаза.
– Костяня! Костяня вернулся!
– Да дай поглядеть-то на тебя, Саша!
– Али ты и правда вернулся?
– Вот пришел, брат…
И снова по щекам не щетиной, но мягким пухом братнина борода муравится.
– Пришел, брат, и ладно, и хорошо. Костяня! – Не знает Сашка ни силы своей, ни удержу, бьет по плечам ладонями, мнет тычками бока, точно коня покупает.
«Али и впрямь так рад? Саша!..» – подкатывает под горло благодатная волна благодарной нежности.
– Саша!
– Костяня!..
И вдруг оборвался всякий шум, радостные всхлипы и возгласы умерли, слезы на щеках и те на полпути замерли, забыв дальше катиться. Через плечо Александра увидел Константин матушку. И сердце сжалось, страстно и трепетно, как его дитячья ладонка в материнской руке, когда впервой вела она Костеньку в храм на причастие.
Матушка…
Родная и незнакомая, не вовсе старая, но иная, высохшая тонким лицом, в черных непривычных, точно иноческих одеждах, в черном же, низко повязанном волоснике увиделась мать Константину далекой и строгой. Не выдержал он ее взгляда, опустил глаза, шагу не мог ступить ей навстречу, тут же посреди двора упал в мягкую летнюю пыль на колени.
Анна же Дмитриевна глядела на сына и не видела его, будто ослепла. И то, слезы туманом заволокли глаза. Хоть и ждала ежечасно его возвращения, хоть всякий день молила о встрече с ним Господа, ан радость-то, как и горе, всегда внезапна.
Маша, невестка, взяла ее под руку, помогла спуститься с крыльца. Как поводырь слепца, подвела ее к Константину. И извечным жестом прощения возложила Анна Дмитриевна руки на голову сына. Да губы-то иное произнесли:
– Прости меня, сыне…
От слов ее, как от удара, вздрогнул плечами.
«Господи! Она-то пошто винится?!»
– Не надо, не надо, матушка… – сквозь сдавленное горло глухо сказал, как пролаял, Константин и уткнулся лицом ей в колени…
Лишь Дмитрий не встретил брата. Был в Загороде, у Любы. По поздней поре Анна Дмитриевна не велела его тревожить. Разумеется, не о старшем пеклась. Хотела, чтобы младший оправился от дороги, хоть чуть, но обвыкся в родных стенах, признал их своими да причастился у заутрени в отчем храме Святых Даров, перед тем как встретиться ему с братом. Тяжек был Дмитрий с тех пор, как вернулся с пустого похода. Тем ли терзался, что ханскую дань отдал Юрию, иным ли…
После уж, ночью, когда все уснуло, округ, не ведая сам зачем, выйдя из своей детской спаленки, впотьмах бережась споткнуться, пошел Константин по дому. Точно неведомая память хранила его шаги, нигде не споткнулся, будто и во тьме узнавал прошарканные на углах половицы, мятые выбоины и зазубрины от железа на деревянных стенах. Спустился на низ, мимо клетей, где спали челядинцы, прошел на крыльцо. Ночь была светлой и зябкой – на раннюю осень. Обойдя прирубы, звонко, разбудисто помочился в отхожую яму, как делал то малым ребенком. Глухо и радостно перекликнулся с узнавшими его сторожами.
– Жив, княжич?
– Здрав!
Вновь вошел в дом, в естовой на ощупь – надо же, и то помнили руки! – глиняной корчагой из бадьи, что от века стояла для всех на приступе, зачерпнул кваса, испил, роняя капли на грудь. Затем поднялся по лесенке, опять не споткнувшись, и вдруг, точно впервые почуяв его, задохнулся тем терпким и нежным, невосполнимым в разлуке, единственным запахом дома, который так часто, просыпаясь в слезах, не носом, но сердцем обонял он в томительном, долгом плену.
И тут почудилось Константину до яви, какой и наяву-то явней не бывает, что вот сейчас откроется дверь отцовых покоев и встанет на пороге отец, как в минувшем когда-то.
«Батюшка!..» – чуть не в голос ахает он.
«Здравствуй, Костя…»
Ветер ли с Волги дохнул по крыше ознобисто, мышь ли за стеной пробежала.
Тих и укромен дом.
Наутро, лишь отзвонили колокола, сбились в княжью гридницу многие люди.
В красном углу на отчем царском стольце угрюм, сидит Дмитрий. Матушка рядом, брат Александр… Новые лица: братьевы жены – Настасья Дмитриевна да Мария Гедиминовна – Маша, как все ее кличут. И то сказать, что за жена? Ей кукол в самую пору рядить в тряпицы, а она, ишь, глазищами плещет, смотрит на Константина жалостно. Ей-то что за печаль?..
По лавкам бояре и окольные Дмитриевы, среди которых нет-нет да встретится тоже не вполне знакомое Константину лицо. Сменился батюшкин двор. Те стары стали, те умерли, иных-то и вовсе убили. Из прежних в почете на первых местах Михайло Шетнев с сынами, Федор Матвеич Половой, опять же Шубин Василий, что батюшке стремя держал, Федька Ботрин средь первых… Других-то враз и не припомнишь: кто чей? Есть и явные чужаки: индо из угла Носырь какой пялится, глаза что угли, бери их в руку да мажь ими по белому. Сбоку да позади от Константина те бояре да Михайловы еще слуги, что намедни вернулись с ним из Юрьева плена. Им-то худо было до последнего дня. С некоторых путы сбили лишь перед тем, как из Костромы выпустить. Иной и по сю пору с невольной мукой на лице трет запястья – знать, чешутся, поминая о бесчестном позоре, а у кого кисти и вовсе пропитанными гусиным жиром льняными полосами обмотаны, знать, гноятся еще от железных браслетов великого князя владимирского! Знает Константин: была б воля тестю, уж он бы всюю Русь в те браслеты сковал, дабы любезным ему татарам ятти ее было сподручней, бедную…
В стороне, чуть наособицу, сложив на груди руки и прислонясь плечом к стене, с решительным, востроносым, сильным лицом мирянина, подвизавшимся за правое дело на ратные подвиги, от привычки стоять, склонясь над кропотливой писчей работой за высоким налоем, и в княжьей гриднице не присел на лавку, бывший игумен Отроча монастыря святоучительный отец Александр. Одиноким перстом высится надо всеми. Не велик ростом, не зело могуч телом, а вот уж действительно подумаешь, на него глядя: «И один в поле воин…»
Именно он, став его последним духовником, сопровождал Михаила Ярославича в Орду на муку и смерть. Именно ему довелось причастить князя последний раз Святых Тайн. Ему князь поверил последнюю исповедь… После отцовой казни отец Александр тоже был схвачен Юрием, далее во всех мытарствах сопровождал Константина и с ним же только вчера вернулся из плена.
Однако отец Александр даром времени в плену не терял. Весь год, таясь от Юрьевых соглядатаев, украивая для того всякий миг, безжалостно марая бумагу и чистя наново, писал он повесть «О конечной страсти блаженного Христова воина великого князя Михаила Ярославича, которая сотворилась в последние времена во дни наши». Будучи прямым самовидцем усердия князя к Вере и Отечеству, неправедных судов над ним, мук и казни его, «боясь и трепеща своей грубости», все же решил отец Александр, что «нелепо в забвении ума оставит жизнь сего блаженного князя», и прославлению памяти о нем в назидание и свет проповедей потомкам посвятил труды свои да и всю дальнейшую жизнь…
Константину первому и покуда единственному слушателю читал он написанное. Великий, многознающий книжник отец Александр, да не только умом силен, но и духом воинствен и крепок, как камень, пущенный из пращи во врага. Иное дело, когда разящие слова его цели достигнут, но уж в полете они. Константина и то не раз охватывал малодушный ужас и стыдный страх, когда он лишь слушал его, а какое ж мужество надо иметь в груди человеку, дабы не бояться писать крамольную истину.
Мыслимо ли, первым отец Александр Михаила Ярославина святым восславил, а вину за смерть того святого возложил не на слугу – поганого Кавгадыя, не на Юрия – бешеного пса, на отца натравленного, но на единого хозяина слуг своих и затравщика иных многих бешеных псов против русских – Узбека, царя всех татар! Одной его волей нечестивые судьи решили: «Смертью нелепотною осудим его, яко неключим есть нам, не последует нравам нашим». Ибо «есть царь именем Азбяк, богомерськой веры сороциньской. И от него нача не щадить рода христианского, яко же бо о таковых глаголюще царские дети в плену в Вавилоне сущии: «Предаст нас в руки царю немилостивому, законопреступну, лукавейшему паче во всей земле…» И однако же, вопреки власти его и самой смерти: «Радуйся, воин Христов непобедимый, но всегда побеждавший врагов, приходящих в отечество твое! Радуйся, страстотерпче Христов, яко прииде святое имя твое во всю вселенную…» – так писал отец Александр[14]14
«Повесть о Мих. Тверском». Памятник древнерусской литературы. Написана в 1319–1320 гг. Авторство действительно приписывается игумну Отроческого монастыря отцу Александру.
[Закрыть].
Честен, гневен и смел на слово отец Александр, дал Бог ему дар. Дал и мужество. А все же, если дойдут до Узбека те огненной правды слова, что малыми буквицами, ан на века, выписал отец Александр на пергаменте, не миновать ему худа. Но на Константиновы страхи да опасения отец Александр всегда одно отвечает с тихой улыбкой:
– Нет худа от Господа Божиим людям, кроме добра, ан чему быть, сыне, тому и не миновать стать…
Привычный стоять, молчалив и внимателен, высится надо всеми отец Александр. Вот кому бы во всем доверился Константин покаянными да жалобными словами, только не надобны слова его отцу Александру, он и так его сердцем чует, и плачет о нем душой, и молится о нем Господу… и не прощает…
Да и как простить? Вон вина-то Константинова, по правую руку и сидит от него – жена его Софья.
Не в батюшку норовом дочь. Тиха, робка и покорлива Софья. Точно и впрямь, грезами отцовыми прижата к земле, как битая градом пшеница. Да хвороба еще сушит ее день ото дня. И в жарынь знобко ей. То и дело перхает кашлем, будто в горле заноза, видно грудью слаба. Чахла, увядуща в ней жизнь, хотя сердцем – знает то Константин – исполнена Софья нежности и любви ко всему, что дышит и цветет на земле. А уж сколь тихой нежности узнал и он, Константин, в тонких пальцах ее, никому не узнать и не понять, как дорога была нежность та Константину, потому что пришла хоть нежданно, да в самую пору. Одинокая, изъязвленная, униженная муками душа его ждала утешения и нечаянно, волей несправедливого, злого рока нашла его в сердце дочери отцова убийцы. Впрочем, знаем ли мы Господни пути, чтобы сетовать на судьбу?.. А первую-то ночь, как отстояли пред Богом под союзным венцом, только и плакали о судьбе. Сначала порознь, а после уж вместе полма мешая слезы и неумелые, робкие ласки…
Краем глаза Константин взглянул на жену, ободряя, сжал в своей руке ее холодные, послушные пальцы, чтобы до смерти-то не обмирала под колючими, чуть ли не враждебными взглядами тверичей и родных. И то сказать, глядеть-то было особо не на что, не больно-то удалась на вид Софья Юрьевна – ни титек пышных, как у Сашиной Герденки, ни лика ангельского, как у Дмитриевой, не взросшей в тело еще Гедиминовны, ан и в невзрачности, в вечно опущенных долу глазах, в жарком недужном румянце на тонких, будто точеных скулах, в губах, силящихся улыбаться навстречу чужой неприязни, была некая притягательность, если не тайная душевная красота, что неизменно у владеющих ею проступает очевидной печатью и на лице; Да и что ж в том худого, что для иных твоя жена лицом-то невзрачна, им ли видеть ее лицо? Им ли судить, какова она для тебя? Да и лицо-то, чай, не зеркало, чтобы глядеться в него. И то хорошо, коли в жениных глазах свою боль узнаешь, и важно ли тогда, какого цвета они?..
А то, что дочь она Юрьева, и о том знал Константин заранее. Что ж ее в том винить? Да разве она виновата в том, что батюшка ее волею своей с ним повенчал? Разве не сам Константин виноват, что поддался на Юрьевы уговоры, сломился, не выдержал, уронился? То-то и оно, что сам он с женой, как с виной повенчался.
Вон она – жаль его и вина, сидит от него по правую руку ни жива ни мертва, того и гляди, обомрет до бесчувствия, столь напугана. А в чем она виновата? И разве не сказано: любовью искупим грехи?..
Константин еще крепче сжимает безжизненную, холодную Софьину руку, которая и в оцепенении страха силится ответить ему слабым утешным движением. Мол, ничего, ничего, хорошо…
Кажется, давно ли то было, когда отправляли княжича в Сарай живым залогом под скорую смерть Михаила. Кажется, вовсе недавно в этой же самой гриднице прощались и Костяня стоял перед близкими, гордый тем, что выпала ему честь перед ханом ответ держать за отца. Да по малолетству-то не столь и подвиг его прельщал, сколь дальнее путешествие. Али знал он, на что идет? Оттого и удивлялся искренне, что матушка с батюшкой да и братья-то не радуются за него, как он сам радовался, но горюют, а потому утешал их с бодростью: «Да вот же, не уронюсь я перед татарами! Что ж вы напрасно печалуетесь?»
И пунцовый от гордости и внимания, глядел на родителей даже с жалостью, а на старших-то братьев с высокомерием: вон, мол, как меня среди вас отличили!..
Кажется, давно ли то было?
Ох, как давно! Будто целая жизнь пронеслась сокрушительным ураганом!.. Не таким Константин вернулся в Тверь, каким когда-то ушел. И дело не в одних лишь летах, прибавленных в возраст ему скороминующей жизнью. Дело в том, что замкнулся, ожесточился он сердцем, а ведь не было среди Михайловых сыновей более ласкового и доверенного к добру, нежели чем он. Будто вишневый лист, по предназначению на благое готовый к свету и радости, открылся он по весне, ан вдруг побило его внезапным морозом… Впрочем, и то хорошо, что жив-то остался…
Даренный тестем княжий кафтан с шитым золотом оплечьем и пристяжным высоким «московским» козырем, с пущенными по нему узором жемчужными нитями и дорогими каменьями, обвисал на хрупких, худых плечах как чужой, топорщился колом на сутулой спине. Видно, в последние месяцы, скоро наверстывая, вытянулся Константин в рост колодезным журавлем, но, словно смутившись того запоздалого роста, согнулся, сгорбился тощей спиной. Короткие, стриженные «венцом» волосы еще пуще подчеркивают худобу, виски и щеки запали, как у отжившего старика, но главное – взгляд синих, доставшихся от матушки глаз стал тускл и уклончив, будто навек затаил вину…
Хотя никому и в голову не взошло его укорять. Да ведь, по сути, и не в чем было корить Константина. Бывает, и зрелому человеку легкий пост тягостен, а мыслимо ли мальцу, у которого кости в самый рост побежали, не пост во спасение души и за-ради Господа нашего, а многодневный нарочный голодный мор вынести? Да ведь не просто голодом его в смерть вгоняли – куда ни шло! – помаешься какие-то дни, а потом и смиришься, а после еще и возрадуешься телесной легкости да милым видениям, что ангелы от жалости тебе навевать начнут, а там, глядишь, помолясь, и помрешь, и сам Господь воздаст тебе небесной сытой пресладкой[15]15
Сыта пресладкая – разварной мед на воде.
[Закрыть] за муки твои. Ан поганые-то, известные на мучения изуверы, морили Константина так, чтобы и дух ослабел, и плоть ежечасно страдала, и чтобы, не приведи Господи, не помер прежде времени, покуда живой надобен был Узбеку, дабы через те мучения сына легче ему было отца сломить. По силам ли мука-то?..
Раз в день, а то и через другой, а то и на третий кинут кость, как собаке, – жри! И ждешь этой кости-то!.. А то нарочно гостинцев нанесут – вот, мол, тебе от ласковой царицы Боялынь: кушай, княжич! Да все и впрямь со стола царского – жирное, сладкое! Каким духом ни наделен, а слюна-то сама побежит. Ну и набьешь утробу-то! А как набьешь, так кишки в пузе, точно змеи по весне, в клубок спутаются и жалят, язвят тебя изнутри до того, что криком заходишься. Думаешь: ну уж нет, боле-то не купите меня своими гостинцами. А после-то, как седмицу-другую на едином просе с водой просидишь, так и взмолишься на милостивую царицу: дай гостинцу-то, тетенька! А то еще с водой начнут подавалы косоглазые баловаться. То вовсе глотка лишат, а то, ради шутки, с солью ее намешают: пей, мол, княжич. То, мол, не вода, но слезы батюшки твоего. Вон как печалуется Михаил-то Ярославич, батюшка твой в Твери по тебе, да чтой-то выручать не идет. Пей, свинья русская!.. Ан пьешь, куда денешься?..
А потом, когда уж опух от голода, от слабости на ноги вставать перестал и в забытьи воистину ангельские голоса начал слышать, Узбек вдруг переменился к нему, смилостивился, велел на поправку его вести.
Да ведь известно: милость-то царская как гривна серебряная, в отхожую яму брошенная – покуль достанешь ее, по уши измараешься. И добрую волю татары издевкой приправили – месяц одним лишь кобыльим молоком да кумысом потчевали. Каково было княжичу, в ком кровь и Василька Ростовского, и Михаила Черниговского изрядной долей намешана, смиренно склониться на обычай поганых? А какие радости-то сулили ему ханские муллы, кабы он в голос, во всеуслышание отрекся от православной веры Христовой в пользу магумеданства! И то предлагали Михайлову сыну. Знать, совсем уж низко его поставили… Да ведь и то не все унижения, кои пришлось принять. Но разве про все-то выскажешь?..
О многом и вовсе не рассказывал Константин, дабы не показалось кому, что нарочно он Дмитрия да иных людей жалобит, но, главное, пропускал он в рассказе самое страшное для того, чтобы матушку зря не терзать. Она и без того глядела на сына с такой мукой, вынести которую в ее глазах Константину теперь было чуть ли не тяжелей, чем те страдания действительные, кои уж пережил. Все в глазах ее было предельно: и скорбь, и боль, и любовь. Мыслимо ли так страдать от одних слов о том, что прошло? Не всякому, но редкому из людей дано на крест взойти, подобно Божиему сыну, искупившему своей смертью чужие грехи, ан материнским глазам, прозревающим судьбы детей своих, знать, чаще бывает доступна печаль Пресвятой Богородицы. И суть ли в том, что дети-то бывают недостойны этой печали? Впрочем, на этом свете печали достоин каждый…
Иначе глядел на него батюшка, когда встретились. По сю пору, будто во всякий миг помнил Константин отцов взгляд. Ах, как сожалел о нем батюшка: мол, потеряла Русь князя. Ни за что не винил, но сам виноватился, да не одним только взглядом» Истинное слово, встал веред ним на колени:
«Прости, говорит, Константин…»
«Господи! Он-то, святый, чем виноват?..»
И Константин заплакал:
«Ты прости меня, батюшка!.. Уронился я пред погаными».
Не простил отец. Хотя и милости родительской не лишил.
Да ведь не плакать было надобно, а уверить отца в том, что всей жизнью, сколь ни будет ему отпущена, но достанет, вернет он свое достоинство.
Уверил бы, ан после вновь уронился, поддавшись Юрию и женившись на Софье? А может, те уверения и удержали его от низости? Ку-у-ды! Ежели дух не окреп, но подломлен уже, разве трудно клонить его в нужную сторону?
«Али не князь я – и прав в том отец? Али никогда не воспряну от татарского ужаса и вечно жалким страхом буду томим, как сука, битая многажды, – и прав в том отец? Но разве не сын я его? Разве и я не Михайлович? Дай мне, дай мне, Господи, силы на жизнь – и я разуверю его!..»
Многими печалями полнилось Константиново сердце, главная из коих в том состояла, что ни в ком не мог он найти суда на себя и прощения. Ибо нельзя простить, не зная вины…
О том, что произошло с ним за эти годы, Константин говорил степенно, даже и равнодушно, будто вовсе и не о себе говорил. Только иногда замолкал вдруг, опустив глаза в пол, и тогда всем казалось, что не в пол он глядит, точно выискивая на половицах стародавние, памятные щербины, но в душу свою заглядывает. А что он там видел, кто ж его ведает? Только жутко становилось в гриднице, когда он умолкал. Но никто не смел тревожить его молчания.


![Книга Миг власти московского князя [Михаил Хоробрит] автора Алла Панова](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-mig-vlasti-moskovskogo-knyazya-mihail-horobrit-239654.jpg)