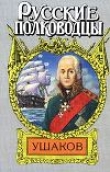Текст книги "Долгие слезы. Дмитрий Грозные Очи"
Автор книги: Андрей Косенкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
И вновь возникали тягостные слова. И вновь кривила безусые губы княжича незнакомая, болезненная усмешка, в которой не измерить и не понять, чего было больше: страха, ненависти или презрения к себе самому.
И от рассказа его души-то у всех в гриднице столь звонко напряжены, что, кажется, дай им волю, выльются наружу слезами и сольются в истинно братском прощении и понимании. Может быть, так-то и надобно. Ан не плачут тверичи. Строги люди для душ своих пуще ленивых сторожей в ночном. Целый мир даден Господом людским душам для выпаса, да треножат их боязливые путы…
– …Вот так оно, значится… А уж из Владимира, как раз в канун твоего прихода, Саша, повезли меня в Кострому. – Опять Константин усмехнулся болезненно. – А бояр моих ровно скот плетьми погоняли.
– Так все и было, батюшка, – вздохнул кто-то из бояр.
– А там, в Костроме-то. – Константин вяло махнул рукой. – Да что говорить-то… Словом, сломил меня Юрий Данилович…
И снова повисла в гриднице какая-то истинно гробовая безысходная тишина.
– Так уж вышло, брат… – уставясь в пол, глухо сказал Константин. Помедлил еще, затем поднялся с лавки, поглядел в глаза Дмитрию и неожиданно упал посреди гридницы перед ним на колени: – Ты прости меня, Дмитрий.
– Пошто меня простить просишь? – Дмитрий в удивлении вскинул брови. – Али я судья на тебя?
– Кому и судить? Разве не из-за меня сподобился поклониться Юрию? Не из-за меня от отцовой власти отрекся?
– Не отрекался я! – Дмитрий даже пристукнул кулаком по подлокотнику кресла. – И не отрекусь никогда – все знайте! – Точно огнем плеснул он глазами по гриднице, выхватывая взглядом лица бояр. – Отчей памятью, русской волей и нашим обычаем я – князь над князьями. И перед ханом в том утвержусь! – Дмитрий поднялся от стольца, сошел к Константину, сказал как мог мягко: – Встань, Костя. Не в чем мне прощать тебя, брат. Не тебя я у Юрия выкупал – власть тверскую.
– Брат! – Не один Константин, но и многие, поди, не поняли тогда Дмитриева утешения.
– Встань, Константин, с колен. Не подобно тебе, полно, брат. – Дмитрий силой за плечи поднял младшего брата на ноги. – Тебе ли искать прощения? – Константин ткнулся лбом в жесткую, точно под панцирем, могучую грудь Дмитрия. – А коли знаешь вину за собой – так на то есть Господь. Он милостив. Он простит. Зато впредь жить станешь честно.
– Ради Твери жить буду, – всхлипнул задушенно Константин.
«Эко душу-то ему иссушили! Кабы теперь слезьми прорвало…» – обнадежилась Анна Дмитриевна. Но когда Константин поднял голову, глаза его были сухи, как камушки, рекой намытые и высушенные солнцепеком на берегу.
– Все ради Твери живем, – бодро и даже весело откликнулся брату Дмитрий.
– А вот. – Константин как-то заспешил, оглянулся на Софью, которая глядела на братьев опрокинутым, белым взглядом, точно к удару готовилась. – А вот жена моя. Люби ее, Дмитрий! Плоть от плоти отца своего, но другая она, другая!..
На тех словах Дмитрий повернулся спиной к брату и пошел от него на место. Константин вроде сник, однако упрямо продолжал говорить в спину Дмитрия, кривя рот в болезненной жалкой усмешке:
– Юрий Данилович-то, тесть мой, конечно, свою блюдет выгоду. Хочет он, брат, через мой союз с Софьей в дружбу к тебе войти. Лукавит ли, нет ли – не знаю, ан клянется; ищет твоей приязни. Так вот льстил: мол, знаю злобу Дмитрия и боюсь его, однако, коли Дмитрий меня признает, вместо отца ему стану!..
– Молчи! – Лицо старшего брата сковала судорога бешенства. – Молчи, Константин, в чем не смыслишь! Вор он, блядов сын! Вор!
– Так-то оно так, – опустив глаза, прошептал Константин. – Ты не верь ему, да… Только, – неожиданна до звона возвысил он голос, – не лай его боле при ней! – кивнул он на Софью. – Отец он ей, а мне тесть! Пред Богом мы с ней повенчаны. Знать, быть тому по судьбе суждено.
Софья стала бледна, как льняное полотно, выбеленное на крещенском снегу. Однако взгляда, в котором застыла мольба о добре и прощении, не опускала.
– Матушка! Великий князь Дмитрий! Все люди тверские! Знаю, сколь зла принес вам отец. Видно, не искуплю… А все же простите мне грехи отца моего, – едва шевеля помертвелыми губами, произнесла она и склонилась головой на грудь в смиренном поклоне.
– Не винись, в чем не вольна. Останешься нераскаянной, – строго сказала Анна Дмитриевна, но затем уже мягче добавила: – Ты за отца-то не ответчица.
– Да, ить, не слышит она тебя! Худо ей, матушка! – первым всполошился возле жены Константин.
Тут и другие заметили, что не в смиренном поклоне склонилась Софья, шея голову держать перестала. Вовсе без чувств осталась Юрьева дочь на погляде.
– Да сделайте что-нибудь! Воды! – закричал Константин, и по тому, как беспомощен и нежен был юный княжич с женой, всем стало видно, как она ему дорога.
– Ништо, Костя! Обойдется еще, – утешила сына мать и поторопила невесток, которые уже хлопотали возле Софьи. – Сведите ее в светелку да квасом, квасом виски-то натрите…
Настасья и Маша, подхватив Софью под руки, повели ее вон. При этом впервые наметанным женским взглядом заметила Анна Дмитриевна, как и еще округлились и без того круглые бедра и бока Герденки, какими осторожными и плавными стали ее движения.
«Ну вот же – не задержалася! Знать, понесла, скороспелая!.. – с тихой внезапной радостью догадалась она. И с тайной лаской и благодарностью взглянула на Сашу: – Ишь ты – отец! Жив Михаилов род…»
– Она-то поменее моего виновата, что на брак ее батюшка принудил. Али не так, брат? – спросил Константин Дмитрия, когда Софью вывели.
Дмитрий в ответ смолчал.
– Так что ж… Не по своим грехам платит девушка, – вздохнула Анна Дмитриевна, поддержав младшего перед старшим. – А на судьбу Господь нам милость дает. Какая ни есть, а все же жена венчанная…
В последнем ее замечании был и малый упрек Дмитрию, который по-прежнему жил с тверитинской дочерью, пренебрегая и видимой-то обязанностью супружества перед Марией Гедиминовной. Так лишь в людском присутствии изредка, вот как ныне, допустит побыть ее около.
– При Софье не стану боле худословить ее отца. И другим не велю, – сказал Дмитрий. – И тебя тестем не попрекну… – Он помолчал и тихо добавил: – Ну, а уж коли убью – не взыщи.
– Ты старший – тебе и судить, – согласно кивнул Константин.
На том день не закончился. Далее слушали Михайловых слуг да бояр, вернувшихся с Константином. А после дарили их княжьей милостью.
По обычаю, как и полагалось по смерти хозяина, холопов Михайловых отпустили на волю. Правда, надо сказать, не все, но лишь некоторые решили испытать жизнь на вольных хлебах. Иные же валились в ноги, просили сохранить их в холопском звании. А старый князев повар Василий так тот и до слез обиделся.
– Век с Михаилом-то Ярославичем колесил! Служил верой-правдой – куды мне воля? Али лишний я стал на дворе? – заплакал старик. – Одним, ить, именем семейства вашего жил! Княгиня-матушка, не оставь милостью! Не вели гнать меня со двора…
– Да кто ж тебя гонит-то, дедушка Светлый? – Так кликали Василия за белые от рождения волосы. Дмитрий развел руками: – Живи как знаешь. Чай, на поварне-то дело всегда найдешь…
– Батюшка-милостивец…
И бояр, и служилых людей всех отличил Дмитрий Михайлович. Кого деревенькой пожаловал, кого сельцом, кого пустошью, иного гоном бобровым, иного беличьим, кого – покосами, кого – бортным угодьем, кого – рыболовством, кого – другим каким путным доходом, и всех – серебром.
Смеялся:
– Чай, не один Константин в плену отощал. Нагуливайте бока-то, люди тверские, крепите силу в руках. Авось понадобится!
– Ужо не выдадим, князь! – бодро отвечали в ответ.
Однако не всем пришлась по душе щедрость Князева. Боярин Федор Акинфыч не удержался, возразил:
– Пошто ты жалуешь их, князь? Нас, слуг своих, заезжаешь? Чать, они не с похода победного воротились – из плена пришли.
– А ты, Федор, не завиствуй, – осадил его Дмитрий. – Больно злобен ты к чужой-то радости. А жалую их не за славу, а за службу и верность. Чаю я, не зря их в железах-то Юрий держал, поди, склонял на кормление, а они хлебами-то его лукавыми пренебрегли, ради Твери и совести. За то я их ныне и жалую…
Случилась и другая заминка. От жалованного ему отказался старый гридник Парамон Дюдко. Смолоду, чуть не от первого кашинского похода, нес он службу в дружине тверского князя. Отличался и отвагой и сметкой. В свирепой на врагов горсти доблестного Тимохи Кряжева воевал, с ним и на Ногая когда-то ходил, и на Москву не единожды, под Бортенево сам сотню вел на татар. Да, поди-ка, ни один Михаилов поход в стороне не оставил. Одним словом, воин от младых ногтей до самых седых волос. Несмотря на преклонный возраст, по сей день был он крепок и без меча на боку в том плену-то, поди, ощущал себя не иначе, как поп без креста. Дюдком же, то есть попросту Дудкой, прозвали его за дивный голос, коим был он отмечен. Даже и поразительно, как тем голосом Парамон владеть обучился. Горлом мог он и птичьему щебету подражать, и собачьему скулежу, и волчьему вою, и ястребиному клекоту, и прочим живым голосам, крикнуть же мог так громоподобно, что в оконницах стекла дрожали, коли дело было в дому, а коли в поле, так кони округ приседали от ужаса да из-под хвоста не твердые яблоки, а мягкую жижу выкидывали до времени.
А уж лучшего певуна, чем тот Парамон, во всей Твери, поди, не было! Да песни-то на разные случаи имел про запас, откуда и брал, неизвестно, будто сам из головы и выдумывал. И про любовь горючую умел спеть так, что молодки целыми улицами (докуль голос доставал) томилися. И то, истомишься, когда по небу, словно к тебе одной, издали чудный парамоновский голос тянется:
Не огонь горит, не смола кипит,
А горит-кипит ретиво сердце мое по красной девице…
А сколь подблюдных свадебных песен знал Парамон:
Еще ходит Иван по погребу,
Еще ищет Иван неполного,
Что неполного, непокрытого;
Еще хочет Иван дополнить
Свою братину зеленым вином…
А охальных да плясовых:
Стоит девка на горе
Да дивуется дыре:
Свет моя дыра, дыра золотая!
Куда тебя дети?
На живое мясо вздети!
А я тебе толды-всегды!
Играй веселей – не жалей лаптей!..
Про баб и говорить нечего, а у мужиков истинно сердце в груди замирало, как зачинал он горловыми переливами погребальную петь. Словно песней той всех товарищей Парамон поминал, коих схоронил в боях но Руси:
…Ах, его-то матушка плачет, что река льется,
А родная сестра плачет, как ручьи текут,
Молодая жена плачет, как роса падает…
А за то ото всех имел Парамон и ласку и уважение, во всяку избу зван был – что к горю, что к радости…
Так вот, Когда пришел черед Дюдка отличать да жаловать, он в ноги Дмитрию поклонился, повеличал его, как требовалось, ан от милости отказался:
– Ништо не надо мне, Дмитрий Михалыч. Одно прошу: пусти на покой.
– Да разве не заслужил ты покоя-то, Парамон Филимоныч? – опешил Дмитрий. – Ступай себе с миром, живи как знаешь, да от добра-то не отказывайся – не обижай!
– Не от добра твоего отказываюсь, князюшка, – сказал Парамон. – От мира суетного отстать хочу!
– Ишь ты… Али ты на старости лет в монахи сподобился? – весело усмехнулся Дмитрий, и в гриднице по лавкам прошел смешок.
И то, смешно оказалось тверичам даже и в мыслях представить Дюдка в «чине ангельском». Не та беда, что рубака – на то он и воин, а та закавыка, что и в преклонных-то летах слыл он большим забавником и беспощадным охотником за женскими прелестями. И в последний-то раз, уходя в Сарай с Михаилом, оставил он в Твери новую, третью уже по счету, молоденькую жену брюхатой.
– И рад бы, пожалуй, в монахи-то, – кивнув, серьезно ответил Парамон Филимоныч. – Да многими греховными путами удержан есть, Дмитрий Михалыч. Однако же далее паутину ту плесть не желаю.
– Загадками говоришь, Парамон Филимоныч, – посетовал князь.
– Дозволь мне, Дмитрий Михалыч, слово отцу Федору молвить.
– Что ж, говори теперь, коли в церкви его не нашел, – пожал плечами Дмитрий.
– Отец Федор! Батюшка! – обратился Дюдко к настоятелю Спасской соборной церкви, бывшему, разумеется, здесь же. – Всю жизнь мечом правду искал. Не сыскал. Убили поганые нашу правду вместе с князюшкой… – Он обвел взглядом собрание и громко, для всех, сказал: – Отныне иную стезю торить хочу.
– Говори, сыне, слушаю. – Поднявшись с места, отец Федор Добрый, ласково внимая, как он один и умел, раскрылся светлым лицом навстречу старому воину.
– Так говорю же – устал я, отче, от мира-то. Однако многогрешен и плотью слаб перед уставом монашеским, а посему прошу тебя, отче, замолвь слово за меня перед владыкою, не оставь хлопотами…
После того как вернулись из Святославлева Поля, от небесного ли затмения, от переговоров ли с Юрием или же просто от многих прожитых лет занедужил епископ Варсонофий. Вот и ныне не пришел ко князю, хоть и зван был…
– Да чего хочешь-то, говори!
– А я, батюшка, одному Господу службу хочу нести. В храме твоем, при мощах Михайловых хочу состоять ежечасно!
– Что? – Не один отец Федор изумлен был Парамоновой просьбой.
Но ни пред врагами, ни пред чужим удивлением старый ратник отступать не привык:
– А что ж! Пусть владыка диаконским саном меня пожалует! – сказал как потребовал Парамон.
– Так сан – не угодье, им не жалуют. В сан посвящают, – хитро усмехнулся отец Федор.
– Так пусть он посвятит меня в сан-то! – Видно, и впрямь мечта так завладела Парамоном Филимонычем, что он уж и не предполагал ей преград. – Истинно говорю: давно уж, от самой-то смерти Михаила Ярославича, влекусь к сему поприщу! Грамоте знаю, псалтырь читаю, каноником стою на часах, все требы по службе знанием превзошел – вон отец Александр-то не даст соврать, – кивнул он в сторону отца Александра, – истинно думаю, голосом-то и то Господь меня обеспечил, надобным дьякону! – со всей страстью обрушил он на Федора Доброго словесные доводы.
– И много то, сын мой, и недостаточно… – Отец Федор оглядывал дородную тушу Дюдка, точно примеривал на нее долгополое облачение смиренника. – Видишь ли, Парамон, по давнему слову митрополита Кирилла священный-то сан надлежит давать людям единственно непорочным, коих жизнь и дела известны от самого детства, – с улыбкой, ан остудил он пыл новоявленного церковника.
– Что ж… Дела-то мои известные. Говорю же: многими греховными путами сдерживаюсь, – вздохнул Дюдко и поднял на священника отчаявшиеся глаза. – Али заказан мне иной путь?
– Никому пути не закрыты к Господу. Ан путы узрел, так и не переступишь их. И войдешь в мир и любовь…
– Вот, вот, – громоподобно воскликнул Парамон Филимоныч. – Мира и любви возжелал!
– Главное, в душе Божье Царство найти, то уж и есть рай мысленный, – утешил его отец Федор.
– Кой рай, отче? – жалко, беспомощно развел руки Дюдко. – Вижу: не осилить нам на рати врагов, а коли нет сил – надо терпеть, а на терпение-то надо смирение. Авось смирением чести заслужим?
– Не заслужим! Обольщаешься, старче! – от своего места возразил вдруг бывший игумен Отроча монастыря и резко вопросил отца Федора: – Пошто напрасно утешаешь мысленным раем? Можно ли в душе рай сохранить, когда неправда, куда ни глянь, язвит взгляд, паче стрелы отравленной?
Ну и заспорили, точно не только встретились после двух-то лет взаимной отлучки, а от заутрени врозь разошлись в разных мнениях.
– Душа, Александр, дана нам Господом, чтобы в ней единый рай сохранить.
– Душа дана нам Господом на муки, на слезы да на сомнения! Не то что рая – малого света в душе не сыщешь, пока поганые править над нами будут! Али не видишь, отче, как гасят они светильники наши, лучших-то из нас выбивая?!
Так бы, поди, и спорили – известно, книжники да говоруны, кабы не вмешался Дмитрий Михайлович:
– Ну то уж вы чужое решаете, святые отцы, – сказал он нарочно строго. – Разными словами да об одном толкуете. А я так полагаю: не войдешь в мир с ненавистью. А ненависть-то только кровью утолить можно. Вот тебе – и любовь! – Он усмехнулся.
– Заблуждаешься, князь, – сокрушился отец Федор. – Ох, заблуждаешься. Любовью и ненависть искупается.
– Али и Юрия полюбить мне велишь? – спросил Дмитрий.
Может, и далее спорили бы, да вмешался Дюдко, стоявший средь них неприкаянным.
– А что ж я-то? Да быть ли мне диаконом-то? – спросил он.
– То-то! – махнул рукой Дмитрий, словно отметая Федоровы слова. – Говорить-то все умники, а простого решить не можете. – Он оборотился к Дюдко, напустив на лицо милостивость. – Более не заботься о том, Парамон филимоныч. Коли отец Федор забаивается, я перед владыкой Варсонофием поручителем твоим стану.
– Батюшка мой! – аки бык, дохнул густым голосом Парамон. – А и правда я грешен?!
– Да кто ж без греха? Пусть сам владыка тебя и рассудит. – Он усмехнулся. – А грехи твои, что ж? Чай, на рати-то и попу убивать не удержанно стать. Так ли говорю-то я, отец Федор? – примирительно улыбнулся Дмитрий священнику.
– Так ведь и я, князь, не могу не возрадоваться такому-то сановитому диакону, – улыбнулся и отец Федор.
– А уж ты, Дюдко, как ни брыкаешься от моего серебра, – сказал Дмитрий, итожа, – ан не отбрыкаешься. Уж семь гривен-то за поставление в дьяка-то – сам за тебя внесу. Так-то, Парамон Филимоныч. А покуда, – он посерьезнел лицом, – за то, что при жизни, не щадя крови, служил батюшке непреложно и после смерти верным ему остался, дозволь поклонюсь тебе.
И Дмитрий легко сложился в низком поклоне перед старым дружинником.
Впервые за многие месяцы не слезы горя, но слезы светлого умиления жаркой, счастливой волной прихлынули к глазам Анны Дмитриевны. И, осенив сына крестным знамением, взмолилась она:
«Господи Преблагий, ниспошли ему благодать Твоего Духа Святого, укрепи его душу мне в утешение на добро и на пользу Отечеству…»
Но и на том не окончился день. До поздней ночи праздновали на княжьем дворе возвращение Константина.
Вспарывая густую тьму до самого звездного неба, пронзительно ныла сурна, накрачеи играли в бубны, песельные девки, яря да лаская слух подблюдными песнями, сладными, сладкими голосами плели такие рулады, что иному чувствительному порой казалось легче их оборвать для сбережения души, чем дослушать. Известно: голоса-то у девок – томные. А кто уж и голосов-то не различал – либо спал, уткнув лицо в стол, либо невпопад глухо бил сапогами оземь, вздымая пыль. И то: второй берковец допивали. И полнились хмельным, пенным медом скоро пустевшие братины.
Давно Тверь не видывала такого пира. Да и было ей чему веселиться! Вернулись из плена люди ее, пусть не своей волей женатый, а все живым вернулся и Константин, о чем уж не чаяли. Дмитрий Михалыч и тот точно наново духом воспрял.
Хотя иные-то вести, кои ненароком принес Константин, казалось, более должны были встревожить князя, нежели чем обрадовать…
Еще поутру, покуда иные да братья с матушкой стояли на молении у заутрени в храме, Дмитрий с боярами снял короткий допрос с московича, невзначай прихваченного Константином по дороге от Костромы. Встретился он им подле Ярославля на перепутье. Не понять, куда и путь держал: то ли на Углич, то ли на Кострому, то ли просто Волги хотел достичь, дабы уж водой хоть до Нижнего, хоть до самого Сарая скорей добежать. Шел он один, без спутников, однако двуконь, знать, было ему куда и зачем поспешать. По виду – купчина, по ухваткам – бирюч, а по всему судя – от выговора до сапог, с носами гнутыми, до кушака, на кафтане в пять обмотов затянутого, до шапки, крюком набок заломленной, – чистый москович. Впрочем, московича-то не столь даже по одежке, сколь по взгляду всегда отличить можно. Хоть лоб разбей, все одно не поймешь: откуль у них во взгляде-то такое высокомерие? Хотя по надобе-то, разумеется, всегда они умеют взгляд лаской замаслить. Словом, себе на беду, нарвался тот москович на тверичей. А им вдруг возьми да покажись заманчивым, хотя бы на нем одном, коли попал под руку, обеды своего двухлетнего плена выместить. Опять же, выгодным показалось им и к пользе Дмитрия представить того московича ему на глаза. Да и к собственной пользе – всяко лестно и самим не с пустыми руками предстать перед князем. Опять же, больно странен он им показался: купец – ан без обоза, бирюч – ан без грамотки. А по глазам-то видать: не иначе знает что любопытное. Ну и взяли его на всякий случай в попутчики. И не зря…
Лишь ночь протомился москович в осклизлой порубе с крысами, ан наутро, увидев перед собой Дмитрия с боярами да подручными, у коих длани-то загодя в кулачищи сжаты, разом рассловоохотился. И за язык тянуть не пришлось. Не так, как хотелось бы того Дмитрию, а все же случилось то, чего ждал он от самого злополучного пустого похода на Юрия. Тогда он хотел немедля, не теряя ни дня бежать в Орду к хану, нести донос и хулу на великого князя. Мол, тот ханский выход забрал, да не хану его отдал, а с тем выходом ушел нарочно на Новгород… Словом, сделать то, чего и загадывал. Да опередил его Иван, Юрьев брат. Как оказалось, Иван-то ранее Дмитрия в Сарай тронулся. Хоть у хана Узбека два уха, ан обоими слышит он одинаковое – с разных-то сторон двум просителям к нему не присунуться. Потому опять пришлось медлить Дмитрию, ждать, когда Иван теперь внимание хана освободит. Освободил, кажется – не мытьем, так катаньем все-таки выудил Иван Данилович из-под брата вожделенный московский стол в полное свое право и ведение. Вона как замысловато да крутенько тихий Иван брата своего обошел! Махом лишился Юрий единственно своего, что и было законно: наследной московской отчины. Знать, и впрямь не милостив более к нему хан, коли потворствует Ивановой пакости. Тем более надо было спешить в Орду, но Иван, хоть и покинул уже Сарай, пути Дмитрию пока не давал.
Сказал москович:
– Не с одной лишь ханской тамгой на московское княжение возвращается Иван Данилович…
– С чем еще? Не тяни!
– Идет с ним большое войско Узбекова посла Ахмыла.
– На кого Иван Ахмыла ведет, на меня?
– Ей-богу, князь добрый, того не ведаю!
– Поди, сведаешь, коли пытать велю!
– Святым Духом клянусь…
– А ты куда бег?
– В Нижний, князь-батюшка!
– Пошто?
– Велено было мне Ивановых сторонников известить, чтоб сторожились поганых.
– А много у Ивана в Нижнем сторонников?
Москович усмехнулся значительно, повел взглядом по Дмитриевым окольным, стоявшим округ, вроде как споткнулся глазами на носатом лице Челядинца (на что, впрочем, вряд ли кто обратил внимание, кроме самого Данилы, глядевшего на незадачливого земляка с приветливым участием) и, помедлив, ответил:
– Так, ить, везде, князь, люди. Сколь – разны, столь – одинаковы. Ты посули им поболее, так они твою сторону держать станут.
– Что ж, Иван-то щедро сулит?
– Не скупится…
– Ну, ладно, – удовлетворился покуда беседой Дмитрий. – Ты посиди еще, помучь память-то. А коли что вспомнишь – меня покличь, я послушаю.
Милостив ныне был князь. Готовил сердце ко встрече с братом. А уж от Спаса вовсю звонили колокола, возвещая об окончании заутрени.
«Обошлось, стало быть, помирать», – решил москович.
Но то было утром. Теперь же в черной, сырой дыре тверской порубы, бревенчатыми, высокими стенами неприступно темневшей в крапивной, глухой глубине дальнего дворища, помирал насильственной смертью москович.
В самый жар пира, звуки которого, словно еще и усиленные сухой, звонкой прохладой ночи, доносились и до темницы, обнажив на мгновение яркую, звездную сыпь небес, в потолке приоткрылась узкая прорезь, и кто-то спустил на дно темницы длинную, двухсаженную лестницу, сбитую из лесин.
– Чево? Кто там? Зачем?.. – с темени да со сна щуря глаза и на дальний свет звезд всполошился москович. – Чево? Князь зовет, князь?..
– Князь, – ответили сверху и, слепя, засветили смоляную ветошку.
– Ух! – выдохнул облегченно москович, вглядываясь из-под ладони в того, кто спускался по лестнице. – Ты?
– Я.
То был Данила Челядинец, свой, земляк, которого намедни еще сразу признал москович в окружении тверского князя. Да и как не признать – приметен! Москва-то, чай, не велик городишко, чтобы одного такого носатого с иным перепутать. Тем более когда вместе с ним у одного хозяина служишь. Чистый Данилка – Иванов затейник, прихвостень и любимчик! Намедни еще узнал его москович, ан не выдал. Теперь обнадежился, помощи ждал – как-никак, а с одной реки водой вспоены!
– Вона где встретиться довелось, слышь, Данила?..
Ан Данила-то, много не говоря, пристроил меж бревен порубы огнище да вдруг, изловчившись, накинул на горло московича тугую удавку. И стянул со всей силой. Как ни крепок был москович, но и удивиться, знать, не успел, лишь захрипел, забил руками, пытаясь ослабить петлю. Боролись недолго. Скоро Данила оседлал обмякшее от удушья тело, привалился грудью на грудь, крепче, туже сжимая волосяную веревку. На руки его с губ московича бежала горячая, живая еще слюна, но выпученные навстречу убийце глаза, в коих плясал, отражаясь, огонь, уже схватила томная, смертная поволока. Еще чуть усилий – и хрип оборвался, и московичево колено, что крупной, противной дрожью било Челядинца в ляжку, затихло, и сама-то нога, разогнувшись в колене, вытянулась повдоль всей длиной. И носки оттянул москович, точно в сладостном напряжении. Как на цыпочках ушел к Господу.
Данила поднялся, обтер о кафтан мокрые руки, сначала пнул ногой мягкое, бездыханное тело, а после зачем-то прикрыл выпученные, разом застекленевшие глаза московича.
«Ну вот. Спи теперь тута. Нет худа-то без добра, – как-то по отдельности, но подряд подумал он обо всем. – Кабы за язык-то его потянули, поди, не сдержался. Да, ить, разве под пыткой удержишься? На самого себя укажешь, не то что на иного-то. А с мертвого какой спрос? Сам бы рад на Москву-то вернуться к славе Ивановой, да нельзя мне пока Дмитрия без пригляда оставить. А что я убил, поди, не дознаются. Больно складно все вышло. Нет худа-то без добра», – еще раз повторил сам себе Челядинец, выбираясь в ночь из порубы.
А на княжьем дворе остатне кричали гулевые, пьяные голоса. Так уж водится: кому – праздник, кому– похмелье, а кому и кончина зеленая.
Солнце – и то в один бок печет.
Этой же ночью бесследно исчез из Твери Федор Ботрин.
Впрочем, след-то его сыскали быстро – по всему выходило, побежал боярин в Москву, встречать князя Ивана Даниловича. Да не то удивило тверичей, что ушел Федор Акинфыч, давно уж (да не с той ли поры, как Дмитрий отохотил у него на свою сторону тверитинскую Любу?) топорщился он занозой поперек тверской жизни, но то удивило, что он, перед тем как уйти, удавил в порубе московича. Али в заслугу себе перед Иваном-то смерть того московича хотел выставить? Вестимо, не все досказал москович, что знал.
Долго недоумевали тверичи, рядили и так и эдак, чесали в затылках, да так и не смогли тем почесыванием превозмочь удивления.
Так решили; что ежели у которого человека душа без достоинств, так ему все нипочем: и лжа – не в подлость, и подлость – не в грех, и смерть – не в убийство. Одним словом, худой человечишко Федька Ботрин.
На том и сошлись во мнениях.


![Книга Миг власти московского князя [Михаил Хоробрит] автора Алла Панова](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-mig-vlasti-moskovskogo-knyazya-mihail-horobrit-239654.jpg)