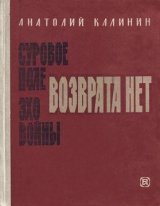
Текст книги "Возврата нет"
Автор книги: Анатолий Калинин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
Чего это ему вздумалось ее Антониной Ивановной величать? Несмышленый внук, Петушок, при этом так и скакал на коленях у деда.
Только у нее, у Антонины, и не оказывалось под рукой каких-нибудь новостей, которые тоже можно было бы ввернуть в разговор. Кроме все одних и тех же, связанных с внуком, с огородом и с обычными хлопотами по хозяйству, совсем неинтересных для них. Какие у нее могли быть новости, если теперь и она по целым дням ни на шаг не отлучалась из дому, и к ней почти не заглядывали люди. За исключением Настюры Шевцовой, которая пока не забывала ее.
С тем большей жадностью набрасывалась Антонина с ласками на внука. С запоздалым раскаянием вспоминала, что даже Гришу, своего сына, не пестовала так. Даже он, ее первенец и единственный, когда был таким же крохотным, не занимал в ее жизни и ее сердце такого места. Может быть, потому, что совсем молодая еще, глупая была, а может, и потому, что другое было время, и ее жизнь, не то что теперь, заполнена была совсем другим.
Это теперь она может и купать своего внучонка каждый день, и собственноручно обшивать его, и чутко ловить, чтобы потом пересказать другим, каждое новое слово из его косноязычного лепета. Удивительно, как этим ручонкам удается так безраздельно завладевать сердцами взрослых. И совсем уже удивительно, как в таком маленьком человечке могут вдруг выразиться черты и повадки – нет, даже не своих родных отца или матери, а неродного деда. Та же степенность и также – это когда Петушок уже встал на свои ножонки – пройдется взад и вперед по комнате, сунув за пояс штанишек большой палец.
Антонина безотчетно радовалась, глядя на него, а Никитин при этом начинал бурно хохотать и, подхватывая внука на руки, подбрасывая его над собой, кричал:
– Сразу видно мужчину!
После этого у них поднималась такая возня, что даже Ирина, отрываясь от тетрадей, сердито кричала им с соседней половины, чтобы они убирались во двор.
Сразу присмирев, Никитин послушно удалялся с внуком на руках, сконфуженно поясняя ему:
– Тише, Петушок, а то твоя мамка не успеет проверить все тетрадки.

И чем дальше, тем все больше удивлялась Антонина, как это Григорий мог оставаться совсем равнодушным к своему сыну. Ни разу не видела, чтобы взял его к себе на колени или же, допустим, смастерил ему, как тот же дед, из спичечной коробки, из щепок, а то и просто из арбузных корок, какую-нибудь тележку или другую незамысловатую игрушку. Не говоря уже о том, чтобы порадовать своего первенца купленными в станичном сельпо дудочкой, цветными кубиками, самосвалам с механическим заводом.
* * *
– Ты, мать, теперь у нас начхоз, – говорил Никитин, – а от этой фигуры на фронте всегда зависела большая половина успеха. Фигура, можно сказать, историческая.
Ей нравились эти слова, хотя и непривычно пока было, что он стал называть ее уже не по имени, а матерью. А последнее время все чаще бабкой.
Но ведь так оно и было. Самое главное было не в словах, а в том, что ей, в избытке хлебнувшей одиночества у себя в доме на яру, теперь сразу привалила такая большая, веселая семья. И если правда от нее зависит, чтобы в их семье все было хорошо, она постарается сделать для этого все, что в ее силах. В том числе и для того, чтобы ничем посторонним, лишним не омрачалась молодая жизнь ее сына, Григория, с женой, Ириной.
Ей давно уже показалось, что между ними что-то происходит. Ни от Григория, ни от невестки не слышала она, чтобы они когда-нибудь жаловались друг на друга, и чужому взору ни за что было бы не уловить тех искр, которые пробегали между ними. По видимости все оставалось у них, как прежде. Но на то и мать она была, чтобы увидеть то, чего не могли увидеть другие. Как бы они ни скрывались и как бы ни береглась она того, что происходило на их половине дома, нельзя было, живя под одной крышей, до конца уберечься.
– Опять от тебя, как из бочки. Каждый день. После этого ты на что-то еще претендуешь.
– Ты же знаешь, почему я стал пить. Давай, Ириша, скорее уедем отсюда. Мы еще только начинаем жить. Я тебе ни единым словом не напомню.
– А я и не считаю себя виноватой. Когда-то, когда мы еще были студентами, ты говорил, что выше любви ничего не может быть. Другой бы на твоем месте знал, как надо поступить. У тебя просто ни мужества, ни гордости нет.
– Как ты не поймешь…
Туг Антонина неумышленно напомнила им о своем существовании, зацепив ногой порожнее ведро, и они замолчали.
* * *
Ничего определенного, конечно, не понять было из этих их слов, за исключением того, что прежних отношений уже не существовало между ними. Но в одном Антонина была полностью согласна со своей невесткой: выше любви ничего не может быть. В это Антонина уверовала еще с тех пор, когда Никитин прятался у нее в яме от немцев, и она ловила те редкие моменты, когда можно было проскользнуть к нему.
Сердце ее возмущалось против собственного сына. По всему видно, что ревнует он, глупый, жену к чему-то прошлому, а к чему можно ревновать, если все, все без остатка смывает любовь, как чистой слезой. И после этого человек как будто только что нарождается на белый свет. Он уже совсем другой, новый.
Согласна была она и с теми словами Ирины, что человек никогда не должен терять своей гордости. На собственном опыте знала, что как бы для нее ни были невыносимо тягостны воспоминания о том дне, когда она, не помня себя, ехала с заседания бюро райкома, как будто бежала от погони, и как бы ни раскаивалась она еще и теперь, что поддалась тогда чувству обиды, ее всегда тайно радовало и утешало сознание, что ни своего достоинства, ни своей гордости она тогда перед Неверовым не уронила. Никто потом так и не узнал, что скрывалось за ее спокойствием, которому так удивлялись все люди.
Долго скрывая от Никитина свои наблюдения, она, наконец, решилась поделиться с ним:
– По-моему, Коля, что-то неладно между ними.
– Что же именно? – медленно закуривая, поинтересовался Никитин.
И после того как она пересказала ему разговор Григория с Ириной, переспросил:
– Так прямо и сказала?
– Да, говорит, выше любви ничего не может быть. Конечно, Коля, как женщина, я с нею согласна, а, как матери, мне все-таки Гришу жаль. Он последнее время на себя не стал похож. Ты же знаешь, что раньше он никогда так не пил. А может, Коля, у них все это еще по молодости и потом пройдет? – Приподнимаясь, она с надеждой заглянула ему в глаза: – У молодых, говорят, это бывает, пока они как следует не привыкнут друг к другу. Правда, у нас с тобой, Коля, этого не было, я к тебе сразу привыкла. Как ты думаешь, пройдет у них, а?
Не дождавшись ответа, сама же и успокоила себя:
– Должно пройти. Делить им между собой нечего. И Петушок у них растет. – И, окончательно успокаиваясь от своих слов, она повеселела: – Все еще наладится, правда, Коля?
– Может быть, – отвечал Никитин, раскуривая новую папиросу и вставая с постели к форточке, открытой в сад, пуская в нее клубы дыма. – Хотя и давно бы уже пора было наладиться. Вообще-то, мать, тебе лучше в их дела не вмешиваться, они сами разберутся.
Она испугалась:
– Что ты, Коля, я и не вмешиваюсь никогда, откуда ты взял? Я и тебе долго не решалась рассказать, думала, все настроится само-собой.
Щелчком выстрелив из форточки в сад окурком, он повернулся; к ней:
– Принесла бы ты лучше мне из погреба банку холодного вина.
Она удивилась:
– С чего тебе вдруг захотелось?
– Сам не знаю. Должно быть, с духоты или с твоих жирных щей. Запить надо.
– А может, лучше холодной простокваши принести?
– Нет, это ты лучше посоветуй своему Григорию на простоквашу перейти, – насмешливо сказал Никитин.
* * *
Вдруг приметила за собой, что чаще обычного в течение дня наведывается в низы дома, в погреб, где у нее стояли бочки и бочонки с вином. Виноградное вино у нее в доме никогда не переводилось, как у всех здесь, у кого были свои виноградные сады, а сады здесь тоже были почти у каждого. Случалось, и на трудодни в колхозе выдавали вино. Низовские казаки рождались и умирали с вином, а женщины здесь пили не хуже мужчин. Особенно после войны вдовы.
Но Антонина раньше никогда не пила. Может, потому, что некого ей было оплакивать и не нужно было предаваться горьким воспоминаниям об утраченном счастье. Ее счастье безотлучно было при ней, рядом. Не пила, если не считать праздников и тех летних жарких дней, когда, спускаясь в погреб, обычно освежалась одним-двумя стаканами холодного вина: оно хорошо освежало. И всегда это случалось не то чтобы специально, а невзначай. Если бы не какое-нибудь дело заставляло ее спуститься в погреб, она бы и не вспомнила до очередного праздника, что у нее там стоит вино.
Теперь же она непременно стала находить убедительные причины, чтобы на дню несколько раз спуститься в погреб. И когда впервые заметила это за собой, испугалась. Тут же с уверенностью решила, что, когда нужно будет, совладает, справится с собой. Отрежет раз и навсегда. Но пока что не станет. Вино и что-то обостряло в душе, настраивало на какую-то ей самой непонятную печаль, жалость к самой себе, и как-то помогало справляться с ними. Допьяна она никогда не напивалась, а в моменты легкого опьянения к ней теперь всегда с необыкновенной яркостью приходили воспоминания о том, что теперь издалека представлялось столь же ослепительно неповторимым, сколь когда-то оно было невероятно, неслыханно трудным.
Особенно, помнилось, трудно стало ей, когда от взора неотступно следующего за ней денщика Иоганна днем уже невозможно было ускользнуть ни на минуту, и у нее оставались только ночи. Те глухие часы, когда он засыпал, часто и в обнимку с опустошенной им винной бутылью, за столом. А после налета романовских партизан на станичную ортскомендатуру вокруг всех домов с квартирующими офицерами стали выставлять на ночь часовых. Каждую минуту они могли окликнуть ее с улицы, когда она пробиралась в глубь своего сада к яме, где прятался Никитин.
Вспоминая об этом теперь, она всегда приходила к выводу, что не последующие, когда они с Никитиным уже стали мужем и женой, а именно эти дни были самыми счастливыми в ее жизни. Когда она уже открылась себе во всем, призналась себе, что любит его, и с нетерпением всегда ожидала того часа, когда опять будет прокрадываться к нему в бурьяны, под яр. Это было сопряжено с опасностью, плоские штыки немецких часовых блестели из темноты по всем четырем углам квартала, но для нее это были часы ее свиданий. Да-да, это были ее свидания, потому что к тому времени она уже поняла, что для нее он был не просто раненый лейтенант, которого надо спрятать и уберечь от глаз немцев. И если бы даже ее сад весь был населен не деревьями, а солдатами, она все равно проползла бы к нему между ними. Это любовь научила ее быть такой по-звериному осторожной, хитрой. Неурочная и нечаянная, впервые разбудившая ее тридцатилетнее сердце.
И тот же собственный сад, такой знакомый, казался ей теперь совсем иным, новым. Если светила луна – тени падали на землю от стволов деревьев, от виноградных кустов, а если луны не было – стволы и сохи светились из темноты. По нападавшей листве с шорохом бегали ежи, заставляя часовых на улице вскрикивать «хальт» и лязгать затворами карабинов. Она припадала к земле и, переждав, опять ползла. Удивительно гибким, послушным оказалось ее большое тело.
До сих пор она явственно слышит этот запах теплой соломы и самосадного табака, дышавший ей в лицо из ямы, в которой лежал Никитин. Должно быть, с тех пор и сиреневые цветочки дерезы, в которой пряталась яма, стали ей как-то милее. Когда она теперь в саду и в огороде выпалывала эту сорную траву, выдергивала ее стебли руками, ей становилось немного грустно.
Но все же ее, эту вредную дерезу, надо было не только подрубать лезвием тяпки, но и лопатой подкапывать, выдергивать с корнем. Потому что, если ее не выдернуть до самой тонюсенькой ниточки, она потом все равно опять вырастет и опять будет до осени цвести своим мертвенно-сиреневым цветом.
* * *
С утра до обеда она мотыжила на огороде, а перед самым ободом нагрела воды, чтобы искупаться, смыть с кожи горький пот и красноватую суглинистую пыль, взбитую тяпкой. Внука, как всегда в это время дня, накормила и уложила спать, а все остальные должны были вернуться с работы только к вечеру, никто не должен был ей помешать.
Уже искупавшись, вытерев полотенцем ступни ног и разгибаясь, увидела себя в зеркале. Никогда прежде не рассматривала себя. Брезговала. Не смогла бы хорошо искупаться и при ком-нибудь из посторонних, даже если это была женщина. С детства всегда стыдилась купаться при других. И теперь, бывало, зимой, нагрев в субботний вечер воды, выгоняла Никитина во двор покурить и запиралась. Он ходил вокруг дома под окнами и ворчал:
– Выдумала, нашла от кого запираться. Ты, должно быть, одна на всем свете такая.
Но по голосу его можно было понять, что ему это нравится. И летом на Дону у нее было свое укромное местечко среди верб, где ее никто не мог увидеть. Больше всего не любила, когда женщины, спустившись после работы к Дону, целой бригадой зайдут в воду и начинают обсуждать, кто худой, кто толстый, у кого какие бедра и ноги, делясь всякими подробностями о своих мужьях и других знакомых мужчинах.
Если это можно было как-то объяснить, когда была война и в первые годы после войны, когда в станице на одну женщину приходилось по пол-инвалида, то теперь и в этом жизнь почти выровнялась, пора бы уже перестать жить по законам военного времени.
* * *
Теперь же поближе подошла к большому трюмо и впервые в жизни взглянула на себя, нагую. Большая смуглая женщина стояла перед ней. Вдруг вспомнилось ей, как Никитин еще не так давно говорил ей, что грудь у нее, как два краснобоких яблока, и в поясе она, как девушка, несмотря на то, что рожала. Теперь ей захотелось узнать, что же могло измениться с тех пор, какие произошли с ней перемены. Конечно, летят годы, и для нее они не могли пройти да ром. Но и не так-то состарилось ее тело – плечи, ноги, грудь, – что бы пренебрегать ею, как это он стал себе позволять. Конечно, ей уже не тридцать, но и не расходовала она себя почем зря, не баловалась И до Никитина никого из других мужчин, кроме мужа, не хотела знать, а денщик – это, как черный сон. Это было не с нею, а с какой-то другой женщиной. Не погуливала, хотя и подкатывались к ней. И тогда, когда еще была она знаменитым на всю область председателем колхоза, портреты ее печатались в газетах, а Никитин не подавал о себе вестей, даже из других районов засылали к ней сватов, и еще сравнительно недавно, лет пять назад, вдруг повадился причаливать прямо к ее подворью, к яру, на своем «Альбатросе» инспектор рыбоохраны, пока она не пригрозила ему, что скажет Никитину.
Нет, никаких особых перемен она не нашла у себя. Вот только глаза стали какими-то беззащитными, ей самой не понравился их тревожный блеск.
И еще, глядя на себя в трюмо, вспомнила, как Никитин любил брать в руку и переливать в пальцах ее волосы. Они у нее были такие длинные, что когда, расчесывая, она распускала их, они падали ниже пояса, закрывая ей плечи и спину. Иногда полусерьезно, полушутливо она начинала угрожать Никитину, что возьмет и отрежет их, надоела ей эта вечная морока – ни расчесать, ни промыть хорошо, и летом под ними жарко, как под пшеничной копной. Да и годы ее уже не те, чтобы накручивать косу. Когда она говорила это, он всегда пугался:
– Смотри, чего доброго, и в самом деле не сдури. Может, я тебя за твои косы и полюбил.
Теперь же ни разу не взглянет в ее сторону, когда она распускала их по плечам, расчесывая и укладывая вокруг головы венцом. Теперь ему никакого дела не было до того, что при этом они как будто плавятся, пронизанные косо падавшим из окна утренним солнцем. Еще ни единой ковыльной нити не поблескивало в них.
Она хорошо видела, что, раскуривая в это время свою утреннюю папиросу, сидя на кровати, он смотрит на другую половину дома, где невестка, как всегда, собираясь в школу, прихорашивалась перед зеркалом. Волосы у Ирины были даже не черные, а как будто фиолетовые. Под гребешком они трещали, как железные. И все-таки он, покуривая, терпеливо ожидая, когда Ирина закончит свои сборы, смотрел на них, а не на этот пшеничный водопад, в котором путалось утреннее солнце.
На улице их поджидал в машине правленческий шофер.
* * *
Ее взгляд вдруг увидел ножницы, надетые на гвоздик сбоку трюмо. Еще и сама не представляя, что может произойти, она сняла их с гвоздя, взяла с комода большой деревянный гребень и, перекидывая мокрую косу со спины на грудь, пропуская волосы через гребень, отрезала их близко от шеи. С шорохом они упали к ее ногам. И, когда, повернув голову через плечо, она снова глянула в зеркало, перед нею стояла совсем незнакомая ей женщина с такими же короткими, как у невестки Ирины, волосами.
От испуга она закрыла лицо ладонями.
Но, быть может, самое страшное для нее заключалось в том, что, когда вечером все собрались и она вышла из кухни к столу с этими коротко остриженными волосами, он, невидящим взглядом скользнув по ней, даже не заметил ничего. Как если бы все оставалось по-старому. Только Ирина, похоже с сожалением, коротко взглянула на нее. Но тоже ничего не сказала, низко опуская голову.
Наутро все это представилось ей в совсем ином свете, и она уже никого не могла винить, кроме самой себя. Ей теперь уже не столько волос своих было жаль, сколько того, что за эти годы она, оказывается, успела настолько обабиться, что незаметно для самой себя превратилась в одну из тех жен, которые, если бы на то их воля была, за ручку водили, а то и совсем на цепи держали своих мужей, запечатывали им своими ладошками рты, чтобы они не смогли с какой-нибудь другой женщиной слова сказать, и завязывали глаза, чтобы они, чего доброго, не взглянули на кого.
Ее в холодный пот бросило от этих мыслей, и она содрогнулась от отвращения к самой себе. Господи, да пусть смотрит на кого угодно и сколько угодно, мало ли он с какими женщинами в колхозе встречается за день! И разговаривает с ними, и шутит, и, бывает, они даже заигрывают с ним – какие бы они казачки были, если б не заигрывали! И при этом он не вправе унизить их своим пренебрежением или обидеть высокомерием. Какой же он будет председатель, если не сумеет и принять шутку и повернуть ее так, что женщины потом из шкуры вылезут, а исполнят все, о чем он их просил, – ей ли не знать станичных женщин.
И на нее, невестку, пусть смотрит на здоровье. Что ж из того, на нее и вообще приятно посмотреть, на такую молодую, красивую, жгучую. Вообще она вся какая-то, как нездешняя: как будто отстала от одного из пароходов, огибающих яр на впадении Донца в Дон, и теперь поджидает следующего, чтобы уехать дальше. Не чужая же она, чтобы с ней слова не сказать. Тем более, что Григорий, ее муж, сызмальства привык больше молчком, клещами не вытянешь из него слова.
Из того же, что не заметил, как она отрезала свою косу, тоже ничего иного не следует, кроме того, что обабилась, совсем ослепла. Мало ли ей что еще может взбрести в голову, а он, оказывается, должен быть и за это виноват перед ней. У человека на плечах не какой-нибудь карликовый, как когда-то у нее, а крупнейший в районе колхоз, столько людей, и все рвут председателя на части. От одних уполномоченных и ревизоров жизни нет. Недаром он как-то говорил Ирине за столом, что председатель колхоза – тот же телеграфный столб, о который может почесаться каждая свинья…
А тут, значит, еще не пропусти, не прогляди, какую вздумает сделать себе прическу жена. Смотри, не пропусти, когда она тоже захочет завести себе модную скирду.
При этих мыслях Антонине начинало казаться, что краска жгучего стыда достает ей до костей. Но это также был и какой-то приятный, радостный стыд, в котором растворялась та смутная тоска, что все чаще подкрадывалась и точила ее последнее время. Чем беспощаднее казнила она себя, тем явственнее чувствовала, как сваливается с нее камень этой тоски, и опять ей становилось легко-легко. Совсем как прежде.
Ничего, оказывается, не изменилось, а изменилась только она сама. Спустилась с той высоты, с которой никогда и ни при каких обстоятельствах не имеет права спускаться женщина.
Но если это так, и все зависит от нее самой, то это поправимо. Надо только освободиться от всего того, чего она всегда не понимала и не принимала у других женщин. И она освободится. Ничто постороннее, личное, мелочное не должно омрачать их жизнь.
В таком настроении и застала ее Настюра Шевцова, прибежав к ней из хутора в станицу со сбившимся с головы на плечо платком. Тут же, прямо в калитке, она и стала рассказывать Антонине, захлебываясь своими словами.
* * *
По словам Настюры, давно уже кое-что приметив, она стойко, не меньше месяца, несла дежурство в молодых вербочках на полдороге между станицей и фермой, пока не дождалась. Целый месяц Никитин с Антонининой невесткой, не задерживаясь, проезжали мимо нее на машине, и вдруг сегодня недалеко от того самого места, где она, затаившись, лежала в кустах, машина повернула и заехала в глубь прибрежного леса, под большие вербы. Никитин с невесткой вылезли из нее и спустились по стежке друг за дружкой прямо под обрыв. Это в том самом месте, где Дон размыл себе колено. В этом затишке хоть телешом купайся – из-за кручи ни с этого, ни с того берега не видать. Настюра и сама, как идет с фермы в хутор, спускается туда, растелешится и плещется от души. Никому же в голову не придет ложиться животом на обрыв и, свесив голову, заглядывать, что там делается внизу.
Но она, Настя, не поленилась. На животе ящерицей проелозила по траве до самого края и заглянула под обрыв.
* * *
Каково же было удивление и негодование Настюры, когда в этом самом месте Антонина, рассмеявшись прямо ей в лицо, сказала так грубо, как еще никогда не разговаривала с нею:
– Иди и бреши где-нибудь в другом месте. Люди от жары искупаться захотели, а тебе надо.
И перед самым носом у Настюры захлопнула калитку.
Это после того, как Настюра из-за нее же дежурила в вербочках целый месяц. Ей же, слепой дуре, хотела добра.
Настюра Шевцова постучала в калитку еще раз, Антонина из-за забора пригрозила ей, что если та еще тут будет стоять и брехать, она спустит с цепи кобеля.
– Он быстро поможет тебе найти отсюда дорогу. Как будто и не знаю, что все это ты выдумала в отместку ему за то, что он не любит тебя за твой язык и даже называет не Настюрой, а Стюрой.
Отблагодарила. Ну и пусть, так ей и надо. Ее, дуру, и ее, такого же слепого дурня, сыночка, околпачивают среди бела дня почем зря, и она же прикрывает все это своей юбкой. Чистюля, через губу не плюнет. Думает, как она на всю жизнь дала себе зарок не оскоромиться, так и все другие скоромное не едят. Тогда шла бы уж сразу в монастырь, чем замуж выходить. Еще тоже называется – казачка. Вот и дождалась, утащили мужа из-под самого бока.
Пусть, пусть. Так этой сатанюке и надо.
И, отходя от калитки, Настюра Шевцова с глубочайшим презрением сплюнула через плечо.
* * *
Накормив и проводив с утра всех на работу, а внука в детский сад, Антонина обычно успевала к их возвращению и на задонский огород съездить и, переправившись обратно, разогреть обед, накрыть на стол. На этот же раз она задержалась на переправе из-за того, что станичные паромщики поругались и чуть не подрались, сдавая друг другу смену. Когда вошла к себе во двор, Никитин с Ириной уже обедали вдвоем за столом в доме на веранде.
Еще издали она услышала их голоса. О чем-то негромко говорили они. Вдруг что-то толкнуло ее. Если бы не то, из-за чего она рассорилась с Настюрой, то, возможно, теперь бы и не замедлила она шаги, не приостановилась в коридорчике перед полуприкрытой на веранду дверью. Но, может быть, и потому, что, еще ничего не разобрав, не поняв из их разговора, она вдруг ощутила какое-то неприятное беспокойство.
Ее невестка разговаривала с Никитиным таким тоном и с той свободой, которая как будто говорила, что у нее есть на это право. Сама Антонина за многие годы жизни так и не научилась разговаривать с ним в таком тоне.
– Это каким же образом? – насмешливо опрашивала у него Ирина.
Перед своей совестью Антонина чиста была – она их подслушивать не собиралась. Но коль так получилось, значит, ей до конца нужно узнать, по какому праву она могла так разговаривать с ним.
– Каким образом? – с вызовом повторила Ирина.
Некоторое время Никитин не отвечал ей, а когда заговорил, голос его был скорее похож на ворчание:
– Ну, у женщин, говорят, есть много способов.
– Ты же сам просил не доводить пока до разрыва.
– Это совсем другое. Я же показывал тебе эту яму.
– Если бы ты мне ее раньше показал…
Антонине трудно было стоять перед дверью, а в коридоре было невыносимо душно. Отступая за полуоткрытую дверь, она прислонилась спиной к каменной стенке.
Невестка испуганно спросила у Никитина:
– Кто-то вошел?
Под его шагами застонали половицы на веранде, и, потянув на себя дверь, он плотно прикрыл ее:
– Никого нет.
Из-за двери их голоса зазвучали глуше. В духоте коридора Антонина обливалась потом. Хорошо, что стена, к которой она прислонилась, была такой холодной. В прошлом году Никитин сам сложил веранду из серого камня.
– И все-таки ты могла бы ему не позволить, – настойчиво сказал он за дверью.
– Это уже что-то новое. Ревнуешь?
– Во всяком случае, мне не обязательно было знать…
Теперь уже с насмешкой нескрываемое презрение сплелось в голосе у отвечавшей ему Ирины:
– Вот даже как?! И это могло бы тебя утешить?
Пот заливал грудь и спину Антонины. Но ей уже не жарко было, а так холодно, как никогда еще в жизни. Каменная стена леденила ей не только спину. Больше всего боялась она, что у нее уже не хватит сил оторваться от этой стены и выскользнуть из коридора, уйти отсюда прочь. Вдруг все их слова и обрывки разговора, смысла которых она сперва никак не могла понять, сразу соединились, связались с тем, что давно уже подтачивало ее и во что она с негодованием отказалась поверить, услышав это от Настюры. Все вдруг осветилось. Все она сразу поняла, и ни единого слова больше, ничего уже не надо было ей слышать из того, о чем они говорили между собой, – это уже была не ее, а их жизнь. Вся ее прошлая жизнь с Никитиным сразу оборвалась, кончилась и теперь уже навсегда останется там, за порогом. Ей же надо только найти в себе силы, чтобы, не помешав им, выбраться отсюда.
Позже она лишь смутно помнила, как ей все-таки удалось неслышно выскользнуть из коридора, и потом она оказалась в погребе вниз лицом на лежанке, на которой, бывало, спасалась летом от нестерпимого зноя.
* * *
Очнулась от пронизавшей ее мысли о Григории. Ни на секунду у нее не возникло бы сомнения, как ей теперь поступить, что ей, и притом немедленно, не откладывая, сделать самой, если бы не он. Теперь же получалось, что одной и той же петлей его захлестнуло вместе с ней. И пока она не сумеет помочь ему освободиться от этой петли, у нее нет и не может быть никакого своего горя. Если он все еще так ничего и не знает, надо не допустить, чтобы это своей неожиданностью сбило его с ног, раздавило его. Если же знает, но все еще не сумел найти выхода, все равно безотлучно побыть рядом с ним, пока он не найдет этот выход. У молодых всегда бывают свои решения, и то, что она сама избрала для себя, не обязательно должно подойти и ему. Даже обязательно не подойдет. Своим преждевременным вмешательством можно не помочь, а только помешать ему.
Но если так, то, значит, требуется от нее теперь только одно: ждать. Все время быть настороже, когда ее помощь может понадобиться ему. И дома, в семье, делать все, что она делала до сих пор, как если бы ничего, ровным счетом ничего не изменилось у них в семье, в доме. До света вставать, готовить, кормить, провожать на работу и в детский сад, встречать, обстирывать, полоть огород и ложиться всегда позже всех, как всегда она делала до сих пор. Все делать как прежде, чего бы это ни стоило ей. Решительно отодвинув в сторону свою собственную беду, пока все это несчастье еще висит над головой ее сына.
* * *
И, должно быть, все это не так уж плохо удавалось ей, потому что за все время Никитин лишь один-единственный раз и взглянул вдруг на нее внимательно, с тревожно загоревшимися в глазах огоньками, спросив:
– Что это, мать, у тебя по три раза надо спрашивать об одном и том же? Как у глухой.
Ничего иного не оставалось ей, как сделать вид, что и на этот раз она не услышала его. Это было то единственное, в чем она так и не смогла преодолеть себя: не могла заставить себя отвечать ему. Как будто действительно сразу стала глухой ко всему тому, что он мог ей сказать. На все то, что обычно так и взыгрывало, с такой радостной готовностью откликалось в ней на один только звук его голоса, повесила замок.
А спать она из дома перешла теперь в сад, сославшись на то, что поспел виноград и ребятишки шастают через забор за ним.
Она никому не хотела мешать.
* * *
Все ее внимание обратилось теперь на него, своего сына. И, припоминая теперь все-все, она беспощадно истязала себя за то, что, занятая собой, не поспешила к нему на помощь тогда, когда может быть, еще не поздно было ему помочь.
Нет, он, конечно, все давно уже знал, иначе не просил бы так, не умолял: «Давай, Ириша, уедем отсюда». И если скрывался от нее, своей матери, то, видно, на что-то еще надеялся и пока что топил свои надежды в вине. А может быть, и ее жалел. Страшно было ему при мысли о том, что вместе с матерью захлестнуло его одной и той же петлей. Из боязни причинить ей боль и сам скрывал от нее свое горе. В себе переживал, а это всего труднее.
Он и в детстве всегда ее берег, хотя и не ласкался никогда, стыдился. Старался раньше нее схватиться за ведра, чтобы обегать к Дону по воду, накосить резаком для коровы травы. Встречал корову из стада, и за лето, бывало, на всю зиму заготовит дров, наколет и аккуратно сложит за кухней, под навесом. Никогда не требовал от матери ничего лишнего, не тянул с нее, до студенческих лет безропотно ходил в перелицованном, а когда уже уехал в техникум, всегда, отрывая от своей стипендии, присылал ей гостинцы. И теперь, получается, продолжал ее беречь, хотя это же, если разобраться, из-за нее оказался несчастным. Своими руками она ввела в их семью того, кто теперь стал поперек его молодого счастья. Поперек всей его жизни.
Но и теперь он хочет молча справиться с этим сам, скрываясь от нее и все еще на что-то надеясь, питая и заглушая вином свои надежды. Придет тот час, когда уже и вином нельзя будет залить тот пожар, который иссушает, испепеляет его душу. Ей это хорошо было известно. С тем большей тревогой предчувствовала, подстерегала она наступление этого часа.








