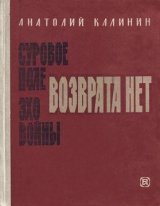
Текст книги "Возврата нет"
Автор книги: Анатолий Калинин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
– Ни медали, ни ордена твоего мне не надо, и не грози ты мне, пожалуйста, политрук, – склоняясь над раненым лейтенантом, отвечала хозяйка подворья, рослая казачка лет тридцати с небольшим. – Лучше помоги мне его скорей тут в одно место перенести. И оставь мне побольше бинтов с ватой. А чем этой штукой меня пугать, ты бы попугал ею немцев.
– Я же это в шутку, – заискивающе сказал политрук.
Если б не безвыходное положение, ни за что бы не позволил он себе бросить своего боевого товарища на произвол судьбы. Тем более, что хутор, где приходилось его оставлять, был казачий. А политрук, сам из орловских, давно слыхал, не раз видел в кино и твердо уверовал, что на казаков в таких случаях нельзя положиться. И хотя бы расспросить можно было у кого-нибудь, что за человек эта смуглая, красивая казачка: все люди, когда начался бой за хутор, куда-то разбежались и попрятались, как сквозь землю провалились. Сама же она оказалась не из словоохотливых, на все вопросы отвечала с не внушающей доверия односложностью:
– Колхозница.
– Рядовая? – пробовал допытаться у нее политрук.
– Теперь мы все стали рядовыми.
– А почему не эвакуировалась вместе со всеми? С колхозом?
– Кто-то должен и тут оставаться.
И когда политрук все же продолжал настаивать;
– А вот другие – и многосемейные, и больные – все едут, не хотят под немца подпадать. А у тебя один только сын…
Она вдруг повернулась к нему с такой стремительностью, что он попятился:
– Ты меня не агитируй, я сама тебя сагитировать смогу. Ты бы лучше со своими пушками закрыл нас с коровами от танков, когда мы сунулись через Донец. Вы-то теперь пушки под яр покидали, и сами скоро за Дон стрекоча, а нам хоть с яра сигай.
Все это особенного доверия не внушало. И уже после того как орудийная прислуга переправилась под огнем немецких танков на левый берег, политрук батареи с бойцами еще долго выглядывали из молодых пушистых вербочек на то хуторское подворье на высоченном яру, где они оставили своего командира. Запоминая, внимательно рассматривали из-за Дона и большой, насаженный на самом яру сад, и кирпичной кладки хороший дом, краснеющий из кустов винограда. С трех сторон усадьба была обнесена глухим дощатым забором, а четвертой, незагороженной, обрывалась прямо в Дон.
Там, в глубокой выемке, из которой хозяйка этой усадьбы брала для своих домашних нужд красную глину, и лежал теперь их тяжело, раненный в голову и грудь комбат Никитин.
* * *
Самым опасным оказалось не только то, что с появлением немцев в хуторе в доме у Кашириной сразу же поселились офицер с денщиком и ей с первого же дня пришлось подстерегать моменты, чтобы незаметно проскользнуть в угол сада к лейтенанту, но и то, что до них каждую минуту могли донестись его крики, когда он, опять впадая в беспамятство, начинал командовать:
– Бусоль… уровень… прицел… четыре снаряда… беглый огонь!!!
И он, как в клетке, начинал биться в выемке, без того тесной для его большого мужественного тела. Антонине, если это было при ней, приходилось своей ладонью задавливать его крики, а, уходя, связывать ему руки и ноги, чтобы он без нее как-нибудь не выкатился из ямы, не свалился с яра в Дон. Хорошо еще, что за всю неделю, пока он совсем не пришел в память, ни разу не задул из-за Дона обычный по этому времени «астраханец» и не донес его крики до дома. Иногда, правда, денщик офицера, Иоганн, беспокоился, повернув в ту сторону голову и оттопырив рукой желтое ухо, но крики глохли в густой дерезе. И Антонина поднимала во дворе какой-нибудь шум: гремела ведрами или же, тяпая траву, среди деревьев сада, вдруг запевала высоким голосом одну из своих женских казачьих песен, к великому удовольствию денщика Иоганна. Смеясь и хлопая в ладоши, он заказывал ей «Катюшу». Даже его начальник, майор, если он был дома, высовывался во двор из раскрытого окна, интересуясь.
И потом ей опять надо было ловить момент, чтобы, подхватив из-под виноградного куста сумку с харчами для лейтенанта, суметь прошмыгнуть под яр.
На вторую неделю, когда на ранней заре она спустилась к нему в яму, он встретил ее словами:
– Больше ты не связывай меня. – И тут же требовательно спросил: – А где мой пистолет?
И по его взгляду, мерцающему из полутьмы ямы, она поняла, что теперь уже может безбоязненно отдать ему и пистолет, и автомат с патронами, оставленные для него политруком и спрятанные ею в дерезе, вместе с большим артиллерийским биноклем на тонком ременном шнуре.
Этому биноклю он, кажется обрадовался больше всего, потому что сразу же захотел взглянуть на тот берег Дона. Но тут же, едва приподнявшись на локте, рухнул обратно на матрац. Свежая кровь проступила у него сквозь бинт на груди.
– Гляди, опять свяжу, – перебинтовывая его, пригрозила Антонина. – Мне тут некогда с тобой возиться.
И, покоряясь, он пообещал ей совсем, как, случалось, ее тринадцатилетний Гришатка:
– Больше не буду.
Кроме индивидуальных санпакетов, собранных политруком со всей батареи и оставленных Антонине, у нее еще нашлись пузырек с йодом и коробочка с марганцем, и больше никаких лекарств. Надо было обойтись теми средствами, какими, бывало, обходились ее отец с матерью и сама она с детства: листом рашпиля, лучше которого ничто не могло так вытянуть жар и очистить рану, настоем травы вербочки, от которой густела кровь и затвердевали рубцы. Благо, что горшками с колючим рашпилем у нее всегда были заставлены подоконники, а вербочка сплошь кудрявилась по берегу Дона, стоило лишь спуститься с яра. Неплохо, конечно, было бы привести к лейтенанту с того края хутора бабку Иванчиху, умевшую заговаривать раны. Но нельзя было понадеяться, что после этого она завяжет на узелок язык: к девяноста трем годам у нее уже не держали уторы.
Но было и свое преимущество в том, что у нее стояли такие квартиранты: никому в голову не могло прийти, что на том же самом подворье может прятаться советский лейтенант. И полицаи из района, братья Табунщиковы, регулярно наезжавшие в хутор, наводившие по дворам ревизию в поисках сбежавших из немецких лагерей военнопленных, предпочитали не сворачивать по травянистому проследку к ее дому, у которого почти всегда дежурил большой темно-синий «мерседес». Получалось, что под такой защитой можно было жить и чувствовать себя спокойно, если только уметь поостеречься своих же собственных квартирантов. В особенности, как выяснилось вскоре, денщика Иоганна, так и следующего за Антониной по пятам, откровенно обгладывающего ее бедра и грудь своими бесстыжими, без ресниц, глазами.
А ведь у нее были свои часы, которые ей никак нельзя было пропустить, чтобы вовремя и перевернуть с боку на бок все еще беспомощного лейтенанта, и перебинтовать его, и покормить куриным бульоном с ложечки, и помочь ему сделать то, с чем он без ее помощи еще долго не мог управляться.
Из всего, в чем он безропотно ей покорялся, – это, судя по всему, оказалось для него самым трудным. Всякий раз она чувствовала, как под ее прикосновениями все его тело начинает дрожать от отвращения, и он потом требовал от нее, отворачивая голову к стенке:
– Уйди!
Ей же – она сама себе удивлялась – все это ничуть не было неприятно, не говоря уже о том, чтобы противно. Несмотря на свою брезгливость, из-за которой ей еще в детстве перепадало от матери по затылку, когда она, как только пошла в школу, отказалась есть вместе со всеми из общей миски.
Почему же ей могло быть неприятно или даже противно, если кожа у лейтенанта была чистая и такая тонкая, что сквозь нее проступали голубые жилки. Нигде не порченная. И все тело, несмотря на жар, иссушающий его, не какое-нибудь дряблое, а как тягое тесто. Ей только страшно жаль было, пусть и невольно, причинять ему боль, отдирая бинты, которые никак не хотели отставать от ран, хотя она и отмачивала их марганцовкой. Но так ни разу и не услышала она, чтобы он застонал или заругался. Только зернами пота покрывался лоб, и он прикрывал глаза, плотно прикусив губу. Сразу же после того он засыпал, по обыкновению, отвернув к стенке голову. Стружка рыжеватых волос, прилипшая к его лбу, светилась в темной яме. Она неслышно вытирала ему лицо и шею платочком. Ей приходилось и расчесывать его, пока он не стал сам поднимать руки.
Тогда он решительно стал отказываться и от всех других ее услуг. То, отобрав у нее чайную ложечку, с которой она поила его бульоном, то перехватив своими пальцами ее руку с кружкой молока, а вскоре лишив ее и обязанностей регулярно обтирать его полотенцем, смоченным разбавленным водой виноградным спиртом. Хотя она и опасалась, как бы у него не появились пролежни, потому что ему еще трудно было всюду дотянуться руками. Но он настоял.
И только сбрить, лежа на спине, свою рыжеватую бороду, которой он успел обрасти за это время, ему так и не удалось опасной бритвой, да и темно было в яме. В конце концов он бросил свои попытки, присовокупив:
– С такой бородой в дороге еще лучше будет.
А когда она, не сразу поняв, переспросила:
– В какой дороге?
Он ответил на ее вопрос своим вопросом:
– Что ж, по-твоему, мне и зимовать придется в твоей яме?
Об этом она до сих пор не думала и не нашлась, что ему ответить, хотя ей и показалось, что он мог бы не говорить этих слов: «в твоей яме».
Но ведь и не обижаться же ей было на него, без того обиженного. Обреченного, вдали от своих товарищей, как волк, прятаться в этой темной и душной яме. На своей же земле.
Из-за денщика, не оставляющего ее в покое, у нее совсем не оставалось времени для разговоров с лейтенантом, и она могла позволить, себе лишь обмениваться с ним короткими словами, когда наскоро перебинтовывала и кормила его. Она едва успевала на его вопросы отвечать:
– Ты своими глазами видела, когда они через Дон переплывали?
– Сама?
– Сама.
– И не накрыли их?
– Не должны бы накрыть, потому что с утра был туман.
– Но все-таки немцы заметили их?
– Когда они уже должны были к берегу подплывать.
– С лошадьми?
– С лошадьми.
– А кто же, по-твоему, мог на пароме трос перерубить?
– Из наших хуторских никто не мог. Я тут всех знаю.
Ей и самой хотелось кое о чем расспросить его, но он не давал слова вставить.
– Откуда ты знаешь, что офицер этот из докторов?
– От денщика.
Ложечка с бульоном лишь чуть-чуть вздрагивала у нее в руке, но он тут же осведомлялся:
– Ты что?
– Ты бы меньше разговаривал, а больше ел, – с досадой выговаривала она ему.
– Я уже наелся. С твоего бульона у меня скоро тут горло жиром заплывет. – И тут же продолжал свой допрос: – Разве он по-русски знает?
– Не очень, но понять можно.
– И что же он еще говорил?
– Это он только когда налакается пьяный, а так все больше молчком, – отвечала она, сосредоточенно обматывая бинтом ему грудь, пробитую осколком.
– Еще не хватало тебе его вином поить.
– Вчера он говорил, что скоро они должны Сталинград взять.
– Ну, этот орешек им не по зубам.
И после этого он надолго замолкал, отвернув голову к глиняной стенке ямы.
Вскоре уже она не смогла запретить ему вылезать из ямы, и, не считая ночи, он теперь все время проводил наверху, лежа на животе в дерезе и внимательно рассматривая в свой бинокль правый и левый берега Дона. Как-то и ей он дал глянуть в бинокль. От неожиданности она чуть не вскрикнула, вдруг увидев прямо перед собой проросшие сквозь белопесчаный откос красноватые корни левобережных тополей и верб, пьющих воду из Дона. А внизу, под стенкой яра, с такой сумасшедшей силой бурлила вода, что нельзя было смотреть, и она поспешила вернуть ему бинокль.
Как-то застала она его за тем, что он аккуратно раскладывал на припеке по краешку ямы огрызки хлеба.
– Это ты к чему?
Он усмехнулся:
– Сухари никогда не могут помешать.
Испугавшись, что он отрывает хлеб от себя, она предложила:
– Теперь я тебе буду больше хлеба приносить.
Он успокоил ее:
– У меня все равно остается. И вообще не положено разъедаться через край, чтобы развязывался пупок. Потом будет трудно отвыкать.
– У меня, слава богу, мука еще есть.
На что последовал немедленный ответ:
– Не век же мне тут на твоих харчах загорать.
В другой раз, когда она отыскала его в дерезе по обыкновению изучающим в бинокль берега Дона и луговое Задонье, он, повернув на шорох ее шагов голову, неожиданно поинтересовался:
– А Гришатка твой в какой уже класс ходил?
– В шестой, – ответила она, еще больше удивляясь тому, что такой ответ явно обрадовал его.
– Значит, у него где-нибудь учебник по географии должен быть. Ты, пожалуйста, поищи его для меня.
И когда на другой день она принесла ему этот Гришаткин учебник, он тотчас же раскрыл его перед собой в том месте, где вклеена была карта, и стал ползать своим артиллерийским биноклем по левому берегу, время от времени отрываясь, чтобы узнать у нее:
– Это просеку зачем прорубили через лес?
– Сено с займища возить. – И увидев, как светлые остья бровей тут же поползли у него кверху, она поспешила пояснить: – С заливного луга.
– А что это дальше за столбы?
– Там дорога.
– Ты когда-нибудь ездила по ней?
– Как-то в Сталинградскую область за племенным бугаем для колхоза, а оттуда гнала его пеши.
Он заметно оживился и попросил ее:
– Ты мне, пожалуйста, расскажи об этом подробнее. Какая там местность? Тоже все время только степь или же леса есть?
Еще с тех пор, когда его батарея располагалась у нее на подворье, запомнилось ей, что был он не из тех военных, у которых не обходится без заигрываний с их квартирными хозяйками, когда фронт перекатывается через новую местность. И теперь он ни разу не попытался затронуть ее, даже после того как от его ран уже не надо было отмачивать бинты марганцовкой. Лишь однажды, когда она пришла к нему, еще не остывшая после купания, которое устроила себе с Гришаткой в летней кухне в отсутствие своих постояльцев, вдруг смутил ее словами:
– А ты красивая… – И, продолжая смотреть на нее так, будто увидел ее впервые, спросил: – Этот… офицер не пристает к тебе?
– Нет-нет! – с поспешностью ответила она.
– Правда?
– Да, правда, – испуганно заверила она, заметив, как вздрогнула его рука на траве рядом с автоматом, с которым он не расставался и тогда, когда вылезал наверх из ямы.
Хотя это была и не вся правда. Вопреки всем ее опасениям, связанным с появлением у нее в доме немецкого офицера, она вскоре убедилась, что его ей не надо бояться. Ей бы ни за что не догадаться об этом, если бы его денщик не намекнул как-то в приливе пьяной откровенности, что ее тринадцатилетнему сыну не стоит слишком часто попадаться на глаза майору.
– Чтобы он случайно не сделал из него свой маленький русский фрау.
И тут же по ее лицу убеждаясь в ее полном невежестве на этот счет, денщик с удовольствием пояснил, хлопая себя ладонями по бокам и закукарекав так, что какой-то петух отозвался ему на другом краю хутора.
Она бы и после этого не поверила ему, если бы вскоре и сама не убедилась, что ее квартирант, молодой и по-женски красивый офицер, действительно смотрит на нее как на пустое место. Встречаясь в калитке или же где-нибудь в саду и с неизменной вежливостью уступая дорогу, он скользил куда-то поверх ее плеча отсутствующим взглядом. И как все больше начинала убеждаться Антонина: не его ей следовало остерегаться, а в первую очередь того же денщика, Иоганна, который чем дальше, тем все откровеннее прицеливался к ней своими стоячими глазками из-под желтых, как придорожная колючка, бровей.
Первое время ей еще удавалось накачивать его с вечера виноградным вином со своего сада так, что он тут же и засыпал, и никакая сила не смогла бы его разбудить. Но вот уже и ее запасы стали подходить к концу, и тот, другой, хмель, от которого все больше багровой мутью наливались его глаза, как у племенного хряка на ферме, уже не полностью растворялся в вине. И сравнительно сдержанный в присутствии своего майора, в его отсутствие денщик становился особенно назойливым, не отставая от нее ни на шаг. Еще ни разу, правда, он не сделал попытки справиться с нею силой, может быть, и не надеясь, на это, потому что она была женщиной рослой, сильной, но и не оставлял ее в покое. Ни на шаг не отступая ни тогда, когда она готовила в летнице обед, ни тогда, когда полола траву меж виноградных кустов, ни даже тогда, когда спускалась с ведрами по воду к Дону. Уже и по ночам начинал бродить вокруг летницы, куда перебралась она с Гришаткой из дому, и не раз испытывал прочность двери, запираемой ею изнутри на большой деревянный засов.
И тогда Антонине пришлось пригрозить ему, что она пожалуется майору, которого, как успела заметить, денщик панически боялся. Скорее всего потому, что, как сам же и рассказывал ей, уезжал его майор каждый вечер на своем «мерседесе» не куда-нибудь, а в гестапо, где в его обязанности входило приводить в чувство партизан и пленных красноармейцев, когда они теряли на допросах память. Возвращаясь, майор обычно по целым дням просиживал перед зеркалом за бутылкой, время от времени чокаясь со своим двойником в зеркале, осушая одну за другой стопочки со шнапсом.
На какое-то время после ее угрозы Иоганн присмирел, но после того как опять стал ловить ее по куткам и она вынуждена была повторить свою угрозу, он вдруг заявил с ухмылкой на конопатом лице, что тоже может кое о чем рассказать майору.
– Например, – пояснил он, притиснув ее в сарае к стенке, – зачем ты варил в кастрюле на печке столько бинт, а я открыл крышка и посмотрел.
И, не давая ей опомниться от мгновенно подкосившего ее страха, он грубо воспользовался ее слабостью тут же, на ворохе соломы.
Не за себя так испугалась она. И когда потом пришла в себя, растерзанная на соломе, не столько тому содрогнулась, что с нею произошло, сколько той мысли, что теперь все может открыться. Она принялась уверять Иоганна, что бинты остались от проходившего через хутор госпиталя и теперь она решила постирать их на всякий случай.
– Меня пока не интересовал, где ты брал этот бинт, но завтра может интересовать, – великодушно успокоил ее Иоганн.
И перед этим «завтра» еще дальше отступило от нее то, что с ней произошло, – о себе ли теперь было думать?! Сегодня он еще ничего не знает, но завтра захочет узнать. Ей надо удвоить свою осторожность. Вот когда должен будет пригодиться и тот, последний, бочонок с ладанным вином, который она заложила в сарае дровами.
От ее ладанного Иоганн сразу же пришел в восторг, заявив, что оно нисколько не хуже рейнвейна. Но и накачать его с вечера этим вином так, чтобы он не просыпался до утра, теперь уже было не так-то просто. Он стал растягивать это удовольствие, закусывая каждый стакан вина ломтиком намазанного горчицей шпига, а поэтому и пьянел медленно, окончательно сваливаясь лишь после трех-четырех литров. Однако и после этого, прежде чем идти к лейтенанту, ожидающему ее в яме, Антонине надо было хорошо удостовериться, что денщик уже не проснется. Не пропустив и того предутреннего часа, когда требовалось разбудить его к возвращению майора с ночного промысла из станицы.
Еще и поэтому ей никак нельзя было задерживаться у лейтенанта чересчур долго.
* * *
– Посмотри, какую я ночью корягу вытянул на берег, – похвалился он ей однажды, показывая рукой под яр.
Заглянув туда, она ужаснулась:
– Сам?!
Он довольно рассмеялся:
– А кто же еще! Правда, большая. Но ты, когда по воду пойдешь, пожалуйста, еще больше ее подтяни, а то ее может течением сорвать. На это у меня пока силенки не хватило. – И он виновато улыбнулся.
С недоумением глядя на большую, с узловатыми корневищами корягу у подошвы яра, она спросила:
– Зачем она тебе?
В свою очередь удивился он:
– Как – зачем? Мне, пока вода еще теплая, надо уходить. Иначе мне ни за что Дон не переплыть.
Она попробовала возразив:
– А может, Николай, тебе лучше тут дождаться, когда фронт начнет двигаться назад?..
И мгновенно осеклась, впервые увидев, каким чужим, даже враждебным, беспощадно-синим может быть его взгляд из-под белесых бровей.
– Примаком у тебя под подолом, да? Для этого ты тут и откармливаешь меня?
Она даже рукой заслонилась от него:
– Что ты, Николай!
И тут же, отведя ее руку своей, он заглянул ей в глаза:
– Ты прости, Антонина. Не могу я и дальше в этой яме от каждого шороха дрожать. Я ведь себе уже на всю дорогу сухарей насушил. Если до Сталинграда идти, то как раз мне должно будет хватить недели на две. А там я по голосам наших пушек через фронт проберусь.
Еще раз она попыталась разубедить его:
– Ты же совсем слабый еще, а под яром течение так и бьет, потому он всегда дрожит. Тебя под него может сразу затянуть.
Он с уверенностью усмехнулся:
– Зачем же я эту корягу причалил? Если с нею переплывать – не затянет. И если им захочется ночью по Дону прожектором пошарить – под ней не видно. Мало ли коряг по течению плывет. – И, безошибочно читая у нее на лице обуревавшие ее чувства, успокоил – Ты, пожалуйста, не бойся за меня, я от самой румынской границы через все реки на чем попало переправлялся. С пушками и без пушек. Ты пойми, Антонина, не могу я тут больше ни одного дня сидеть, пора уже мне прибиваться к своим. У нас на батарее даже конь, когда ему по колено оторвало ногу, на трех ногах все время пристраивался на свое место в упряжке.
И, глянув на его тоскующие синие-синие глаза, она поняла, что больше уже не следует его разубеждать. Все равно бесполезно. Тут же, впервые заглянув в самое себя, с пронзительной остротой почувствовала, что все это должно было для нее означать. Поняла и ужаснулась тому, какая ее ожидает потеря.
Это было нечто совсем иное, чем то, что испытывала она к своему покойному мужу. Теперь только начала понимать, что и замуж за него выходила скорее из благодарности за то, что именно на ней остановил свой взор этот серьезный, всеми уважаемый человек, о котором и в газетах писали, как о лучшем директоре МТС, в то время как она была почти совсем еще девочкой и ничуть не лучше своих подруг по бригаде из колхозного виноградного сада. Из благодарности она вышла за него замуж и жила хорошо, спокойно, в уверенности, что это и есть любовь. И когда перед самой войной он утонул, ушел вместе с машиной под лед, переправляясь с сеном через Дон, она горевала тем сильнее, что на руках у нее оставался сын, которого ей теперь без отца надо было поставить на ноги, вывести в люди.
Но только теперь, сравнивая, могла убедиться, что любовь – это нечто совсем другое. Это когда и в темной, глухой яме вдруг станет совсем светло. И это когда смешанный запах окровавленных бинтов и мужского пота пронзает сердце, а память об унылых сиреневых лепестках колючей дерезы, в которой прячется яма, потом сопутствует, как память о лучших цветах в твоей жизни.
Но, когда однажды Никитин, теперь уже совсем окрепший, все-таки потянулся к ней, она решительно высвободилась из его рук:
– Нет, этого, Николай, не надо делать.
Он искренне удивился:
– Почему? Ты же свободная, и я свободен. И я ведь после войны все равно к тебе вернусь. Кто нам может помешать?
– Никто, Коля, не помешает. Вернешься, и оно от нас не уйдет. И тебе еще нельзя волноваться. Еще слабый ты.
И чего бы это ни стоило ей, она не уступила ему. Немыслимо было для нее прямо из грязных лап этого денщика переходить в его руки. Не хотелось с самого начала осквернять их любовь никакой, пусть и вынужденной, ложью. А там пройдет время и, может быть, смоет то, что не по ее вине прикипело к ней.
* * *
Между тем денщик в непоколебимой уверенности, что ей не могут не быть приятны его слова, высказывался:
– Теперь мне посчастливилось лично донской казачка узнавать.
И в той же уверенности окончательно переселился к ней в летнюю кухню. По его словам, он еще до этого имел возможность оценить русских женщин, и казалось бы, его уже не удивить. Но тут он удивлялся, как это Антонине с ее грубой крестьянской жизнью и работой удалось остаться такой… У его жены Анхен после рождения первого же ребенка грудь стала, как два мешочка, и от ног ее, больших и жестких, никуда нельзя было деться. Самые лучшие мази, на которые она тратила уйму денег, не могли перебить совсем мужского запаха ее кожи. Антонина, как он уже успел убедиться, совсем не прибегает к мазям…
И он принимался обнюхивать ее. От отвращения она проваливалась в беспамятство. Как если бы все это происходило не с ней, а с какой-то другой женщиной. Не ее, а кого-то другого распяли, и она смотрит на это со стороны. Может быть, только это и спасало ее. Ее поруганное, нечистое тело не принадлежало ей, жило отдельно от нее самой.
* * *
– Теперь я тебя еще больше стал уважать, – говорил Никитин, глядя на нее светящимися в полумраке ямы глазами. – Я обязательно к тебе, Тоня, вернусь, если, конечно, ты не будешь возражать.
Ей стоило больших усилий не уступить ему после этих слов. У нее жалко дрожали губы:
– Я-то, Коля, не буду, только бы ты остался живой.
У него блестела под отросшими за это время усами улыбка:
– Меня теперь никакое лихо не возьмет. Раз ты меня под самым носом у немцев сберегла, значит, я наверняка уцелею. От меня сама смерть должна будет отступиться. Теперь я, считай, от любой пули заговоренный.
* * *
Если бы только знала она, что ожидает ее уже на другой день после этого разговора. Когда она, как обычно, на самой ранней, еще зеленой, зорьке ускользнет из лап объятого мертвецким, пьяным сном денщика Иоганна и поспешит меж кустами виноградного сада все туда же, где по кромке яра колючей проволокой непролазно плелась и свивалась стеблями дереза, а из нее торчали рдяные головки татарника…
Если б могла знать, раздвигая руками колючие стебли дерезы и наклоняясь над ямой, что вдруг глянет и дохнет оттуда ей навстречу страшной, нежилой пустотой. И что нигде вокруг в дерезе, где обычно лежал он со своим биноклем, когда вылезал из ямы, не будет его. Напрасно станет искать она лихорадочно заметавшимся по сторонам взглядом. И, все еще отказываясь поверить, только после этого глянет под отвесную суглинистую стену яра, орошаемую снизу, из бурлящей коловерти, мельчайшими капельками воды, чтобы не увидеть на своем месте большой, накануне выловленной им из Дона, коряги.
* * *
Из оцепенения вывел ее радостный возглас денщика за спиной:
– Так вот где я тебя, Антонина, находил. Ты, конечно, думал, что после твоего ладанного вина Иоганн будет младенчески отдыхать, но у него только один глаз спал, а другой смотрел, как ты яйки и пирожки в ведро собирал и куда-то носил. Ну-ка, давай показывать, для кого ты их собирать.
Он уже не ухмылялся, вцепившись ей пальцами в плечо и поворачивая к себе, чтобы заглянуть ей в глаза своими стоячими, без ресниц, глазами. Внизу под ними, под крутизной яра, непереставаемо клокотала на слиянии струй Дона со струями Донца коловерть, разбрызгивая капли воды, окровавленные размытой красной глиной. Но, может быть, это и под лучами ранней зари так вспыхивали они.
– Теперь я буду лично узнавать, какой русский змея на своей собственной груди согревал, – говорил денщик, одной рукой все глубже впиваясь ей в плечо, а другой нашаривая у себя на боку кобуру с пистолетом.
Все свое отчаяние и всю уже испепелившую ее дотла ненависть вложила Антонина в один короткий и страшный толчок, и сама, качнувшись вперед, едва удержалась на кромке яра. С ужасом отшатываясь, только и успела увидеть, как, запрокидываясь назад, Иоганн судорожно хватался за колючие стебли дерезы, а они ускользали из его рук.
Больше ничего не увидела и не услышала она из-под яра.
Да и как же было услышать, если там и без этого все время булькала, клокотала коловерть, из которой, сколько она помнила себя, еще никому, кого затягивало под яр, не удавалось выплыть. Ни людям, ни быкам, когда они в этом месте переплывали через Дон на зеленое жирное займище.
* * *
Теперь только, пока еще не проснулся майор и не хватился своего денщика, надо было успеть все вынести из ямы, и вообще убрать все. Убрать и лопатой осыпать по краям ямы глину… Самая обыкновенная яма, из которой хозяйка, когда ей требуется, берет для своих домашних нужд красную глину. Вот и сегодня понадобилось ей обмазать, обновить снаружи давно облупившиеся стены летней кухни.
А за все остальное какой с нее может быть спрос? Мало ли, если этот денщик, на которого уже и сам начальник его, майор, смотрел, как на неисправимого алкоголика, мог заблудиться и даже свалиться с яра. Ничего странного, если и самому майору уже не раз приходилось отправлять его за пьянство в станицу, в ортскомендатуру на отсидку.
Судя по всему, после недолгих поисков своего денщика склонился к этому и майор. Тем более, что через три дня труп Иоганна раздувшийся и разбухший, но без единой царапины и вообще без каких-нибудь признаков насильственной смерти, в мундире и сапогах, полицаи братья Табунщиковы выловили из Дона у самого хутора Вербного, в полустах километрах по течению ниже Красного яра.
* * *
И тогда, когда волна фронта покатилась от Сталинграда обратно через Дон, она тщетно поджидала и выспрашивала о лейтенанте Никитине у артиллеристов всех проходивших через хутор батарей; и потом, когда фронт ушел уже на запад, так и не пришло ответа на все ее запросы по номеру полевой почты, который она запомнила с его слов. Но, в сущности, и нельзя было ей на это обижаться, потому что ни женой она ему не была, ни сестрой, а просто одной из тех знакомых, что заводятся почти у всех военных там, где проходит фронт. И нечего было ей, раздвигая бурьяны в углу сада и заглядывая в темное отверстие ямы, все еще надеяться на что-то. Это ей только почудиться однажды могло, что из ямы вдруг как розовым солнцем блеснуло ей по глазам. А вообще-то там всегда было пусто, темно и глухо. И сама дереза, дичающая на яру, все гуще затягивающая яму, цвела безжизненно, тускло. Самая сорная из сорных трав. Если теперь взяться уничтожить ее, то надо уже не тяпкой, а топором.
Не дождалась она не то чтобы стука в калитку, а хотя бы какой-нибудь весточки от него и тогда, когда уже началось возвращение в станицы и хутора демобилизованных с фронта. Значит, и незачем было ей больше тешить себя, а наглухо завязать где-то в себе то, что теперь уже не должно было сбыться. Пусть и там оно зарастает дерезой. И, наглухо завязав это в себе, целиком посвятить себя тому, что вдруг неожиданно свалилось ей на плечи.
* * *
Сразу же после того как прошел через хутор фронт, избрали ее женщины председателем колхоза. В то самое наитруднейшее время, когда все еще дымилось, было разорено и сожжено, а по хуторам и станицам оставались одни только вдовы с детишками, и, чтобы вспахать землю под яровые, надо было приучать к ярму тех коров, которых не успели съесть и угнать с собой немцы.
Ничего в колхозе после них не осталось – ни доски, ни гвоздя, а надо было и восстанавливать и строить новое. Вот тогда-то, когда получили первый послевоенный урожай, а Неверов, пыхнув из своей трубочки прямо ей в лицо, сказал, что райком не лесная биржа, но если пшеница намокнет и погорит в буртах, то все равно у председателя колхоза голова с плеч, – тогда она и решилась. Выменяла на шахте за десяток бочек виноградного вина десять машин крепежного леса и сквозь выстрелы заградпостов прорывалась по ночам из города в степь. Тогда и Неверов аплодировал ей громче всех, поднимая над головой руки и смеясь, когда она каялась на районной партконференции:








