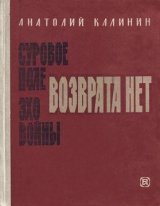
Текст книги "Возврата нет"
Автор книги: Анатолий Калинин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
К восемнадцати годам он уже сам и первый виноград отвозил на пароходах за полторы тысячи верст, в Саратов, и со всеми агентами сам дело имел – они уже называли его Павлом Андрианычем. Если надо было нарубить хороших сохи слегдля сада, Павел к хуторскому леснику не стучался – тот шибко трезвый был, – а брал в моторную лодку плетенку с вином и поднимался по Дону в другое лесничество. Оттуда и раз и другой привозил полную лодку опор. И не какой-нибудь вербы, которая гниет в земле, а дерева твердой породы.
С тех пор как всю свою винополию мать сдала ему на руки, еще больше заклубился у них под яром народ. Лыско днем уже не становился на дыбки посреди двора, лаял только ночью. Тоже была Павлова дрессировка. А Жорки Лыско не боялся. Жорка напьется пьяный, сядет рядом с ним, обнимет за лохматую шею и жалуется ему, что Павел все прибрал к рукам. Павел тоже не прочь был выпить, но только в хорошей компании, и разума не терял. Пить тоже надо умеючи, не так, как, например, та же Верка Сухарева, которая от мужа и от детей все тащит из дому. И сало кусками и зерно цебарками, а то как-то променяла Павлу за четверть другакасовсем новые валенки.
Но иногда Павлу почему-то хотелось выпить и без всякой компании, одному, и в такие дни пил он много, по-страшному. Страшно было не то, что много пил, а что чем больше пил, тем становился трезвее. И глаза у него становились совсем голубые, как выстиранные. Жорку он в такие дни от себя отсылал, находил ему дело, а сам сядет против четверти с вином, посадит перед собой на табурет мать и требует, чтобы она рассказывала ему все про отца. Все, все-рассказывала: и какие у них были сады, и как их раскулачивали в хуторе, и что отец говорил напоследок, когда его зашибло в тайге сосной. Слушает Павел и пьет и трезвеет. Иногда только скажет: «Так, так» – и легонечко побарабанит подушечками пальцев по крышке стола. Один раз он вдруг небрежно спросил у Варвары:
– А что это, маманя, по хутору брешут, будто наша Ольга вовсе и не Табунщикова, а чья-то другая. Будто того самого начальника, какой заезжал к нам в тайге.
Взглянула мать в эту минуту в глаза Павлу и испугалась: были они уже не синие и даже не голубые, а белые. Варвара замахала руками:
– Что ты, Павлуша! Люди чего только не набрешут, а ты им верь.
– Да нет, маманя, это я так спросил, – устало отводя взгляд в сторону, усмехнулся Павел. И тут же откровенно признался: – Не люблю я Ольгу. Как вроде и правда она чужая.
Тут уже Варвара сурово прикрикнула на него:
– Наша она, наша! Ты, Павел, ничего такого даже не смей и подумать! Она твоя сестра. Ни-ни! Я тебе, как мать, этого не могу позволить.
– Я вас, маманя, завсегда слушаю. Нехай как хочет, так и живет, – согласился Павел. – Как вы говорите, так, стало быть, и есть.
* * *
Но хоть и заступалась она перед сыном за дочку, а сама тоже иногда сомневалась. В точности Варвара и сама ничего не знала, потому что этот гепеушник наведывался к ним домой в отсутствие Андриана. Андриан, кажется, об этом догадывался, но виду не подавал, знал, что Варвара никогда ничего не сделает без пользы для семьи, для дома. Нет, этот таежный начальник не приневоливал и не подкупал Варвару, он ее жалел и даже говорил, что, если бы не такая служба, не посмотрел бы, что она кулачка, взял бы ее к себе и с детьми – он был не женат. Он и свои полпайкией отдавал потому, что жалел, а не потому, чтобы от нее своего добиться. Этого он бы добился и без пайки – мужчина был из всех и на тысячу километров в тайге начальник… Но что бы там ни было, а мучица и сахар у них в доме не переводились. И Андриан помалкивал, зная, что все это идет не чьим-нибудь, а его же детям. Сам он, верно, никогда до всего этого не дотрагивался: «Мне, говорил, и моей пайки хватит». А потом его придавило сосной и, когда у Варвары по дороге домой, прямо в вагоне, родилась дочка, все, что было в прошлом, так и осталось где-то позади, в тайге, как и сама тайга. Некому было уже допытываться, чья у Варвары дочь, да и не перед кем теперь ей было отчитываться, тем более что она и себе не смогла бы точно ответить. Она и сама не знала, то есть знала, уверила себя, что раз она тогда была еще мужняя жена, то, значит, и Ольга должна считаться Андриановой дочкой. Хоть перед богом, хоть по закону.
Если раньше иногда как-то вдруг и засвербит сердце, что-то заскребется в самом дальнем его кутке, как мышь в амбаре, то со временем все это заглохло, старый базокзарос, и все, что когда-то было, осталось в памяти, как сон, очень просто, что его вовсе и не было. Не всякому сну надо верить.
Так бы и оставалось, если бы не слова Павла. Варвара знала, кто ему мог надуть об этом в уши. Оказывается, если Андриан никогда не попрекнул ее там, в тайге, то своей сестре Анастасии он однажды намекнул в письме, что на базок к Варваре повадился один со шпалами.
После разговора с сыном Варвара невольно стала и сама больше присматриваться к дочери, подмечать за ней. Та беспокоилась под ее взглядом:
– Вы чего, маманя, на меня так смотрите?
– А так просто, – отвечала Варвара.
Действительно, как чужая. Придет из школы, кинет пионерский галстук на спинку кровати и вдруг так и зароется лицом в подушки. Навзрыд кричит. Варвара спрашивает:
– Что с тобой, Ольга? Может, двойку схватила али кто из мальчишек обидел?
Вдруг сразу крутнется она, сядет на кровати и в лицо матери:
– Никто там меня не обижает, не смейте так про нашу школу говорить! У нас в школе все хорошие – и ребята и учителя. Все, все!
– Так что же ты плачешь?
– Это вы, маманя, виноваты! А меня из-за вас по глазам бьют. Сегодня наша вожатая опять на сборе вспомнила, что вы торговлю вином открыли, а я с вами не веду работы. «У тебя, говорит, мать скоро весь район споит, а ты не стыдишься носить галстук». А какую я с вами должна вести работу, какую?!
Плечики у Ольги тряслись, две русые косички с белыми бантиками так по ним и прыгали. Варвара сурово говорила:
– Завидуют люди, вот и говорят. Мы не ворованное вино продаем, а свое собственное. Кому какое дело. Мы за сад налог платим, так ты этой вожатой и скажи. Завидует она, что у нас полная чаша, а она все в отцовских сапогах щеголяет. – И совсем уже строго Варвара прикрикивала на дочку: – Перестань реветь, утрись! Иди у коровы почисть. Чужие люди твою мать позорят, а ты и уши развесила. Если бы кто стал мою родную мать позорить, я бы знала, как ответить.
Иногда при этом хотелось Варваре схватить Ольгу за косы и хорошенько повозить головой по полу, чтобы она не смела даже повторять такие слова в лицо матери, но Ольга умела так взглянуть на нее своими серыми бешеными глазами, что рука сама отдергивалась от нее. С сыновьями Варвара не церемонилась, хотя и ближе с ними была, а Ольгу ни разу пальцем не тронула. Может, еще и потому, что девочка и самая младшая. К сорок первому году, к началу войны, ей только исполнилось десять лет.
Павел к тому времени семь лет уже как женился и три года как проводил жену от себя за то, что она не сумела ужиться с его матерью. Но дитя, мальчика, жене не отдал.
Жорка говорил, что еще успеет на себя хомут надеть. Он еще пожить хочет.
* * *
Когда началась война, взяли на фронт по приказу о всеобщей мобилизации и Павла с Жоркой. Гулял весь хутор на проводах у Табунщиковых, как гуляли поочередно в каждом дворе. Варвара вынесла из дома и поставила среди кустов винограда все столы и стулья, выкатила из погреба бочку вина и безотказно наливала каждому, кто к ней подходил. Вино было такое, что все ахнули: выдержанное, донской мускат. Такого если кто и надавливал со своих ладанных кустов, то по десять – двадцать литров, а тут – бочка. Варвара дополна наливала каждому в посуду, кто с чем подходил и говорила:
– Пейте на доброе здоровье, мне его теперь не для кого беречь.
Жорка накачалсяраньше всех, сел, обнял руками бочку и залился горючими слезами: «И на кого я тебя, моя разлюбезная, покидаю…»
Варвара и сама пила хорошо. В первый раз в хуторе видели, чтобы она, пьяная, плясала на столе, слышали, чтобы затянула вдруг неожиданно высоким звенящим голосом: «Ты, мороз, мороз, не морозь меня», а когда поехали за Дон на лодках, бросилась в воду прямо в платье и дурным голосом кричала хуторскому фельдшеру, чтобы он ее спасал, а то она утопнет. И фельдшер охотно спасал ее, подныривая под нее, а после она, вся мокрая, ушла с ним за Доном в молодые вербочки, и он там легко получил от нее все, чего он безуспешно добивался от нее, когда ей было еще не пятьдесят лет, а сорок. Но и в пятьдесят лет она еще оставалась нерастраченной, как тугое белое тесто.
Как будто подменили Варвару. Она разгулялась до того, что, когда опять приехали на лодках из-за Дона, хотела выкатить из подвала еще одну бочку, но тут ей заступил на земляных ступеньках дорогу Павел, который из всех оставался самым трезвым.
– С чего это вы, маманя, стали такой доброй? – спросил он с насмешливой укоризной.
В полумраке погреба она припала к нему, забилась головой на плече:
– Так не для них же, иродов, я вас без отца вырастила… Павел с досадой перебил ее, отрывая ее руки от себя:
– Не спешите, маманя, голосить. А вино тут без нас получше прихороните. Еще пригодится, может быть…
И опять как сразу подменили Варвару, когда она вышла из подвала за своим старшим сыном и объявила уже не размягченным жалостливо-растерянным, а прежним жестковато-насмешливым голосом:
– А вино уже все попили, дорогие гостечки. Нету больше ни капли.
И фельдшеру, который опять было потянул ее за рукав, увлекая в темный угол сада, она вдруг так зазвездила локтем между глаз, что он, затанцевав на месте, как круженый баран, сразу вспомнил, как он когда-то уже считал ступеньки ее дома.
Рано утром Варвара, как и все другие хуторские женщины, проводила своих сыновей до станичной пристани и так же, как все, долго шла потом берегом Дона за пароходом, надломленно махая рукой, пока он не скрылся из виду, как белый лебедь в облаке черного дыма. Но писем-треугольников с фронта Варвара с тех пор так и не получила ни одного. Другие дворы хуторская почтальонша Ульяша, хоть и не часто, не забывала посещать, а в Табунщиковом дворе так ни разу и не побывала. И, встречаясь с Варварой где-нибудь на улице или проходя с сумкой мимо ее двора, круглощекая Ульяша уже сама виновато спешила предупредить ее вопрос:
– Нету, тетка Варвара, пока нету. Но вы трошечки потерпите, они беспременно напишут.
Хуторские женщины жалели Варвару и, не сговариваясь, старались, чтобы ушей ее не коснулся тот слух, что эшелон, в котором ехали мобилизованные хуторские на фронт, попал ночью за Ростовом, на станции Матвеев Курган, под немецкую бомбежку и потом командиры так и не досчитались своих солдат. Кто успел, тот выпрыгнул из вагона, а кто не успел, того потом и не стали искать в кучах горелого железа и черной золы.
Ни писем-треугольников не заносила Ульяна к Варваре, ни тех казенных конвертов, после которых над двором тут же взметывался к небу женский вопль, сопровождаемый печальным хором новых сирот. Несколько раз Варвара сама ходила в станицу в райвоенкомат, там на ее вопросы отвечали уклончиво: «Запросим» и «Подождите». При этом глаза у вежливых командиров из райвоенкомата становились точь-в-точь такими же виноватыми, как у хуторской почтальонши Ульяши.
И Варвара стала ждать. Женщины удивлялись, как она умеет нести свой крест.Уж лучше бы до́ разу получить с фронта этот черный конверт, удариться замертво о землю, изойти в плаче. Ни разу никто не увидел на лице ее ни слезинки, как будто каменная была. Ульяша по-прежнему почти бегом проходила мимо ее двора и уже не кричала нарочито веселым голосом: «Подождите, тетка Варвара, еще напишут!»– только молча опускала глаза и, сделав слабый приветственный жест, спешила дальше со своей сумкой. С каждым днем все больше обвисала на ее плече сумка. Все больше среди солдатских писем-треугольников оказывалось в ней жестких конвертов с печатями, и все чаще столбом взметывался над хутором леденящий сердце крик, сопровождаемый звенящим сиротским хором.
Лишь одной Варваре неведомы были ни эта скорбь, которая выпадает из казенного конверта с осенним сухим шорохом, ни эта радость, которая приходит в дом вместе с письмом-треугольником от солдата, уведомляющего свое семейство с первых же слов, что он покуда живой-здоровый. Тем острее жалели Варвару женщины, потому что все-таки самое страшное – неизвестность.
И так продолжалось год, вплоть до того самого июльского дня, когда в хутор заявились немцы, и все вдруг разъяснилось. На другой день появились в хуторе, целые и невредимые, оба сына Варвары Табунщиковой – Павел с Жоркой.
И тогда люди вспомнили. Вспомнили о том, как вскоре после ухода хуторских на фронт, после того как прошел слух, что на станции Матвеев Курган разбомбило эшелон, приезжала к Варваре из станицы Нижне-Кундрюченской ее двоюродная сестра, которую Варвара прежде не хотела и признавать за родню. Вспомнили и о том, что вслед за этим и сама Варвара зачастила в гости в Нижне-Кундрюченекую и каждый раз увозила туда сестре по два и по три мешка гостинцев – это при своей-то всем известной скупости. После этого сами собой вспомнились и разговоры, что в кундрюченских лесах скрываются дезертиры и что туда бросили на облаву районный истребительный отряд. Видели, как истребители везли оттуда па подводе под конвоем в район связанного по рукам и ногам дезертира, всего в шерсти́. Об этом в хуторе припомнили, когда увидели, что братья Табунщиковы явились домой с длинными черными бородами. Соседка, с которой они поздоровались через забор, не узнала их, и Павел весело, белозубо засмеялся.
После этого никому уже не пришло в голову удивляться и то что сыновья Варвары дней через пять, оба чисто выбритые, сходи в станицу в немецкую комендатуру и вернулись оттуда в хутор с красными нарукавными повязками, на которых черной краской был нарисован круг с краткой надписью посредине: «Милиц».
* * *
На дворе лютовал февраль. Варвара Табунщикова стояла у себя дома у жарко горевшей печки, жарила блины. Она наливала из большой деревянной ложки жидкое тесто на сковороду и думала о том, что люди сами бывают виноваты в своих несчастьях. Если бы и она вырастила из своих Павла и Жорки таких же сыновей, как другие, то скорее всего и они сейчас уже лежали бы оба где-нибудь под Москвой или под Ростовом в больших общих ямах, которые называют братскими могилами, и она не жарила бы им теперь блинцы. Запах от них расстилался по всему дому и вытягивался во двор. Пусть и слишком гордые соседи понюхают, если им охота, за это она денег с них не возьмет…
И так же, как весь хутор, она теперь уже подмела бы веником последнюю мучную пыль в закроме, а не справляла бы масленицу, как, бывало, справляли ее в старое время. В последний раз Павел привез на немецкой машине с мелиховской мельницы десять мешков пшеничной муки и побросал их через плетень – нате, маманя, не обижайтесь. А Жорка переносил их на себе в низы. Жорка, он еще поздоровее Павла, хотя, если по совести сказать, и поглупее. Павел уже успел заслужить себе в полиции какой-то чин, вроде поближе к начальству, а Жорка все еще самый низший. Ленивый. Одной грудью кормила их, а разные. Вот и сейчас отсыпается в зале, храпит, в то время как Павел с утра как уехал, так его и нет. Беспокойный, как, бывалоча, председатель колхоза Калюжный, который ни себе покоя не давал, ни людям. С трех часов утра всегда на ногах и сует нос в каждую дырку. Теперь он далеко, где-то за Волгой, а скорее всего сгнил где-нибудь сбоку дороги. Царство ему небесное, хотя он и драл горло самый первый: «Табунщиковых, Табунщиковых!»– когда в хуторе начали кулачить умных людей, которые умеют жить и наживать добро при любой власти.
Вполне можно жить и при этой. Всякая власть от бога, за исключением, понятно, Советской, которая все же послушала хуторских горлодеров, отобрала у Табунщиковых нажитую своим горбом молотилку, шесть пар быков и четыре пары лошадей, а самого хозяина загнала на вечное поселение в тайгу, где он и умер.
Умерла бы там и Варвара, если бы один человек из начальников гепеуне помог ей тогда найти обратную дорогу с детьми в свой хутор. Этот начальник был парень ничего, и Варвара тогда была еще совсем не старуха.
От всего этого теперь остались только смутные воспоминания, которые играют слабой улыбкой у Варвары на губах и на щеках, румянеющих от соседства с жаркой печкой. Скоро и этих воспоминаний не останется, все порастет бурьяном. Как бы там ни было, а если и были за нею в прошлом какие грехи, то опять же не ради самого греха, а ради детей. Детей, всех троих, она вырастила, и все сейчас при ней. А другие, шибко грамотные, матери по хутору или перечитывают похоронные, или же ждут не дождутся хоть какой-нибудь весточки, отрезанные от сыновей фронтом. Может, и навсегда.
Павел с Жоркой уже на своих ногах, и из Ольги уже выкохалась такая телка, что приходится ее одевать, как последнюю нищенку, и прятать от немецких солдат. Они не посчитаются ни с тем, что она еще малолетка, ни с тем, что оба брата у нее служат в полиции.
Блинцы получаются желтые, ноздреватые. Так и шлепаются со сковороды на тарелку. И дух от них хороший. Пусть соседи понюхают, пусть. Вот только Шурка, семилетний внучонок Варвары, сын Павла, крутится рядом и так и слизывает их с тарелки. Чуть только бабка зазевается – и он уже хвать. Свернет блинец в трубочку и заглатывает весь сразу. Как утка рыбу. И не подавится. Варвара, подсторожив Шурку, шлепает его по руке разливной ложкой.
– И когда ты нажрешься!
– Ай-яй-яй! – трясет осушенной рукой Шурка и заходит с другого бока.
Ничего, пусть ест досыта. Варвара воюет с ним больше для порядка. Она знает, что украденный кусок всегда самый вкусный. Все равно растет на тарелке горка блинцов, будет ей чем накормить сыновей. Как раз поспела и свежая сметана. Хорошую корову Павел пригнал из племсовхоза. Симменталку.
За последнее время прибавилось у него дела. Часто и не ночует дома. Ездит по другим хуторам и станицам верхом или на санках. Все никак не могут найти, кто убил помощника коменданта в станице.
Ничего, пусть справляет свою работу, а когда приедет вечером домой, мать накормит его блинцами… И снова любимый внучек зарабатывает от бабки по руке большой деревянной ложкой.
– Ой, бабуня, больно! – трясет он рукой, а другой успевает схватить блинец и глотает его прямо горячий.
Бабка качает головой и смеется.
А Жорка храпит так, будто у него в носу спрятано радио. Налакался шнапсу и спит. Теперь ему до утра хватит. На это да еще на баб он не ленив. Правда, никому от этого убытка нет, теперь весь хутор из одних солдаток и вдов, а Жорка – парень не из последних. Любая должна за честь посчитать. Если не брать Павла, можно сказать, самый красивый на хуторе мужчина и не какой-нибудь грубиян, а с подходом. Не насильничает, а совсем наоборот, дает освобождение от тяжелой работы тем, кто понимает этот подход. По взаимности. А нет – никто тебя не приневоливает, хочешь – иди на каменный карьер, хочешь – поезжай в Германию. Каждый находит себе то, что ищет. В свое время приходилось также и Варваре платить за хорошее отношение, не такая уж это дорогая плата. На губах у нее опять начинает играть улыбка воспоминаний.
За окном в соседнем дворе маячит голова соседки, а через плетень свесились две головы в теплых платках – ее дочки. Нюхают. Варвара и сама любит этот запах. Любит еще с тех пор, когда, бывало, на масленицу отъезжали от их двора двое-трое саней и с погремками мчались наперегонки по зимнему Дону. И сама кататься любила на масленицу с отцом и, оставаясь дома, любила прислушиваться к знакомому – ни с каким другим не спутаешь – звону своих, Табунщиковых, погремков.
Жить можно и теперь. Это только к Советской власти нельзя было приспособиться, ни с какого бока. Ну, а для тех, кто дюже гордый, закон не писан. Пускай их дети и заглядывают через забор на чужие блины.
Уже и на другой тарелке выросла целая горка. Уже и Шурка наелся и просто от жадности тянет ручонку. Скоро приедет Павел, разбудят Жорку, и она накормит сыновей. Есть у нее для них и кое-что поставить на стол к блинцам.
С детства она любит этот запах. И вообще любит, чтобы в доме было духовито, тепло и чтобы стояли чувалы с мукой, а в погребе – кувшины с молоком и со сливками. Умному и война не мачеха.
Ну, а насчет этого гула, который появился недавно за Доном, Павел сказал, чтобы она зря не тревожилась. Это дело временное, германская армия – сила. Вон сколько ихней техники прошло через хутор и по верхней дороге в степи к Волге. А у русскихвсе на веревочках.
Павел говорит, что это немцы выравнивают фронт. Ему лучше известно. Пусть скорее приезжает домой, пока еще не остыли материнские блины. Так и шлепаются со сковороды на тарелку. Шлеп, шлеп…
Занятая своими мыслями и сковородой, она не услышала, как у нее за спиной открылась дверь, и обернулась только тогда, когда внучонок Шурка уже в третий раз произнес с тревожной настойчивостью, дергая ее за юбку:
– Бабуня! Ну, бабуня же!
И только после этого, оборачиваясь, она заметила на пороге человека и, поджимая губы, тут же собралась обойтись с ним точно так же, как уже привыкла в подобных случаях обходиться с незваными гостями. Из-за того, что ее дом самый крайний, она не намерена накрывать на стол и стелить постель всякому, кто только ни проходит в это смутное время через хутор. Мало ли их теперь бродит по земле, всяких странников – и тех, кто пробирается от хутора к хутору в поисках потерянных родственников, и вот таких, как этот, с давно не бритым лицом и голодными глазами – не иначе, из плена. У всех, кто из плена, вот такие же замызганные стеганки или шинели. А щетиной, как желтой колючкой, оброс. Так и шьет глазюками из-под капелюхи: чем бы поживиться.
Как же, для него пекли, жарили! И, заслоняя от этих голодных, рыскающих глаз блины, она властно шевельнула большими бровями, чтобы тут же спросить его подобру-поздорову, пока еще не проснулся ее сын, а то как бы не пришлось подробно отвечать в станице коменданту Герцу, откуда эта захлюстанная шинель.
Не расходуя лишних слов, она внушительно показала глазами пришельцу на открытую дверь зала, где спал Жорка, свесив с кровати руку с красной повязкой «Милиц», и вдруг окаменела. Вскользь окидывая взглядом пришельца, вдруг поняла, почему это внучонок Шурка, продолжая дергать ее за карман юбки, все еще гнусаво тянет встревоженным голосом:
– Бабуня! Ну, бабуня же!
Теперь и она увидела то, на что ее умный внук давно уже тщетно старался обратить ее внимание. Грязная, замызганная шинель на незваном госте сбоку, с правой стороны, вздулась бугром и из-под ее борта выглядывал ствол автомата. Русского.
Разливная ложка, задрожав, накренилась у нее в руке, проливая заболтку мимо сковороды прямо на горячую плиту, и комната наполнилась синим смрадом.
Ноги как приросли к полу. Выставив из-под шинели автомат, русский солдат от двери прошел прямо в зал, где ни о чем не подозревая, непробудно спал пьяный Жорка, свесив с кровати одну руку и одну ногу в сером шерстяном носке Он и всегда был здоров поспать, а теперь после бутылки шнапса, которая тут же стояла у его изголовья на полу, его можно было разбудить только из пушки. Рассыпая по дому храп, ни того не видел он и не слышал, как русский разведчик хладнокровно снял со спинки кровати и отставил в угол его немецкий автомат с черной ручкой, а со стула взял и повесил себе на пояс две гранаты, ни того не видел и не слышал, как русский обшарил потом его карманы и, сунув руку ему под голову, под подушку, достал оттуда маленький пистолет. Варвара помнила, как Жорка, подбрасывая этот пистолет у себя па ладони, любовно называл его вальтером и говорил, что это подарок самого Герца.
И только после того как русский, вынув из-под своей шинели черный моток сплетенной из конского волоса веревки, проворно привязал к кровати его ноги, а потом стал привязывать его грудь и руки Жорка заворочался и открыл хмельные глаза. Мгновенно они стали трезвыми. Закричав, он рванулся на кровати, но было поздно. Тяжелое колено наступило ему на грудь, а вопль его в самом начале задавил аккуратный белый узелочек – кляп, забитый ему в рот так умело, что из Жоркиных глаз двумя ручьями хлынули на подушку слезы.
Услышав его вопль, Варвара рванулась к нему, но в эту минуту у нее за спиной снова открылась дверь, и в облаке пара в дом ввалились еще гости. Еще трое русских без стука, один за другим, вошли со двора, заполнив комнату запахом морозного воздуха, ружейного масла и свежевыдубленной овчины. Двое из них, как и первый солдат, были в шинелях, а третий, самый рослый и, судя по его обличью, командир, – в новеньком желтом полушубке.
Теперь уже Варвара окончательно поняла, что в хутор вошла русская разведка. А Павел еще только сегодня утром смеялся над ее страхами, говоря, что это немцы выравнивают фронт. Выровняли.
* * *
– А мы, братушка, как услыхали крик, решили, что тебе тут плохо, – проходя в зал, сказал тот, кто был в полушубке. Останавливаясь у кровати, на которой лежал Жорка, он презрительно покачал валенком горлышко стоявшей на полу пустой бутылки. – Налакался шнапса, а нам теперь с тобой морока.
Жорка снизу вверх смотрел на сгрудившихся у его кровати разведчиков полными ужаса глазами. По щекам и по вискам его текли слезы. На белой подушке вокруг головы расплывалось мокрое пятно. Варвара слышала, как, вцепившись ей в юбку, трясется внучонок Шурка.
– Пьяное дерьмо, – сказал один из разведчиков, черный, как жук, с двумя кисточками усов. – Теперь, покуда не протрезвеет, от него путного слова не выжмешь.
Командир разведки уверенно усмехнулся:
– Он и сейчас уже почти трезвый. У нас еще есть время, и, пока из него будут последние пары шпанса выходить, мы тут кое-чем другим займемся. – Он повернулся к Варваре. – Я вижу, хозяйка, у тебя тут блины, а мы уже давно масленицу не справляли. Ты, конечно, их не для нас жарила, а для них, для своих сыночков. Для них?
Впервые с момента появления этих страшных гостей в ее доме Варвара разомкнула деревянные губы:
– Для них.
Разведчик с усиками мрачно заметил:
– Жалко, что и второго тут не оказалось. Он бы нам не помешал.
Все так же улыбаясь, командир в полушубке успокоил его:
– Далеко не уйдет, он где-то здесь, близко. Правда, мамаша?
Варвара мучительно соображала, как ей теперь держаться. В зале лежал на кровати спеленатый веревками и полузадушенный кляпом Жорка, ее несчастный сын, и смотрел на нее сквозь раскрытую дверь умоляющими глазами, из которых катились слезы, и она должна все сделать так, чтобы не повредить ему ни единым словом. Во всяком случае, самое лучшее теперь для нее – продолжать заниматься тем самым делом, за которым застали ее эти незваные гости, а там видно будет. Может, что-нибудь и сумеет она придумать для Жорки, у которого сейчас здесь не было ни одной близкой души, не считая Шурки. Какая от него может быть помощь?
И, сделав вид, что не расслышала вопроса командира советской разведки, Варвара зачерпнула ложкой из макитры заболтку и плеснула на сковородку. На сковороде зашипело, запах сливочного масла и поджаренного сдобного теста защекотал ноздри разведчиков. Командир зашевелил мясистым носом.
– Вот это дело! – Сдергивая с головы и бросая на подоконник треух, он первый подвинул себе табурет к столу и, как будто был хозяином в доме, широко повел рукой, приглашая других разведчиков: – Братушка Алеша, и ты, Владимир, и ты, Семен, айда на полицайские блины! Хоть и не про нашу честь, да было бы что съесть. Мы люди не гордые, справим в этом поганом доме масленицу.
Разведчики не заставили себя приглашать, и вот уже они вчетвером сидели вокруг выдвинутого на середину комнаты стола, посреди которого возвышалась гора блинов на большой тарелке.
– А ты, хозяйка, – сказал командир, – теперь только успевай за нами жарить. Переходи на двухсменную работу. Жарь и между прочим рассказывай, как это ты умудрилась сразу двух таких сыновей у своей груди отогреть.
Не оборачиваясь и не разгибаясь от плиты, Варвара глухо ответила:
– Они теперь привыкли у матерей ума не спрашивать.
– Так, значит, ты у них должна была спросить. – Взгляд командира разведки упал на Шурку, выглядывающего из-за бабкиной юбки. – А для тебя, малец, у меня, кажется, что-то есть. – И сунув руку в карман полушубка, он достал полплитки толстого пайкового шоколада. – Бери! Да ты не бойся, я только снаружи страшный. Как тебя зовут?
Не отвечая и не двигаясь с места, Шурка еще крепче вцепился в бабку, зарылся в складках ее юбки. Варвара подтолкнула его в спину:
– Возьми, Шурка, возьми.
Командир перевел помрачневший взгляд на горницу, где лежал прикрученный к кровати Жорка.
– Его?
– Другого, – кратко ответила Варвара.
– Все равно не завидую я тебе, Шурка, что у тебя оказался та кой поганый папка… А ты что же, я вижу, братушка, как в гостях?
Тот, кого он называл братушкой, первый разведчик, взгляды на а на окно, заметил:
– Надо бы одному из нас пойти во дворе постоять.
– Ешь. Они теперь пятки до самых Шахт смазали. Им теперь оглядываться некогда. Не до нас.
И после этого в комнате надолго воцарилось молчание, нарушаемое мое лишь побалтыванием блинов в чашке со сметаной. Едоки они были отборные. Жорка лежал в зале на кровати и смотрел на все это своими синими, совсем уже трезвыми глазами.
– Хозяйка, ты что там шепчешь своему внуку? – подозрительно осведомился у Варвары командир разведки.
– Я ему сказала, чтобы он еще принес из погреба кувшин со сметаной. Саня, – приказала она внуку, – сходи за сметаной, а потом пойдешь поиграешь с ребятами на улице.
Через минуту внук принес из погреба кувшин со сметаной, и Варвара, щедро наливая ее в чашку, ласково сказала ему:
– Ну, беги, беги, я же тебе разрешила! – И она легонько подтолкнула его к двери кулаком в спину.
Ее сын Жорка лежал, привязанный к койке веревками, с кляпом во рту, и смотрел, как русские разведчики, сидя вчетвером за столом, макали блинцы в чашку со сметаной.
– А сметана, хозяйка, у тебя, как довоенная, – похвалил командир разведки, окуная в чашку свернутый трубочкой блин и запрокидывая толстогубое лицо, чтобы ни одна капля сметаны не упала с блина мимо. – Небось корову немцы оставили, как матери полицаев?
Не отвечая, она продолжала жарить для них блины, склонясь над плитой. Шлеп, шлеп – падали блинцы на тарелки. И тот же сладкий запах щекотал ноздри, но уже испорченный запахом смрада. Не разгибая от печки спины, она жарила блины и все же не успевала восполнять их убыль на тарелке.
Тогда из-под кухонного стола она достала вторую сковородку и стала разливать тесто сразу на обе.








