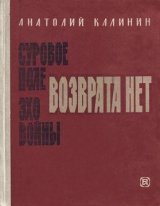
Текст книги "Возврата нет"
Автор книги: Анатолий Калинин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
И, несмотря на строжайшие запреты, увещевания и угрозы матерей, ребятишки вышмыгивали у них под ногами из погребов и ям и бежали как раз туда, где громче всего гремело и визжало, где земля, снег и вода поднимались на дыбы, полыхал огонь, пожирая чакан крыш, саман стен, скирды соломы и деревья в садах и расплавляя снег, подобно весеннему солнцу.
Не мог, понятно, отстать от своих хуторских товарищей и Шурка Табунщиков. Он-то и принес Варваре в погреб известие о том, что его отец Павел с дядькой Жоркой – ее сыновья – находятся сейчас в племсовхозе.
Когда Шурка появился в дверях погреба, бабка хотела схватить его за ухо, но сообразительный внучонок предупредил ее движение жарким шепотом:
– Бабуня, папаня с дядей Жорой велели переказать вам, что они покуда живые и здоровые. Там они сейчас вдвоем за одним пулеметом. Только нашииз станицы на шлях– и они стреляют…
В этом месте Варвара перебила внука:
– Какие, Шура, наши?
Для внучонка Шурки нашими были те, кого так называли все его товарищи, и он не понял, почему переспрашивает его бабка.
– Ну, русские. А харчи у папани с дядей Жорой уже все вышли. Немцы всех полицаев бросают в совхозе, а сами подаются на Шахты.
И, услышав эти слова, Варвара сразу же собралась в дорогу. Конечно, легче было поручить отнести сыновьям харчи тому же Шурке, которого никто не станет задерживать, но тут же она подумала, что столько харчей, сколько необходимо передать для двух таких едоков, какими были ее сыновья, маленькому Шурке ни за что не унести. Да и она хоть еще один раз взглянет на них, своих родных. Кто знает, может быть в последний раз. А бояться ей нечего. Если что, она свое отжила.
И, наложив полную корзину харчей, она тронулась из хутора в путь в тот самый час, когда советские части, наступающие со стороны Задонья, завязали бой за хутор Вербный.
* * *
Теперь из слов встреченной ею женщины она окончательно убедилась, что Павел с Жоркой еще не отступили дальше совхоза. Оказывается, не так-то просто было и прогнать их оттуда. Кто его знает, может, оно и сбудутся слова Павла, что все это отступление – дело временное, немцы еще выровняют фронт и посунутся обратно. Может, как раз от племсовхоза и погонят они русских назад.
В степи, справа и слева от Исаевской балки, бушевал бой, а в самой балке в этот зимний полдень было сравнительно тихо. Должно быть, еще и потому, что промытая весенними потоками балка была глубокой и все звуки проходили над нею поверху. Из-под ног Варвары, из-под венчиков пригнувшегося к земле прошлогоднего бурьяна то и дело шарахались зайцы – тоже отсиживались от войны.
В теплое время из Вербного по этой балке ездили кратчайшим путем в племсовхоз и на Исаевские хутора. Весной хорошо наезженная дорога весело бежала среди обкиданных бледно-алыми розочками кустов шиповника, а ближе к осени – среди них же, но уже осыпанных красными огоньками ягод. Теперь же здесь едва был проложен по снегу санный след. Немцы обычно такими глухими дорогами в степи не пользовались, и этот след из Вербного здесь могли проложить только Павел с Жоркой. Больше ни у кого в хуторе не было лошадей.
Павел, уезжая на Исаевские хутора, обычно говорил, что едет туда ловить партизан, а Жорка всегда молчком седлал своего, бывшего сельсоветского, жеребца и ехал. Но Варвара-то хорошо знала, что ездит он туда к своей, еще довоенной, полюбовнице Косаркиной Лидке. Как бы он ни отгребался от нее к другим бережкам, а все-таки к ней же и причаливал, несмотря на то, что и бабенка была последняя, из никудышных. Кривая и такая хожалая, что Жорка сам же иногда под пьяную лавочку плевался:
– Из стервей стерва! Пробы негде ставить.
Но стоило только матери поддержать этот разговор, как он тут же повышал голос:
– Маманя, не вашего это ума дело.
…Она перекинула корзинку в другую руку и пошла быстрее. Балка взбегала на увал, за которым начинался спуск к племсовхозу. Но однажды ей все же пришлось задержаться и сойти с дороги в сторону. Снизу по балке до нее донеслись голоса и далеко раздающийся по степи хруст морозного снега. Она сошла с дороги и на всякий случай по-заячьи прилегла под стенкой старого бурьяна, придавленного и пригнутого в одну сторону к земле снегом. Там было тепло и сумрачно, пахло живой землей, защищенной от стужи. Кое-где даже зеленела трава.
Вскоре она услышала, как мимо нее, тяжко дыша и вполголоса на ходу перебрасываясь словами, кучкой прошли русские. Не прошли, а пробежали. Куда-то они спешили.
Она лежала в бурьянах, не поднимая головы, и слышала, как они звякали подковками сапог по обледенелым кочкам, переговариваясь между собой.
– Эх, сейчас бы тут с ружьем и с собакой! Гляди, сколько заячьих следов!
– Тут и лисы должны быть.
Она плотнее прильнула грудью к земле. Один как будто слегка охрипший или чем-то опечаленный голос внезапно показался ей знакомым.
– И ее сыночки не могли далеко уйти, и она сама где-то возле них крутится. Только бы не ушли! – И она содрогнулась, услышав, с какой мрачной тоской произнес эти слова знакомый ей голос. Тут же он изменился на безоговорочно властный – А теперь все замри! Здесь у них и засада может быть. Уже совсем близко.
После того как они прошли и скрылись за поворотом балки, загибающей вправо, к племсовхозу, еще некоторое время в воздухе оставался легкий табачный запах, смешанный с запахом мужского пота и овчины, и развеялся, спугнутый ветром. Теперь можно было и ей подниматься. Боясь поднять из-под бурьяна голову, она так никого и не увидела из только что опахнувших ее своей горячей близостью русских, не увидела и того, кто произнес последние слова, но она его узнала. Она узнала его по голосу. И когда она поднималась из бурьяна с земли, впервые за свою жизнь она показалась себе совсем старой. Ей трудно было разогнуться и встать с колен, а кошелку с харчами для своих сыновей она едва оторвала от земли. А всего-то и лежало в ней четыре хлебины, полсотни вареных яиц и кило три сала. Еще осенью она свободно носила сама на плече из лодки домой мешки с картошкой, привезенной с задонского огорода.
Значит, это разведчики, которые так быстро прошли мимо нее и спешили так по балке к племсовхозу, чтобы успеть захватить там Павла и Жорку. Значит, кто-то в хуторе видел и то, как она указала через плечо рукой на сарай, где прятался разведчик, братушка этого командира с осипшим голосом. А тогда, когда он глотал блины, голос у него был не сиплый. Видно, спешит, чтобы успеть настигнуть ее сыновей, взахлеб глотает раскрытым ртом морозный воздух, вот и охрип, как кобель. Все ж таки не догнала его тогда в садах пуля Павла. И вот теперь надеется он догнать ее сыновей и свести с ними счеты за теперь уже мертвого братушку.
А заодно этот командир хочет свести счеты и с ней, потому что кто-то из хуторских уже поспешил донести ему, что это она показала на его братушку. Надеются, значит, что немцы уже никогда не вернутся в хутор. А что, как вернутся?..
Что бы там ни было впереди, а поворачивать теперь с полдороги назад она не станет. Чем бы это ей ни угрожало. С нее довольно, она, можно сказать, и сама уже нажилась и насмотрелась на людей, а на них, на своих сыночков, она обязательно должна взглянуть еще хоть раз, может быть и в самый последний раз. Вон как прошагал мимо нее по балке русский командир, спешит поскорее настигнуть их, отомстить, крадется по балке, чтобы зайти к ним в спину, как большой, хитрый зверь. Да, видно, вгорячах промахнулся из своего карабина Павел.
И не возвращаться же ей домой, обратно с полной корзиной, с тремя лоскутами сала, с хлебом и полсотней вареных яиц. Двадцать пять штук для Павла вкрутую и двадцать пять для Жорки всмятку. Павел с детства уважает крутые яйца, а Жорка – больше всмятку, и она поровну наварила им тех и других. Это еще с прошлого года яйца сохранялись у нее в ящике с солью.
Балка, поворачивая вправо к племсовхозу, все более круто забирала вверх, а тяжелая корзинка с харчами для сыновей тянула назад, но Варвара еще быстрее, чем до этого, пошла вперед, часто соскальзывая по обледенелому склону вниз и хватаясь руками за бурьян. Она обязательно должна была не опоздать и все-все увидеть своими глазами.
Громче надвигался от племсовхоза бой. Над головой все чаще куропатками перепархивали осколки. Русские пушки обстреливали племсовхоз из-за Дона. Один снаряд разорвался позади Варвары в балке, ее толкнуло воздухом в спину. Теперь уже она ползла в бурьянах на коленях. Корзинка мешала ей, но было уже совсем близко. Волоча за собой корзинку, она доползла до верха и прилегла в бурьяне, выглядывая из-за склона Исаевской балки, которая пошла дальше, к племсовхозу.
Все она видела своими глазами. То стояла на четвереньках в бурьянах, а то и не заметила, как привстала на колени, позабыв, что ей надо остерегаться. О себе она совсем забыла. Сильный ветер срывал у нее с головы полушалок, темный конец его с махрами развевался за спиной. Из того, что открылось ее взору, она ничего не могла и не должна пропустить, потому что это, может, в последний раз она смотрела на них, на живых.
И она ничего не пропустила. Командир в полушубке, брат застреленного Павлом разведчика, подкрадывался со своими солдатами к племсовхозу по Исаевской балке снизу, а Павел с Жоркой лежали спиной к ним у пулемета за гребнем увала, наблюдая за большой дорогой – грейдером из станицы на город Шахты. Как только наступающие от станицы и от Вербного сибиряки, вставая на грейдере и по обочинам от него, начинали кричать «ура» и бежать к племсовхозу, Павел открывал из пулемета огонь. Пули, перерезая грейдер наискось, взбивали над ним облачка снежной пыли, и сибиряки опять ложились среди сугробов. И среди желтых полушубков на снегу все больше становилось красных. Как будто среди желтых тюльпанов распускались на снегу красные.
Варвара хорошо видела, что за пулеметом все время управляется один Павел, а Жорка только помогает ему: подает какие-то коробки. Впереди пулемета, за которым лежали Павел с Жоркой, от русских пуль тоже ослепительно вспыхивала снежная пыль, но каждый раз ее сыновья успевали схорониться за гребнем увала. Со своего места им все хорошо было видно – и дорогу, и всю степь, и даже Задонье – и очень удобно было стрелять, а русские их достать не могли. Такое ее сыновья выбрали себе место. Это, конечно, все Павел, он тут каждую сурчиную норку знает в степи. Недаром комендант Герц никогда не мог обойтись без него, когда нужно было искать по окрестным лесочкам и хуторам партизан.
Теперь Герца в станице и духу не слыхать, и, пожалуй, он уже больше не вернется, хоть Павел и говорит, что немцы только выровняют фронт, а потом вернутся обратно. Что-то не похоже. Если бы они надеялись вернуться, то не бежали бы, как суслики весной от полой воды, не бросали бы свои машины и танки. Вон их сколько понапихано по всем балкам и логам в степи, куда ни глянь! Какие горелые, а больше целехонькие, как игрушки. Когда уйдет фронт, надо будет съездить туда с тачкой, поискать там немецких шинелей и всякого другого добра. Сукно у них на шинелях хорошее, можно и зимнюю юбку сшить, и жакет, и даже пальто. Если побольше поджиться, лучше всего их попороть, перекрасить и потом потихонечку сбывать в городе на толкучке.Теперь людям еще долго ходить будет не в чем.
А если получше в этих балочках поискать, то можно и не одну пару хороших немецких сапог раздобыть.
Из племсовхоза они, видать, тоже спешат поскорее убраться. По-за воловниками уже почти совсем не осталось машин, последние одна за другой вырываются на грейдер и как угорелые бегут в степь на Керчик. Вот сибиряки и намеряются обойти племсовхоз, чтобы отрезать его от Шахт, а Павлов пулемет мешает. Только поднимутся, загорланят свое «ура», сунутся на грейдер – и тут же носом в землю. И опять прибавляется на снегу красных пятен. Цветут, как тюльпаны в майской степи.
Всего один пулемет, а у немцев на него надежда. И получается, что, если бы не Павел с Жоркой, им бы ни за что не вырваться из совхоза.
А как же они решили быть потом с ее сыновьями – бросить их в совхозе? Только бы, значит, свою шкуру спасти… Вот что значит фашисты! А на что же тогда надеются ее сыновья, например Павел? Он старший. На Жоркино соображение надеяться нельзя, у него и раньше на уме всегда были только водка и бабы. И не должен же Павел, спасая немцев, допустить, чтобы его самого, с его умом и ухваткой, теперь так по-глупому обманули.
На что-то, значит, надеется, если продолжает строчить из пулемета без оглядки. На что же? Варвара еще немного проползла, оставляя за собой, как волчица, извилистый след в бурьянах и, присматриваясь получше, увидела неподалеку от Павла и Жорки двух верховых лошадей, спрятанных за Исаевской балкой в кустах терна. Терны были застарелые и такие густые, что даже по зимнему времени с одного взгляда нельзя было разглядеть лошадей сквозь их синие ветки. Но все же она разглядела. Это были не те лошади, на которых Павел ездил по степи искать партизан и Жорка ездил к своей полюбовнице на Исаевские хутора, а два хороших гнедых коня, не иначе, взятых из табуна в племсовхозе. В племсовхозе всегда был хороший донской табун, до войны за лошадей в Москве на выставках получали золотые медали.
И еще Варвара разглядела, что оба коня были подседланы, при них были торбы и переметные сумы. На таких лошадях можно далеко ускакать, и не так-то просто их догнать, если, конечно, догонять их не на машине. Но Павел не глупой, чтобы уходить по степи от погони битыми дорогами. А по глухим дорогам, по высохшим руслам степных балок никакая машина за ними гоняться не станет.
Теперь она поняла и то, почему это Жорка, подползая к Павлу сзади, все время дергает его за край полушубка и указывает рукой на терны. Торопит уезжать, боится, что не успеют. А Павел, не оборачиваясь, отмахивается от него и опять прикипает к пулемету, строчит. Смелый, как отец. Тот в сельсовете сказал, что пусть его лучше на Соловки сошлют, чем он свою молотилку, быков и лошадей голодранцам в колхоз отдаст.
Но теперь эта смелость совсем ни к чему. Вон и последняя машина с немецкими солдатами вырвалась из-за воловника и помчалась в степь, к Шахтам. На усадьбе племсовхоза стало совсем пусто. И сибиряки все-таки уже перерезали грейдер, перебегая под пулеметным огнем, подбираются к самому совхозу.
И дались Павлу эти строчки, после которых остается на снегу красная прошва. Варвара увидела, что, не ожидая больше брата, Жорка скатился по заснеженному склону на дно балки и первый побежал к тернам, где стояли их кони. Тогда и Павел оглянулся, простучал последнюю строчку и, бросив на гребне увала пулемет, заскользил вниз по склону.
Она и не заметила, что поднялась из бурьяна во весь рост, стоит и смотрит, как ее два сына бегут через Исаевскую балку к своим спрятанным в тернах коням. И они бы добежали, если бы в это время из-за поворота балки по ее руслу не вывернулись вдруг, отрезая их от тернов, те самые русские солдаты, о которых она уже забыла.
Впереди бежал командир в полушубке, брат разведчика, застреленного из немецкого карабина Павлом. Стоя во весь рост, все, все она увидела своими глазами, хотя и не это надеялась увидеть. И то, как Жорка, увидев, что наперерез бегут русские, сразу же поднял руки и плюхнулся задом на снег, как мешок с зерном. И то, как Павел, продолжая бежать к тернам, выхватил пистолет и стал стрелять в командира, который первый хотел отрезать ему путь к лошадям, а командир, не стреляя, бесстрашно бежал под выстрелами Павла и, оборачиваясь, что-то кричал, махая рукой солдатам. Ей почудилось, что она расслышала, как он кричит высоким режущим голосом:
– Живь-ем! Живь-ем!
Должно быть, она услышала правильно, потому что и другие солдаты, не стреляя, полукругом охватывали терны, где стояли подседланные кони. Жорке теперь уже не нужен конь, он сидит на снегу, закрыв лицо руками, а Павел совсем близко от тернов, где стоит его лошадь. Варвара видела все. Русский командир, перерезая Павлу дорогу, уже вплотную сходился с ним у тернов. Теперь и она убедилась, что, не стреляя, он непременно хочет взять Павла живым, чтобы отомстить ему за своего братушку, а Павлу все никак не удается попасть в него из пистолета, никак не удается. Должно быть, трудно ему целиться сбоку и на бегу.
И, должно быть, поэтому же, когда командир русской разведки, добегая до него, уже протянул к нему свои большие руки, Павел быстро остановился, повернулся к нему лицом и выстрелил в него из пистолета в упор. Варвара только вскользь увидела, как командир русской разведки тут же упал, и больше не стала на него смотреть, потому что все ее внимание было приковано к Павлу. Это был ее первенец, ее любимец, и не может быть, чтобы он дался им в руки.
Она хотела все видеть, и она все увидела. И то, как добежал, наконец, Павел до дремучих тернов. И то, как потом вынес его оттуда, из синей чащи, гнедой тонконогий конь.
С гребня степного увала, перерезав ее преступного сына надвое смертоносной строкой, простучал пулемет. Тот самый, из которого он только что расстреливал сибиряков, засевая февральскую степь яркими красными цветами.
* * *
Когда через две недели Варвара постучалась поздно вечером домой, дочь Ольга, открыв ей дверь, отступила назад, увидев, что у нее трясется голова и глаза блуждают, как у безумной.
Все это время Варвара отлеживалась на Исаевских хуторах у Жоркиной полюбовницы Лидки Косаркиной, к которой, не помня себя, доползла по снегу, по бурьянам в тот день, когда все, что произошло с ее сыновьями, она увидела своими глазами.
Ее потребовали к ответу. Сперва, когда еще недалеко ушел фронт, приезжали военные следователи, возили ее с собой на допросы, а потом, уезжая с фронтом вперед, на запад, передали ее на руки следователям гражданским. Расспрашивали и спокойно, терпеливо угощали чаем с сахаром внакладку и стучали на нее по столу кулаками так, что подпрыгивали чернильницы. На все расспросы Варвара отвечала:
– Ничего я не знаю. Наговоры. Сыновья по себе, а я по себе. Старая я уже, отпустите меня.
Один военный следователь, молоденький капитан, бился с нею три дня, вежливо уговаривал во всем признаться, иначе ей же будет хуже, а когда она стала стыдить его, что он никак от нее не отстанет, и сказала, что у него тоже, должно быть, есть мать, вдруг приблизил к ней побледневшее лицо и зловещим шепотом просвистел, раздувая широкие ноздри:
– Ну ты, старая ведьма, ты моей матери не тронь, ты даже этого имени – «мать» не смеешь касаться.
И все же в конце концов они отстали от нее. Ничего им не оставалось делать, потому что, кроме одной-единственной соседки, никто не мог подтвердить, что это именно она выдала разведчика, который хотел спрятаться у нее в сарае. К тому же и соседка со временем все с меньшей твердостью показывала на следствии, что этот жест Варвары через плечо рукой действительно означал, что она указывает на разведчика. А может, это движение означало и что-нибудь другое, или же просто Варвара в эту минуту поднесла руку к плечу, хотела поправить платок. Соседка сама себе отказывалась поверить, что другая женщина, мать троих детей, взяла на свою душу такой грех. Конечно, Табунщиковы на весь хутор были самые угрюмые люди, бывало, зимой у них снегу не разживешься, и сыновья Варвары натворили такое, что стынет кровь в жилах, но одно с другим нельзя путать. Иначе как бы не пострадал и безвинный человек, а этого греха на душу тоже нельзя взять.
И показания соседки с каждым днем становились все туманнее. То она уверенно отвечала на следствии: «Своими глазами видела, не слепая…», а то стала уклончиво говорить: «Оно, конечно, может, мне и привидилось. Я и сама женщина уже старая, перед вечером совсем плохо вижу, а очки мне немецкий солдат разбил, когда я с ним из-за последней курицы боролась».
Где-то в глубине души соседка продолжала верить, что Варвара не просто так, по случайному совпадению, показала рукой через плечо, но на это время, пока Варвару возили на следствие, это добрая женщина приютила ее дочку Ольгу, каждый вечер укладывала в постель рядом с собой, потому что девочка напугалась бомбежки и боялась спать одна, и чем крепче Ольга по ночам прижималась к ее плечу, вздрагивая и всхлипывая во сне, тем глубже заползала в сердце соседки жалость. Вот может и еще одна появиться на свете сирота. И тем все больше женщина разуверялась в том, что видела она из окна в тот страшный день своими глазами. Нет, должно быть, и правда ей почудилось. Наступил день, когда у нее в ответ на вопрос следователя, уж не намерена ли она, судя по ее поведению, отказаться от своих прежних показаний, вдруг вырвалось от всей усталой души:
– Да ослобони ты меня сынок, ради христа, от своих расспросов. Мало ли чего глупой бабе не покажется, а вы всему верите. Я сейчас и сама ничего не знаю и не помню. Ослобони ты меня от этого дюже поганого дела. Я с судами сроду дела не имела и до смерти иметь не хочу.
И следователи, слушая такие слова, сами начинали колебаться. А Варвара сидела перед ними старая, с трясущейся головой, и ни разу не сбилась, отвечая на все вопросы, говорила одно и то же. Следователи менялись, синяя папка с делом переходила из одних рук в другие, и каждому новому следователю все с менее жгучей реальностью представлялось все то страшное, что произошло на Табуншиковом дворе в февральский полдень 1943 года. Все более неправдоподобным казалось, что эта русская женщина, сама мать, способна на такое злодеяние, и все более расплывчатыми и недоказательными представлялись косвенные – прямых не было – улики этого дела. И наступил день, когда рука самого последнего из следователей вывела заключение наискось первого листа этого дела: «За отсутствием достаточных улик производством прекратить». С этого дня милиция и прокуратура оставили Варвару в покое.
В тот же день она прямо из райцентра, из прокуратуры прошла на хутор Каныгин, где действовала церковь, и заказала службу «за упокой убиенного раба божьего Алексея». Она помнила, что командир русской разведки так называл своего братушку.
И так как, кроме соседки, никто больше не мог видеть, как Варвара выдала разведчика немцам, то и люди в хуторе к ней помягчели, хотя и не забывали, что она мать двух полицаев. Но все же это не то, что самолично предать человека вратам на верную смерть… А еще позже приехал в хутор и поселился здесь хороший парень, из демобилизованных, сержант Дмитрий Кравцов – вся грудь в боевых наградах, женился на Ольге Табунщиковой, которой к тому времени исполнилось восемнадцать лет, и многое закрыл своей спиной. За этой спиной и Варваре стало спокойнее.
* * *
С первого утреннего парохода сошла на станичной пристани в пяти километрах от хутора старая женщина. У берегового матроса поинтересовалась дорогой на Вербный. Взглянув на ее одежду – на серое платьице, такого же цвета жакет – и большую клеенчатую сумку, матрос сразу определил: не местная. Но и не с Вербного, потому что за свои шестьдесят лет жизни на этом берегу старый матрос успел узнать в лицо не только всех станичных жителей. И, охотно рассказав приезжей, что идти на Вербный ей следует сперва по-над Доном, у самой воды, а дальше и до самого Вербного по-над виноградными садами, он, в свою очередь, полюбопытствовал:
– А вы туда к своим сродственникам али просто к знакомым?
Сквозь толстые стекла очков женщина взглянула на него большими глазами:
– К родственникам.

И, повернувшись, пошла по береговой дороге. «Не иначе, учителка, а теперь на пенсии», – почему-то с уверенностью заключил матрос, наблюдая, как она трудно переступает по песчаной дороге в своих серых парусиновых туфлях. Нет-нет, а и взглядывал матрос потом на дорогу, жалея, что постеснялся расспросить приезжую как следует и теперь должен ломать голову, какие именно родственники живут у нее на Вербном. Вскоре всех, кто только мог показаться ему подходящим в роли ее родственников, он перебрал и ни на ком не мог остановиться. Но и солгать эта старая женщина ему не могла: глаза ее взглянули на него, расплываясь за стеклами очков, серьезно. За свои шестьдесят лет он успел убедиться, что такие глаза не лгут.
А так как ему предстояло еще весь день проскучать на пустынном берегу между пароходами, которые приставали здесь редко, то он и продолжал размышлять об этом до тех пор, пока серый комочек на береговой дороге не втянулся под зеленые вербы. Но и после этого он еще не раз принимался буравить взглядом глянцевитую листву верб, под которыми скрылась эта женщина.
Несмотря на то, что накатанная колесами подвод и натоптанная пешеходами дорога от станицы до самого хутора ни разу не удалялась от Дона, от воды, а справа притенялась вербами и листвой виноградных садов, пройти по ней пять-шесть километров в этот утренний час было нелегко. Под крутым склоном правого берега застаивалась, не расступаясь и ночью, духота, а струя ветра если и достигала сюда временами, то приходила она все с одной и то же стороны – с юго-востока. Не охлаждала она, а еще больше накаляла воздух.
Эта же осень была особенно сухой, жаркой. Уже к концу сентября она как будто пораскидала среди прибрежных талов багровые цыганские платки. Закрадывалась желтизна и в листву верб. Только на густую, сочную зелень виноградных садов еще не успела брызнуть ни единая капля осенней краски.
Женщина с утреннего парохода вскоре сняла с себя жакет, спрятала его в сумку и, сломив сбоку дороги ветку, стала ею обмахиваться. Лицо у нее покраснело, покрылось каплями пота. Не так-то легко было ей вытаскивать свои уже немолодые ноги из песка. Она останавливалась, вытряхивала его из туфель и шла дальше. За всю дорогу она только раз и остановилась, чтобы отдохнуть.
Она сошла с дороги и опустилась на траву под вербой, когда впереди из зелени садов уже забелели хуторские стены, засверкала под солнцем стекла окон и стал круто заворачивать, подниматься в гору плетень, которым были отгорожены от дороги кусты винограда, отягощенные черными и желтыми, как будто отлитыми из чугуна и меди, гроздьями.
Оказывается, никто особенно не ждал к себе в гости эту женщину там, в хуторе Вербном, если она уже у самого конца пути решила позавтракать тем, что взяла с собой в дорогу в свою клеенчатую сумку. Разостлав на траве газету, она достала хлеб, два яичка и пузырек с солью. Все это наблюдал из-за плетня сторож виноградного сада. Он сидел на маленькой деревянной скамейке у входа в свою сторожку и обшивал автомобильной резиной валенки. Он заметил эту женщину со своего возвышенного места еще тогда, когда она только что отошла от станицы, и по ее походке, по другим разным признакам легко определил, что она уже давно вышла из того возраста, когда ногам ничего не стоит пройти пять или шесть километров в самое пекло.
А он и сам уже был старик. Он на войне был и через фашистский плен прошел и с тех пор усвоил себе твердое правило – непременно делиться с людьми тем, чем только мог поделиться. Он сразу увидел, что у этой женщины с харчишками, взятыми ею в дорогу, не густо. С двух ближайших кустов винограда старый сторож срезал садовым ножом две большие спелые грозди – черную и белую, вышел из калитки из-за плетня и, поздоровавшись с женщиной, молча положил их перед ней на газету.
Она не удивилась и не отказалась, взглянув на него снизу вверх увеличенными стеклами очков глазами:
– Спасибо.
– Кушайте на здоровье, – ответил он и, отойдя чуть поодаль, прислонился к стволу вербы, ни о чем ее не расспрашивая, по опыту зная, что, если человеку необходимо открыть свою душу, он сам ее откроет, а если нет, то незачем и ломиться туда к нему без спроса.
Она спросила у него, взглянув на белеющие впереди из зелени домики:
– Это и есть хутор Вербный?
– Так точно, – ответил он по солдатской привычке.
Одну гроздь винограда женщина съела, отщипывая с нее ягоды тонкими, худыми пальцами, а другую завернула в газету и положила к себе в сумку.
– После съем. Хороший виноград. Но очень сладкий. – И она, виновато улыбнулась старику одними глазами. – После него еще больше пить хочется. – Она достала из сумки эмалированную голубую кружку, намереваясь сходить с нею к Дону.
Он остановил ее:
– Нет, мы тут воду из колодца пьем. Донская хоть и тоже хорошая, а теплее.
Она огляделась по сторонам:
– Из какого колодца?
– Видите, в балочке зеленеет камыш. Там раньше кулацкие, Табунщиковы, сады были. По глупости их перевели, а колодец остался. Там сейчас могила.
Женщина посмотрела, куда он указывал рукой. Там буйно зеленел в складке придонского склона камыш. Старику показалось, что в голосе у нее что-то тоненько звякнуло, когда она спросила у него:
– Какая могила?
– Братская. Немцы двух наших разведчиков побили тут на окраине хутора… – Он не договорил, увидев, как что-то трепыхнулось у нее за стеклами очков, как будто шарахнулась птица. – А наши люди потом похоронили их возле этого колодца. Место хорошее, весной тут соловьи поют, а мимо парохода́идут из самой Москвы. – Под ее взглядом он вдруг стал словоохотливым и суетливым. – А вода там холодная и чистая, как слеза. Родник. Да я вам сейчас наберу, – и он протянул руку за кружкой.
– Нет, я сама схожу, – сказала женщина.
И, встав, она с кружкой в руке пошла туда, где зеленел камыш. Разомкнувшись, он с шорохом сомкнул за ее спиной свои широкие листья.
Старик подождал женщину под вербой, думая о том, что взгляд у нее такой, как будто это не взгляд, а рана, и своими глазами она может перевернуть человеку всю душу, и вскоре забеспокоился: что-то она не возвращалась. За это время уже раза три можно было сходить к колодцу и вернуться обратно. «Как бы, – подумал он, – с нею не случилось что-нибудь плохое. По такой жаре ей в непривычку много ходить, очень даже просто может случиться. А то, может, она напилась родниковой воды, отдохнула у колодца и незаметно для себя там же уснула». Он знал и за собой эту слабость.
Он еще немного подождал и решил все-таки сходить к колодцу. Раздвигая камыш, выглянул из него на залитую солнечным светом поляну.
Там зеленела молодая трава. Поблизости от воды она была особенно яркой, пушистой. Взгляд старика нашел женщину у могилы. Она лежала сбоку нее, вниз лицом, раскинув руки, как птица крылья. Так он и думал – уснула. Напилась холодной воды, села отдохнуть у этого тихого места, по-женски сочувствуя чьему-то чужому горю, и, умиротворенная тишиной, незаметно приклонилась к земле. Сбоку на траве лежала ее голубая кружка.
Ему это было знакомо, пусть поспит. От колодца, от большой вербы падает на могилу тень, и спать ей совсем не жарко. А весь день еще впереди, и хутор, куда она идет, уже рядом. Поспит, отдохнет и успеет дойти, куда ей нужно. Нет, он ее будить не станет, а лучше пойдет и сам передремнет в сторожке на ворохе травы час-другой, пока ребятишки не начнут возвращаться из станичной школы из утренней смены в хутор, и ему опять придется отбивать их атаки на виноградный сад. Если бы их было пять или десять человек и каждый рвал по кисточке винограда, а то их налетает целый эскадрон, и каждый норовит набузовать полную пазуху. После их набегов по кустам будто град проходит.








