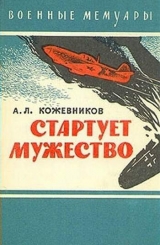
Текст книги "Стартует мужество"
Автор книги: Анатолий Кожевников
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц)
Не учлёт, а курсант
Пролетело короткое сибирское лето. На строительной площадке комбината выросли новые промышленные здания. К празднику Октября распиловочный цех выдал первую продукцию. По эстакаде непрерывно, день и ночь, ползли к пилорамам мокрые бревна, а из цеха бежал поток чистых и пахучих брусков и досок. Мощно дымила высокая кирпичная труба новой теплоэлектростанции. Как-то не верилось, что год назад здесь была необжитая степь, летом хозяйничали суслики, а зимой свободно гуляла метель.
Однажды совсем неожиданно меня вызвали к военкому. Я шел по знакомой дороге, гадая, зачем я ему понадобился.
Военкомат находился в небольшом двухэтажном доме, где несколько лет назад была наша фабрично-заводская семилетка. Когда-то она дала мне путевку в техникум. Куда теперь мне придется уехать?
В военкомате уже толпились аэроклубовские ребята. Из нашей летной группы был один Утенков.
– Здравствуй, старшина, – обратился он по старой привычке, расплываясь в широкой улыбке.
Мы по-дружески обнялись. Утенков рассказал, что Аксенов и Ямских уехали в авиашколу, о других ребятах он ничего не знал.
– А нас зачем вызвали?
– Разве не знаешь? В летную школу будут отправлять, – не скрывая радости, ответил товарищ.
– Вот здорово! – вырвалось у меня.
Утенков был прав. Через несколько минут нам официально объявили, зачем мы вызваны, и направили на врачебно-летную комиссию.
– Эх, только бы комиссию пройти, – волновался Утенков.
– Тебе-то бояться нечего, – ответил я, глядя на его богатырскую фигуру. – Если уж тебя забракуют, кого же тогда брать.
Целый день ходили по врачебным кабинетам. Вечером был объявлен список годных к службе в Военно-воздушных силах. В нем оказались и мы с Утенковым. Мой друг и я буквально прыгали от радости, хотя и не знали еще, куда, в какую школу нас направят.
И вот мы в последний раз сидим в аэроклубовском классе аэродинамики. Перед нами начлет. Когда-то он каждому из нас давал разрешение на самостоятельный вылет, теперь провожает в новую дорогу.
– Смотрю на вас, – говорит он, – и мысленно вижу каждого в кожаном летном реглане. Но прежде чем наденете его, придется преодолеть немало трудностей, многому надо научиться. Хороший боевой летчик должен летать также свободно, как ходит по земле. Только тогда он может рассчитывать на победу в воздушном бою.
Аэроклуб навсегда остался позади. Получив добрые напутствия и проездные документы, мы строем отправились по ночным улицам Красноярска прямо на вокзал.
– Интересно получается: утром вызвали в военкомат, а вечером уже проездные в кармане, – говорит мне шагающий рядом Утенков, – уедем, и дома знать не будут.
– Надо как-то сообщить.
Нам повезло: до прибытия нашего поезда оставалось еще пять часов. Посоветовавшись, решили разойтись по домам.
Мать не сразу поверила, что я уезжаю. А когда опомнилась, всплеснула руками и торопливо стала собирать меня в дорогу.
– Бывало, рекруты целую неделю гуляют, а теперь уйдешь и отца не повидаешь. Он вернется из тайги дня через три, не раньше, – рассуждала мать, – может, отпросишься у начальства, подождешь отца?
– У меня, мама, уже билет на руках.
– Поговорили бы с отцом, он ведь старый солдат, может, что и посоветует?
Сестренка радовалась за меня и не скрывала своего восторга.
– Как на праздник брата провожаешь, – укоризненно заметила ей мать.
– А чего мне не радоваться! Ты же сама видишь, какие ребята из армии приходят – молодец к молодцу.
– Далеко ли увезут вас? – спросила мать.
– Пока билет до Читы. А куда дальше поедем, не известно. Только об этом пока никому не рассказывайте.
– Понятно, дело военное, – ответила мать. – Если придется на границе служить, будь поаккуратнее, японцы-то не дают нам покоя.
Мать имела в виду недавнее нарушение границы у озера Хасан.
– У нас армия сильная: били, бьем и будем бить, – вмешалась сестра.
– Ты-то уж помолчи, тоже мне, вояка! – нахмурилась мать. А сестренка только усмехнулась и запела вполголоса:
Петлицы голубые, петлицы боевые.
Я вижу их при свете и во мгле.
Лети, мой ясный сокол, лети ты в путь далекий,
Чтоб было больше счастья на земле…
– Все у вас, молодых, очень просто получается, – вздохнув, сказала мать, – не понимаете еще многого. А что, если японцы снова полезут?
– «Тогда мы песню споем боевую и грудью встанем за Родину свою», – не задумываясь, чужими словами ответил я матери.
– В том-то и дело, что грудью придется вставать. Ты ведь не знаешь, что такое война, понятия не имеешь, а я насмотрелась, как уходили и не приходили. На отца посмотри, весь в рубцах пришел и хромает, вот она, война-то.
Несколько часов пробежали незаметно. Перед расставанием посидели молча, как полагается по старому русскому обычаю, и я покинул родительский дом.
Скрипит под ногами снег, над головой звездное небо. Вот и стройка осталась за спиной, в темноте скрылась Базайха, а впереди засверкали огни красноярского вокзала.
Многие из наших ребят сидели уже там. Те, что жили поближе, пришли с родителями. Все были возбуждены, сидя на чемоданах, громко разговаривали. Кто-то рассказывал смешную историю, вызывая громкий хохот слушателей. А в последние минуты перед приходом поезда даже заядлые остряки и балагуры притихли.
Объявили о прибытии поезда. Пассажиры засуетились, пестрой толпой двинулись к выходу. Окутанные паром, который клубами валил из раскрытой двери вокзала, мы вышли на перрон. На покрытых инеем классных вагонах белели таблички «Москва – Хабаровск».
– Поехали, – усаживаясь в вагоне, весело говорил Утенков. – Вот так ехать бы да ехать без остановки до самого училища.
Поезд, стуча колесами и плавно покачиваясь, уходил все дальше на восток, врезаясь в красавицу тайгу. До свидания, Красноярск! Лежа на вагонной полке, перебираю в памяти события дня. Военкомат, комиссия, неожиданный отъезд… Я не успел повидаться с ребятами-строителями, не было времени даже зайти в комитет комсомола, не простился и с добрым стариком Богомоловым… Придет отец из тайги, а я уже в Чите.
С этими мыслями и уснул.
Весь следующий день мы не отрывались от окон. Перед глазами проплывали незнакомые пейзажи. Вот и Ангара, бурная дочь Байкала, она одна не подчиняется законам природы. В самом деле, если все реки мира разливаются весной, то Ангара – в середине зимы; все реки замерзают с поверхности, она – от дна; все реки впадают в моря, она, наоборот, вытекает из озера-моря… Над Ангарой, несмотря на трескучие морозы, висел туман, она стремительно несла свои воды меж заснеженных берегов. Миновали Иркутск. Поезд, кажется, повис над скалистыми берегами Байкала, временами ныряя в темные туннели. Перед нами раскинулось огромное ледяное поле, покрытое свежими трещинами.
– Байкал-батюшка! – задумчиво произнес пожилой пассажир. – Я на его берегах родился, отец прожил здесь всю жизнь, а моря до конца так и не знаем. Иногда в ясную погоду вдруг начнет оно будоражить, переломает лед я снова успокоится. Когда не было железной дороги, сколько тут ямщиков гибло. Захватит внезапно непогода в дороге – и крышка. Да что зимой, иногда и летом «баргузин» такую волну разведет, что диву даешься. Есть еще одна загадка: куда вода девается из Байкала? В него более шестидесяти рек впадает, а вытекает одна Ангара. Приходилось слышать, будто море с океаном под землей соединено, даже в газетах о том писали. А по-моему, вода вытекает только через Ангару, остальная остается и частично испаряется. Вот в дельте Селенги лет сорок назад были большие луга, сено на них косили, а сейчас там воды около трех метров. Значит, прибывает вода в Байкале.
Разговорившийся пассажир еще много рассказывал о Байкале, ни разу не назвав его озером. Морем величал.
В Читу мы прибыли утром. Морозно светилось прозрачное безоблачное небо. Мы собрались разношерстной гурьбой, раздумывая, у кого бы узнать наш дальнейший маршрут. Но гадать долго не пришлось.
– Кто старший? – спросил подошедший дежурный комендант.
Старший команды вышел вперед и показал воинское предписание.
– Все в порядке, – сказал дежурный, проверив документ, – идите в зал и ожидайте, за вами придут.
Часа через полтора явился заиндевевший старшина, с четырьмя треугольниками в голубых петлицах. Он проверил документы и приказал выходить строиться. Это была наша первая встреча с настоящим кадровым командиром.
– Ша-агом марш! – четко скомандовал он и повел по песчаным улицам Читы. Прошагав через весь город, вышли на тракт. Впереди раскинулись бесснежные забайкальские поля без единого строения. Дул холодный, пронизывающий «хивус».
– Кто в кепках, стать в середину колонны! – скомандовал старшина.
Мы не сразу поняли, почему старшине захотелось, чтобы те, кто в кепках, находились в середине. Потом, когда перестроились, сообразили, что там идти значительно теплее.
Шли долго; однообразной дороге, казалось, не будет конца. Но вот слева потянулось проволочное заграждение, за ним показались ангары и два длинных одноэтажных бревенчатых здания. Это и были казармы.
Помещение казалось нежилым. В нем было холодно и неуютно.
– Здесь будете жить. К вечеру привезут койки, а пока наводите порядок, – объявил старшина.
Поставив в угол чемоданы, принялись за уборку. Одни разжигали печи, другие носили дрова, а Утенков, раздобыв старую метлу, взялся подметать пол.
– Снегу принесите, – закричал кто-то, задыхаясь от пыли.
– За снегом надо в Красноярск съездить, здесь его нет, – пошутил Утенков.
Промерзшие печи страшно дымили и долго не нагревались, однако в помещении все же стало теплее, чем на улице. Закончив уборку, мы группами собрались около печек.
– А кормить нас будут? – громко спросил Утенков.
– Нет! – ответил кто-то.
– Обязательно накормят, только в положенное время, – сказал капитан в синей шинели. Он вошел в казарму вместе с новой группой будущих курсантов.
– Наша школа только организуется, – продолжал капитан, – первые две эскадрильи уже приступили к занятиям, вас направим в третью эскадрилью. Сейчас ваша задача по-настоящему подготовить помещение. За время пребывания в карантине пройдете медицинскую комиссию, потом приступим к занятиям. Я начальник штаба эскадрильи, моя фамилия Беляев. Ваш непосредственный начальник – старшина эскадрильи товарищ Ушаков. Со всеми вопросами обращайтесь к нему. Ясно, товарищи?
– Ясно, – ответили мы дружно.
– Ну вот и хорошо. Сейчас подвезут койки и инструменты. Товарищ Ушаков, организуйте людей в бригады по специальностям. Сегодня все подготовьте, а завтра с утра за работу.
– Есть! – четко ответил старшина и пошел проводить капитана.
Вернувшись, Ушаков назначил дневальных и дежурного, уборщиков помещения и истопников, определил их обязанности. Затем он вывел нас из казармы, и мы строем пошли на обед.
На пути нам встретилась колонна курсантов. Они шли с песней, четким строевым шагом, явно стараясь показать свое превосходство над нами. Когда мы поравнялись, их старшина – по уставу, но и не без иронии – подал команду «Смирно». Курсанты подчеркнуто торжественно перешли на строевой шаг, с улыбкой глядя в нашу сторону.
Мы с завистью смотрели на их ровные ряды.
– Рисуются, – сказал Ушаков, когда они прошли. Но вдруг сразу посерьезнел, словно только сейчас вспомнил о своих обязанностях.
Мы старательно выполняли его команды, однако умения и тренированности нам явно недоставало.
– Будем заниматься строевой, пока не научитесь ходить лучше всех, – предупредил старшина.
Первый солдатский обед. На длинных столах – судки с борщом – один на десять человек. Ровные ряды мисок.
– Такого борща, кажется, никогда не ел, – говорит Утенков, щуря и без того узкие глаза.
В столовой – тишина, во время еды разговаривать не положено. Старшина по-хозяйски ходит меж столами, наблюдая за порядком, все видит и слышит. Утенкову делает замечание за разговоры.
Всю вторую половину дня мы занимались устройством и формированием бригад для ремонта казармы. Нашлись у нас и плотники, и столяры, и маляры. Здесь были ребята со строек Комсомольска, из портовых мастерских Владивостока, с заводов Ленинграда и Москвы.
К полуночи в казарме температура стала уже плюсовой. Прижимаясь один к другому поплотнее, мы улеглись спать.
– Ну вот и переночевали, – сказал старшина, утром входя в казарму. – Подъем!
Начиная с того подъема, я на протяжении всей курсантской службы первым видел, открыв глаза, вездесущего старшину. Как старший друг и воспитатель, он многому нас научил. Не будет преувеличением, если скажу, что все курсанты вспоминали потом Ушакова с особым уважением и благодарностью.
За десять дней в нашей казарме были установлены двойные рамы, переложены печи, покрашены полы. Все это курсанты сделали добротно и красиво.
В последние дни карантина мы проходили врачебно-летную комиссию. Она предъявляла к нам повышенные требования. Вначале это нас не беспокоило – ведь каждый прошел медицинскую проверку еще до приезда в Читу. Но когда вернулась с комиссии первая группа, оказалось, что врачи, не считаясь с прежним заключением, отстранили некоторых курсантов. Тут мы заволновались. И не напрасно. Здоровяк Утенков вышел от отоларинголога со слезами на глазах.
– В чем дело? – бросился я к товарищу.
– Не годен, – сказал он упавшим голосом.
– Пойдем к председателю комиссии, что же это получается? Кого же тогда принимают?
По пояс голые, мы ворвались к председателю. Он внимательно выслушал нас, перечитал заключение ушника и развел руками.
– Вы поступаете в истребительную школу, будете летать на истребителе. Надо быть абсолютно здоровым.
– А разве я больной? – возразил Утенков.
– Не больной, но есть маленький недостаток. У вас в детстве болело ухо.
– Так это же в детстве, я даже не помню, когда и чем болел, – настаивал Утенков. – Если бы вы знали, доктор, как мне хочется летать! Пропустите, честное слово, не подведу.
– Не могу, – категорически заключил председатель.
– Вот тебе и кожаные регланы, – выходя от врача, сказал Утенков. – Не думал, что так получится…
Всю ночь Утенков не сомкнул глаз, тяжело переживая свою неудачу. А утром, торопливо попрощавшись, он ушел на станцию.
Голубые петлицы
Кто не помнит до мельчайших подробностей того дня, когда, оставив у парикмахера гражданскую шевелюру и помывшись в армейской бане, впервые надел солдатскую гимнастерку. Вначале нам показалось, что мы стали походить друг на друга. Но так было только поначалу, пока не отвыкли от гражданской привычки различать людей по одежде. Скоро мы научились понимать, что под одинаковой формой скрываются совершенно разные характеры.
После томительных дней карантина все наконец стало на свои места. Началась настоящая военная служба, определенная воинскими уставами. На воротничках наших гимнастерок голубели заветные петлицы – гордость каждого курсанта. Нас распределили по отрядам, звеньям и летным группам. Старшиной первого звена был назначен Алексей Маресьев, нашего, второго, – Николай Будылин, бывший старшина морской пехоты, влюбленный в военную службу, ревностный блюститель воинских уставов. Меня назначили старшиной летной группы и присвоили первое воинское звание – командир отделения. В моих петлицах появилось по два покрытых красной эмалью треугольника. По вечерам, украдкой от товарищей, я частенько подходил к зеркалу и все не мог насмотреться на первые знаки воинского различия.
В то же время я задумывался над тем, чему смогу научить подчиненных, если сам еще учусь: ведь отличаться от своих товарищей, таких же курсантов, я должен не только треугольниками в петлицах.
Разрешил мои сомнения и пришел на помощь Будылин. В первое же воскресенье, закрывшись в свободном классе, он провел с нами, старшинами групп, обстоятельную беседу: о взаимоотношениях с курсантами – прежде всего. Не играть роль командира, а быть командиром, то есть постоянно показывать пример, шагать всегда впереди, не проходить мимо нарушений, наставлял нас Будылин. Не жаловаться старшему, а самому добиваться от курсантов точного выполнения уставов. Вторая его заповедь – знать характер каждого и помогать в трудную минуту. Не стесняться требовать, но так, чтобы не унижать личного достоинства человека. Уметь видеть и ценить хорошее.
Это были не только красивые слова. Будылин сам поступал именно так. Мы, старшины групп, иногда завидовали его подготовке, такту, выдержке. Авторитет Будылина был высок, и он не злоупотреблял им, к нам, старшинам групп, относился внимательно, даже бережно: никогда не делал замечаний в присутствии подчиненных, не допускал оскорбительных выражений, если даже делал кому-то замечание.
И нас, и рядовых курсантов старшина звена воспитывал на конкретных примерах. Не было случая, чтобы после отбоя он не проверил, как уложено обмундирование, почищены ли сапоги и на месте ли они стоят. Если замечал, что порядок нарушен, тихо поднимал курсанта, приказывал одеться в полную форму, затем раздеться и все заново уложить в установленном порядке.
На первых порах могло показаться, что он душу выматывает своим педантизмом. Но потом, привыкнув к военному быту, мы оценили старания и твердость Будылина.
Учились мы много, не теряя ни минуты. Даже дорога в кино или баню использовалась для занятий по строевой подготовке. Оружие носили только на плече. Вид внушительный: над звеном – лес граненых штыков, красиво отливающих вороненой сталью. Приклад выше пояса, опирается на ладонь левой руки, у всех винтовок одинаковый наклон. Это вырабатывало не только выносливость, но и выправку. Сначала было тяжело, рука деревенела, ужасно хотелось переменить положение. Но попробуй кто-либо это сделать, его штык предательски выделится из общего равнения, и старшина не замедлит сделать замечание.
Мы скоро привыкли к злым забайкальским морозам, даже при температуре тридцать градусов выходили на утреннюю зарядку без гимнастерок. Умывались всегда по пояс, и непременно холодной водой.
После завтрака начинались занятия в классе. Осваивали сложную теорию воздушной стрельбы и теорию полета, навигацию и метеорологию, авиационную технику и авиамедицину. Крепкая дружба, взаимопомощь помогли нам добиться высоких показателей в учебе. Не было случая, чтобы комсомольская организация оставила без внимания курсанта, которому тот или иной предмет давался с трудом. Ленивых, неприлежных у нас вообще не было. Если и случалось на комсомольском бюро взыскивать с кого-то, так только за неточный ответ преподавателю или за опоздание в строй.
Однажды после полуночи вдруг раздалась команда дежурного:
– По-одъем! Боевая тревога!
В первые мгновения мы не сомневались, что тревога в самом деле боевая. Мне даже захотелось, чтобы. где-то поблизости сейчас строчили пулеметы, слышалась ружейная перестрелка. И не только мне – все мы были готовы ринуться в бой.
Стараясь сэкономить каждую секунду, курсанты на ходу застегивали гимнастерки и бросались за оружием. Мне казалось тогда, что именно от нас, курсантов Читинской школы пилотов, зависит безопасность Родины, будто граница проходит не у Маньчжурии, а совсем рядом, и нам нужно поспеть туда первыми.
Надо сказать, что такие мысли рождались не только потому, что у нас было молодое, буйное воображение. Участились случаи нарушения советских границ со стороны японских самураев, и мы, конечно, знали об этом.
Через две-три минуты наше звено в полной готовности построилось рядом с казармой. Будылин окинул строй опытным глазом и остался доволен. Он уже получил задачу и маршрут движения. Предстоял тридцатипятикилометровый переход.
Тронувшись в путь, сразу затянули песню про одиннадцать пограничников, сражавшихся на сопке Заозерная. Боевые, призывные слова будоражили воображение, перед глазами вставал неравный бой горстки советских бойцов с японскими самураями.
Пусть их тысячи там, Нас одиннадцать здесь. Не уступим врагам Нашу землю и честь.
Звено уходило в темноту забайкальской ночи, по голым промерзшим сопкам. Шли без дороги, по азимуту, над головой чернело небо, усыпанное яркими звездами.
Через полчаса остановились на короткий привал. Старшина приказал всем переобуться и повел нас дальше.
На обратном пути, когда над горизонтом появились первые блики утренней зари, мы почувствовали усталость. Все чаще Будылин требовал подтянуться.
– Выше голову! Больше жизни, – подбадривал он. – Тверже ногу, товарищи!
Однако не все могли выполнить эту команду. Курсант моей группы Мыльников шел, понурив голову, с трудом удерживаясь на ногах.
– Устал? – спрашиваю Мыльникова.
– Не могу, – шепотом отвечает он.
– Давай винтовку, легче будет.
Мыльников отдал винтовку.
Весельчак Рогачев не упустил случая посмеяться.
– Откуда, служивый, – пошутил он, – не с ерманского ли ненароком идешь?
Мыльников устало отмахнулся: не до шуток, мол. А Рогачева уже не остановить:
– Бывало, идут, значит, служивые, вот так, как сейчас наш Паша, с ерманского-то фронту, винтовки побросали, и легко стало. Девки им молочка и хлебца несут, вот времена-то были. Здесь, браток, на забайкальских-то сопках, не то. Нету, Паша, молочка, один разве сухой ковыль да песок…
Ребята заулыбались – Рогачев развеселил их. Только здоровяк Кириллов, человек серьезный, до которого шутки доходили не сразу, пробасил:
– Брось смеяться над человеком, сил у него не хватило, со всяким может случиться. Сам с вершок, а насмехается.
– Мал золотник, да дорог, – нашелся Рогачев. – А ты со своей силищей взял бы у Паши противогаз, да и мешок тебе не помеха…
– Ну и возьму, – сказал Кириллов. – Давай, Паша, не обращай на него внимания.
– Ай молодец! Может, и у меня заберешь? – посмеивался Рогачев, глядя, как наш богатырь ловко перекидывал через плечо дополнительную ношу.
– Шагай, шагай, – ответил Кириллов, – понадобится – вместе с мешком тебя унесу.
– Тебе бы в пехоту, а ты в авиацию по ошибке попал.
– Разговорчики! – прервал старшина. – Подготовиться к броску… Бегом, марш! – крикнул Будылин и сам побежал впереди.
Странное дело: казалось, многие уже идти не могут, а сейчас побежали вслед за старшиной. Большой все-таки в человеке запас сил!
Наконец тридцать пять километров остались позади, под ногами пол теплой казармы. Усталость прямо-таки валит с ног: лечь бы сейчас и уснуть каменным сном.
– Почистить винтовки, привести себя в порядок, даю десять минут, – распорядился старшина. Он вроде бы и не совершал вместе с нами тяжелого перехода: свеж, бодр, улыбается и подбадривает: – Подождите, еще десяток таких переходов – и привыкнете. – Старшина был в приподнятом настроении: наше звено пришло первым. Мы уже почистили оружие, Будылин проверил, не потер ли кто ноги, и тут только стали подходить остальные звенья.
– Зачем только эти походы, – сказал кто-то из курсантов, – петлицы носим голубые, а ходим не меньше, чем в пехоте.
– Потому и ходим, что петлицы голубые. Вы думаете, только на самолете истребитель должен быть готов к боевым действиям? А если машина будет повреждена над территорией противника? – возразил курсанту старшина первого звена Маресьев.
И кто бы мог подумать тогда, что через три года Маресьеву и в самом деле выпадут на долю те испытания, к каким он готовил себя и своих товарищей.
– К сожалению, некоторые еще думают, что для истребителя земля не нужна, – поддержал Маресьева Будылин. – Ошибаются: дорога в небо начинается на земле.
– Скрипеть не надо, – коротко бросил Кириллов, – каждая наука нужна. А петлицы – это нам пока аванс. Вот когда вылетим на истребителе, тогда голубые петлицы будут на месте.
– А знаете, ребята, как читинские девчонки ЧШП расшифровывают? Читинская школа поваров! Вместо пилотов – повара. В самом деле, мы и летать не начинали, и самолетов у нас нет. Какие же мы пилоты? – подлил масла в огонь Рогачев.
– Действительно, когда же к нам самолеты придут? Учиться начали, а настоящего истребителя даже на картинке не видели, – вмешался Мыльников.
– Что там самолеты, еще инструкторы не прибыли, – сказал курсант Тимонов.
Разговор прервала команда дежурного:
– Выходи строиться на завтрак!
– Если бы можно было, не пошел бы я сейчас на этот тридцать шестой километр, – вздохнул Мыльников.
– Не робей, Паша, – подбадривал Рогачев, – позавтракаешь, а там и тридцать седьмой пройдешь. И поспишь сном праведника: нам сегодня еще четыре часа спать положено – сам старшина сказал. Ох и поспим же, братцы!








