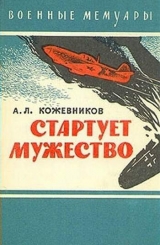
Текст книги "Стартует мужество"
Автор книги: Анатолий Кожевников
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 28 страниц)
Летаем и строим
Успешно завершив учебный год, мы получили возможность больше внимания уделять решению хозяйственных задач. В частности, решили всерьез заняться ремонтом аэродрома.
Политотдел соединения теперь оказывал мне во всем действенную помощь. Наши разногласия с прежним его руководителем разрешились радикально – он уехал, а на его место прибыл Василий Иванович Ширанов – умный и энергичный человек. С ним мы сразу нашли общий язык. Прежде чем приступить к ремонту аэродрома, нужно было организовать заготовку щебня.
– Будем на месте собирать битый кирпич, – предложил Ширанов. – Сразу двух зайцев убьем: и щебень заготовим, и развалины уберем.
На эту работу мы подняли женсовет, партийные и комсомольские организации. Дело пошло успешно. Вскоре на территории гарнизона исчезли и обгоревшие стены бывшего Дома культуры, и останки других развалившихся домов. Они превратились в горы щебня.
Жизнь ставила перед нами и другие задачи.
– Весна на носу, товарищ командир, – многозначительно сказал однажды Ширанов.
– Да, не за горами, Василий Иванович, – согласился я, еще не догадываясь, к чему он клонит.
– Я думаю, что уже пора послать заявку в окружной пионерский лагерь, хотя бы мест пятьдесят выпросить…
– Если судить по прошлому году, нам дадут не больше десяти путевок, – вставил присутствовавший при разговоре Скрипник.
– Это для нас капля в море, – огорчился Ширанов. – А что, если мы попросим денег и арендуем под лагерь деревенскую школу?
– Хорошо бы, – соглашаюсь я, – но дадут ли нам денег?
– Дадут, в этом я уверен, – сказал Ширанов.
– А сколько, хватит ли их?
– Шестьдесят тысяч – ровно столько, сколько просят с нас за аренду школы. Я уже узнал.
– Шестьдесят тысяч! Да на эти деньги можно самим построить пионерский лагерь, – возразил Скрипник. – И он будет служить нашим детям не один год. Все согласны?.. Правда, – тут же оговорился он, – это строительство не титульное, за него нам может крепко попасть. Но соблазн велик.
И, помолчав, для задора добавил:
– А место я знаю преотличное, пионеры будут отдыхать не хуже, чем в «Артеке».
– Хорошо, будем строить, – решил я. – Завтра же договорюсь с секретарем горкома о месте застройки, а потом решим все вопросы с архитектором города.
Секретарь горкома – бывший партизан, душевный и смелый человек – одобрил нашу инициативу и обещал поддержку.
Дело закрутилось. Нам выдали билет на порубку леса, и мы сразу же создали бригаду заготовителей. Место для лагеря мы с архитектором Коваленко выбрали на краю небольшого плато. Протекавшую рядом речку Серебрянку решили запрудить, чтобы ребятам было где купаться.
Коваленко, несмотря на свой преклонный возраст, любил и умел фантазировать. Главное здание лагеря он предложил построить на пригорке, верандой к реке. Внизу на плато соорудить столовую и разбить спортивные площадки.
– Весной здесь по пригоркам земляники много, – говорил архитектор, – а в соседнем лесу – малины, черники, грибов.
Строительство пионерского лагеря легло главным образом на плечи Ширанова, который взял на себя непосредственный контроль за всеми расходами. Основным исполнителем стал командир авиационно-технической базы Князевкер, хозяйственник умный и энергичный.
Едва успели мы развернуть лагерное строительство, как подоспели новые заботы. С наступлением оттепелей пришлось освободить один из аэродромов для ремонта взлетно-посадочной полосы. С помощью молодежи, присланной городской комсомольской организацией, мы повели наступление на овраг.
Разумеется, в мирное время командир соединения должен прежде всего заботиться о боевой готовности вверенных ему частей, об обучении и воспитании личного состава. Но не последнее место в его повседневной практике занимают хозяйственные и другие дела. Те и другие заботы так тесно переплетаются, что их невозможно размежевать. И в итоге получается, что для командира все важно. Любая «мелочь» может так или иначе отразиться на боеспособности соединения.
На строительстве пионерского лагеря у нас работала бригада солдат под руководством двух плотников-специалистов. Она состояла из людей, в прошлом связанных с преступным миром и до 1953 года отбывавших наказание в лагерях. После освобождения по амнистии они были призваны в армию. Народ это был трудный и доставлял немало хлопот командирам подразделений. Надо было приобщить ребят к такому делу, где бы они смогли увидеть плоды своего свободного труда. Мы с Ширановым решили испытать их на строительстве лагеря, собрали со всех частей и свели в одну бригаду.
Сначала беспокоились, как-то оно получится. Но вскоре убедились, что не ошиблись: бывшие воры стали работать с увлечением.
Мы с ними не однажды беседовали и поняли, что ребята всерьез хотят порвать с преступным прошлым, но опасаются, что это им не удастся.
– Если мы после службы в армии бросим старое, нас порежут, – говорили они.
– А откуда кто узнает, где вы есть?
– Узнают, скрыться невозможно, – отвечали они наперебой.
– Тогда вы все вместе поступите на одно производство, создайте вот такую же, как здесь, бригаду. Это же сила!
Эта идея ребятам понравилась, и они не расставались с ней до конца службы в армии. Люди они были неплохие, большинство попало в дурную компанию во время или вскоре после войны, и мы считали своим долгом сделать для них все, чтобы помочь «выпрямить» линию жизни, поставить их в строй достойных граждан.
Приближалось первое июня – срок открытия пионерского лагеря. Доктор Шеянов уже роздал путевки, Шираков подобрал обслуживающий персонал. И вот – забит последний гвоздь, наш лагерь вошел в строи, на его открытие были приглашены представители городских организаций, все свободные от службы офицеры с семьями. Солдаты-строители, узнав, что я собираюсь поощрить их за хорошую работу, тоже попросили разрешения побыть им на торжествах. Мы, конечно, уважили их просьбу. Надо было видеть их счастливые лица, когда на митинге звучали слова благодарности строителям!
Праздник удался на славу. С того воскресенья берега протекавшей рядом с лагерем речушки стали любимым местом отдыха летчиков и техников.
Человек под следствием
Руководители обкома и горкома выполнили свои обещания: по нашей заявке на аэродром вскоре прибыли специалисты и строительная техника. Начался штурм оврага, переоборудование аэродрома. День и ночь гудели, перепахивая землю, мощные землеройные машины. Бульдозеры перемещали грунт с бугра к оврагу, скреперы, переваливаясь подобно черепахам, тоже тащили туда наполненные землей ковши, грейдеры планировали взлетно-посадочную полосу, самосвалы подвозили заготовленную щебенку.
Вокруг аэродрома осторожно ходили минеры с миноискателями. Во время войны здесь проходил передний край, господствующая над местностью высотка не раз переходила из рук в руки. А мы решили ее срезать, чтобы не мешала заходить на посадку. Но прежде чем подступиться к ней, надо проверить, нет ли там мин. Наблюдая за опасной работой минеров, заметили, как наш часовой повернул назад ехавшую к аэродрому легковую автомашину.
– С дипломатическим номером, – сказал Шираков, – уже не первый раз тут появляется. Рыскают, хотят узнать, что мы тут делаем.
– Любопытство не порок, – усмехнулся я.
– Но большое свинство, – уточнил поговорку Шираков. И, меняя тему разговора, спросил: – Какое решение вы приняли относительно Романова?
– Еще не принял, – ответил я. – Хочу сам с ним поговорить. По-человечески. Уж больно нелепая история. А вы как думаете, Василий Иванович?
– Да, потолковать с ним надобно, – согласился Шираков. – Не верится, что наш советский человек, комсомолец, сознательно пошел на такое преступление.
Дело было, действительно, необычное и странное. Рядовой Романов обвинялся в «умышленной порче военного имущества» – насыпал песок в цилиндр мотора автомашины. Следствие закончилось, преступление считалось доказанным.
На следующий день молоденький юрист, довольный, что успешно завершил «дело», положил передо мной объемистую папку. Я полистал документы. Формально все выглядело вроде правильно, неясным оставалось одно, что же побудило честного, никогда ранее не нарушавшего дисциплину солдата совершить преступление.
– Нет необходимости терять время, следствие проведено правильно, – сказал юрист, видимо недовольный тем, что я долго листаю бумаги.
– Почему вы так легко относитесь к судьбе человека, которого собираетесь отдать под суд военного трибунала?
– Согласно статье ему больше семи лет не дадут, – спокойно ответил прокурор.
– А вы представляете, что такое семь лет заключения? Да если еще не заслуженного? – возразил я и приказал дежурному вызвать солдата.
Вошел Романов, бледный, потерянный, видимо, он уже ни на что не надеялся.
– Вот что, Романов, – говорю ему, – передо мной дело о вашем преступлении. Мне осталось наложить резолюцию, и вас будет судить военный трибунал. Согласно статье уголовного кодекса вам дадут семь лет тюрьмы… Скажите чистосердечно, что побудило вас насыпать в цилиндр песок?
Взгляд у парня прямой, открытый, на преступника никак он не похож. Заметно, что сильно переживает случившееся.
– Я все время работал на одной машине, – рассказывает Романов. – Старался содержать ее как можно лучше, чтобы не отставать от товарищей – ведь аэродром строим. Сам видел, как погиб летчик в прошлом году, понимаю, что делаем важное дело. И вдруг меня пересаживают на другую автомашину. Обидно стало. И я захотел, чтобы эта «старушка» побыстрей отказала, надеясь, что мне сразу же вернут мою, прежнюю. Вот я и насыпал песку в цилиндр. Глупо, конечно, поступил, теперь осознал это, да поздно…
– Что ж, давайте решать, – сказал я, как только Романова увели. – Получается, что шофер сделал этот необдуманный шаг в общем-то из хороших побуждений: к машине привык, не хотел отстать от товарищей… – заметил Шираков.
– А почему об этом в материалах следствия ничего не сказано? – спросил я у юриста.
– Это к делу не относится, – ответил он. – Факт, что преступление совершено…
– Как это не относится? – возмутился Шираков. – Советские законы прежде всего воспитывают, а потом уже карают. Вот вы говорите, что Романову дадут семь лет тюрьмы. Семь лет! И за что? За необдуманный мальчишеский проступок…
Снова мы вызвали Романова. Я смотрел на него, и мне было по-человечески жаль его. Вид у него был такой, будто стоит он на краю пропасти и вот-вот полетит в бездну.
– Запомните, товарищ Романов, на всю жизнь, к чему могут привести необдуманные поступки, – сказал я как можно строже. Но видно, в голосе моем солдат уловил какие-то другие нотки. В глазах у него блеснул огонек надежды. Он подобрался и, вытянувшись, с затаенным дыханием ждал, когда я закончу.
– Рядового Романова арестовать на десять суток с содержанием на гауптвахте, – объявил я свое решение. – А так как он, находясь под следствием, отбыл этот срок, из-под стражи его освободить и отправить в подразделение.
Следователь смотрел на меня широко раскрытыми глазами.
– Я буду жаловаться своему начальству, – резко сказал он. – Выходит, я трудился напрасно.
– Почему же напрасно? – с улыбкой возразил Шираков. – Человек теперь еще больше будет уверен в справедливости наших законов – расследовали, разобрались, вынесли правильное решение. Правда, вы желали бы засадить Романова в тюрьму, искалечить ему жизнь, а мы оставили его полноправным гражданином, потому что надеемся на него. Вы что думаете: он не понял и не прочувствовал своей вины? Теперь и сам не позволит ничего такого сделать и детям своим закажет.
Я полагал, что с Романовым мы поступили правильно, и от этого испытывал чувство большого удовлетворения. Все-таки спасти человека – это хорошо, это в конце концов наш гражданский долг.
Истребитель садится без лётчика
Борьба за безаварийность в авиации ведется с тех пор, как взлетел первый самолет. И все-таки, по разным причинам, аварии до сих пор случаются.
Мы тоже настойчиво боремся с предпосылками к летным происшествиям. Самолет не выпускается в воздух, если есть какие-то сомнения в его исправности. Метеорологи стараются не ошибиться в прогнозах погоды. Командиры день ото дня совершенствуют организацию полетов и их радионавигационное обеспечение, словом, делается все возможное для того, чтобы избежать неожиданностей. Но аварийные ситуации тем не менее возникают время от времени, и именно там, где их совершенно не ждешь.
…Два летчика выполняли очередное задание – отрабатывали воздушный бой за облаками ночью. Зеленые и красные огоньки сближались с огромной скоростью. Только по ним «противники» могли определить разделявшее их расстояние и маневры. Закончив атаку, ведомый, молодой летчик Нечаев, пристраивается к командиру звена, опытному истребителю Кулачко. Задание выполнено, все идет нормально, никаких поводов для беспокойства нет.
Пара самолетов в правом пеленге приближается к аэродрому. Летчики ведут радиообмен между собой и с руководителем полетов. Вдруг стрелка радиокомпаса качнулась и отклонилась больше чем на сто градусов. «Прошли дальнюю радиостанцию, – решил было Кулачко. – Но почему стрелка не стала на сто восемьдесят градусов?» Сомнение вызывало и расчетное время: по всем данным аэродром должен находиться впереди по курсу.
«Может быть, переключают привод?» – терялся в догадках Кулачко. Запросив руководителя полетов, он услышал в ответ:
– Приводы работают нормально.
Такое же непонятное явление наблюдал и Нечаев. Дело в том, что недавно радиоантенны на самолетах были упрятаны в кабины, за плексиглас фонарей, что сделало радиокомпасы менее чувствительными. Летчики привыкли к этому, но позже, а теперь Кулачко и Нечаев оказались в затруднении.
Нечаеву повезло: увидев «окно» в облаках, он вышел на аэродром, правда, не на свой, а соседней части. Кулачко же проскочил мимо этого «окна» и летел, не меняя направления. Когда истекло расчетное время, он стал в вираж, надеясь, что дополнительно включенные радиолокаторы обнаружат его и штурман наведения поможет ему выйти на расчетный посадочный курс. Но он не подумал, что для этого ему придется снова отойти от аэродрома в обратном направлении. Штурман действительно вывел Кулачко на посадочный курс. Только в баках его самолета осталось горючего всего на три минуты. А до аэродрома было не менее семи минут лету.
– Приказываю катапультироваться! – скомандовал руководитель полетов.
– Вас понял, катапультируюсь, – ответил Кулачко, и связь с ним прекратилась.
– Авария, товарищ командир, – доложил мне Соколов.
Отдаю распоряжение утром снарядить несколько групп для поисков летчика. Теперь надо доложить о происшествии старшему начальнику. Два часа ночи. Он сейчас спит. Не хочется его тревожить, но надо. И я снимаю трубку телефона.
– Слушаю, Покрышкин. Что случилось?
– Кулачко катапультировался. Предположительная причина – отказ радиокомпаса.
– А почему не использовали радиолокатор для завода на посадку?
– На посадочный курс вывели, но у летчика не хватило горючего. Пришлось катапультироваться на высоте восемь тысяч метров.
– О Кулачко ничего не известно?
– Пока нет.
– Принимайте меры к розыску, утром прилечу.
Полеты пришлось закончить раньше времени. Ждем утра, не спим, совещаемся. Где приземлился летчик? Район этот не обжитый. Ночью можно угодить куда угодно: в лесное озеро, в болото, попасть на вершину дерева. Кулачко, правда, летчик опытный, но мало ли что может случиться… Лезут в голову мысли одна тревожней другой.
Когда на аэродроме в рабочее время наступает тишина, летчики знают: что-то случилось. Женщины внезапно предчувствуют неладное еще острее мужчин. Как только в городок пришли машины с летчиками, жены Кулачко и Нечаева, увидев, что их мужей нет, побежали к соседям.
– Где наши? – почти одновременно спросили они.
– Сели на другом аэродроме, не беспокойтесь. Утром по погоде прилетят, – ответил летчик.
Опустив головы, женщины с тяжелым предчувствием пошли домой. Всю ночь они будут сидеть, не смыкая глаз, прислушиваться, не едет ли автомашина…
А Кулачко в это время, удачно приземлившись в лесу, пробрался сквозь темень к железной дороге – на звуки паровозных гудков. К утру он дошел до станции и стал разыскивать телефон, чтобы связаться с аэродромом.
– Вы летчик? – спросил у него какой-то гражданин.
– Да, летчик, – ответил Кулачко.
– Что же вы самолет оставили без присмотра? Ведь там в кабине часы, радиостанция, другие приборы. Как бы ребятишки чего-нибудь не натворили.
– Где вы видели самолет? – скрывая удивление, спросил Кулачко.
– Да вот здесь, метров триста от станции, рядом с дорогой.
Кулачко побежал туда и увидел… свой самолет. Совершенно целый. Он сам, без пилота, сел с убранными шасси, только помял подвесные бачки.
Кулачко позвонил в штаб в момент, когда там собирались отправлять людей на розыски. Разговаривал с ним Скрипник.
– Летчик жив и невредим, – вскоре доложил мне начальник штаба. – Только, кажется, он не в себе: твердит, что на самолете нет никаких поломок.
Скрипник сообщил, где находится Кулачко, и мы с инженером вылетели туда на маленьком Як-12.
Под нами массив леса с редкими полянами. Вот и железнодорожная станция. Неподалеку от нее, на узкой полоске пашни, вижу реактивный истребитель.
Делаю два круга. Выбрав прямой участок шоссе, сажусь в пятидесяти метрах от самолета. Инженер первым выскакивает из кабины и бежит к истребителю.
Сомнений нет – и летчик, и машина в полном порядке. У нее действительно помяты лишь подвесные бачки. Выходит, что она не упала, а спланировала, и прямо на рыхлую пашню. Удивительно редкий случай. На следующий день мы перевезли самолет на аэродром. После тщательного осмотра и небольшого ремонта его снова поставили в строй.
Поиски и находки
На вооружение бомбардировочных полков начали поступать новые реактивные самолеты, отличающиеся большой скоростью, огромной дальностью и небывалой доселе высотой полета. В связи с этим перед нами, истребителями, встала задача – выработать новую тактику действий.
Когда мы попросили у вышестоящего командования разрешение на отработку воздушного боя с реактивными бомбардировщиками, то получили отказ. Нам сказали, что такие полеты являются пока экспериментальными и ими занимаются в специальных испытательных центрах.
Но летчик есть летчик. На первом месте у пего желание летать. И не как-нибудь, а быстрее и выше всех, не только повторять пройденное, но и штурмовать новые барьеры. Молодежь рвалась вперед, потому что ей вообще свойственны неуемная энергия и задор. А нами, фронтовиками, двигало уже ясное понимание требований современной войны, стремление быть на уровне последних достижений авиационной науки и техники.
– Товарищ командир, бомберы-то до стратосферы добрались, да и скорость у них чуть поменьше, чем у нас, – сказал мне однажды Соколов.
– В ближайшие дни полечу договариваться с ними о совместных полетах, – ответил я. – Они тоже в них заинтересованы.
Мы не имели права повторять прежние ошибки. Перед минувшей войной наши истребители не только вражеских, но и своих бомбардировщиков по-настоящему не знали. Не раз они путали СБ с «юнкерсами». Пока разбирались и учились воевать, фашисты к Москве подошли…
Через несколько дней я сказал Соколову: – С командиром бомбардировочного соединения договорился. Он одобрил наше предложение. Осталось решить вопросы взаимодействия и определить порядок изучения тактико-технических данных самолетов.
– Значит, можно надеяться?
– Не надеяться, а начинать готовить летчиков к воздушному бою в стратосфере.
– За нами дело не станет.
– Надо серьезно готовиться, – предупредил я. – И прежде всего хорошенько изучить особенности перехвата скоростных целей на больших высотах.
А таких особенностей немало. В разреженном воздухе самолет ведет себя совершенно иначе. Там маневрировать значительно труднее. Да и организм летчика будет испытывать гораздо большие физиологические нагрузки. Значит, нужно систематическими тренировками заранее подготовить себя к высотным полетам.
В полках и штабе дивизии стали регулярно проводиться занятия. Главный упор делался на изучение тактики воздушного боя в стратосфере. Расчеты показали, что труднее всего будет осуществлять сближение с «противником» и определять момент открытия огня. Сложных вопросов встало перед нами немало. Однако мы твердо решили учебные воздушные бои в стратосфере проводить.
Захватив наши разработки и примерную программу обучения, я вылетел к бомбардировщикам. Аэродром у них оказался добротным, с большой бетонированной полосой и широкими рулежными дорожками. Бросался в глаза и образцовый порядок во всем.
Как только я сел, ко мне стали подходить летчики, интересуясь моей маленькой, но грозной машиной. С присущей бомбардировщикам неторопливостью они залезали в кабину, пытаясь представить себе полет на истребителе.
– Здесь, оказывается, все надо делать самому, – с удивлением говорил молодой летчик.
– Да, браток, тут второго пилота и воздушного стрелка нет, за все сам отвечай, – вторили ему товарищи.
– Вы что, не видели истребителя? – спросил я.
– Вот так близко – нет, – ответил молодой летчик. Весь день мы работали в штабе бомбардировщиков, согласовывая различные вопросы. А потом бомберы прилетели к нам для знакомства.
Когда летный состав и расчеты командных пунктов обеих сторон тщательно подготовились, мы приступили к осуществлению своих замыслов. Первые полеты на перехват должны были выполнить истребители, имеющие боевой опыт.
…Я сижу в кабине самолета в готовности номер один. Метрах в пятнадцати от меня – машина Соколова. На другом аэродроме ждут сигнала командир эскадрильи Носов и замечательный летчик Алтунин.
Сигнал. Запускаю двигатель. Пока турбина набирает обороты, подтягиваю лямки кислородной маски. На индикаторе в такт дыханию расходятся и сходятся два лепестка: значит, кислородная система исправна.
– Разрешите взлет? – запрашиваю старт.
– Взлет разрешаю, – слышится в ответ. Самолет, погромыхивая на металлической полосе, набирает скорость.
– После взлета курс триста пять градусов, набор максимальный, – передает штурман с командного пункта.
– Понял, – отвечаю ему и делаю разворот. Вертикальная скорость пятьдесят метров в секунду, двигатель тянет машину на высоту.
Вслед за мной взлетел Соколов. Он идет где-то сзади справа, километрах в пятидесяти от меня.
На высотомере стрелка отсчитывает все новые тысячи метров. Знакомое потряхивание самолета говорит о том, что тропопауза пройдена, началась стратосфера. Какой здесь прозрачный воздух и до чего же яркое солнце!
– На эшелоне, – достигнув заданной высоты, передаю на землю.
– Включить форсаж, приготовиться к развороту, – слышу команду. – Разворот на курс сто сорок.
– Понял…
Включение форсажа заметно увеличило тягу двигателя, ощущаю перегрузку. Докладываю:
– Выполнил.
– Смотрите, цель впереди, справа по курсу, – передает штурман. Огромная серебристая машина идет встречнопересекающимся курсом. Занимаю исходное положение для атаки и начинаю сближение.
– Цель вижу, атакую, – передаю на землю.
Стараюсь атаковать так, чтобы самому не оказаться под огнем бортового оружия «противника». Бомбардировщик в прицеле. Удерживая его на центральной марке, продолжаю сближаться. Самолет не так послушен, как на средних высотах. Хочу вывести его из атаки, но он помимо моей воли проваливается, уходя ниже бомбардировщика. Уравниваю высоту, но невидимая сила тупым толчком перевернула истребитель почти на спину и бросила вниз. Двигатель угрожающе заурчал, его ровный гул стал прерываться глухим бульканьем. Скорость превысила звуковую, теперь самолет туго врезался в воздушную массу и помимо моей воли перешел в кабрирование.
– Девятьсот первый, что вы выполняете? – спрашивает земля.
– Попал в спутную струю, вывожу самолет и готовлюсь к повторной атаке.
– В струе очень болтает? – спрашивает меня Соколов.
– Самолет неуправляем, – отвечаю ему.
Повторяю атаки из разных, положений. Два захода кажутся наиболее удачными, но так ли это, выяснится только на земле, когда будет обработана кинолента.
– Атаки закончил, – передаю на землю.
Со снижением отваливаю в сторону аэродрома и беру курс на аэродром.
День за днем, вылет за вылетом набираемся мы опыта. Летчики все увереннее атакуют воздушные цели в стратосфере. Штурманы так освоили наведение, что с их помощью мы, фигурально выражаясь, с закрытыми глазами выходим на цель.
Пора переходить к ночным полетам. В действие вступают самолеты-перехватчики, оснащенные электронными прицелами. Здесь особенно выделяется своим мастерством неугомонный и пытливый летчик Алтуниц.
…Глубокая ночь. Через редкие перистые облака проглядывают крупные звезды. По телефону передали, что скоростной бомбардировщик поднялся в воздух. Штурманы на КП рассчитывают рубеж перехвата. Расчеты готовы, истребителю – взлет.
– Взлетел, на борту порядок, – докладывает Алтунин.
– Вам курс двести сорок.
– Понял.
На индикаторе радиолокатора навстречу друг другу движутся две светящиеся точки. Расстояние между ними быстро сокращается. Два самолета в бескрайном ночном просторе сближаются на бешеной скорости, летчики не видят друг друга, перед ними только приборы. Теперь атака – это дело целого коллектива, который работает на одного, наводя его на «противника».
– Разворот на курс шестьдесят градусов, крен тридцать, – передает штурман, не спуская глаз с индикатора.
– Понял…
На экране импульс от истребителя поплыл влево, описывая дугу. С каждой секундой он приближается к курсу бомбардировщика.
– Выполнил, – слышится с борта самолета.
– Цель впереди по курсу, удаление… скорость… высота… – передает штурман, внимательно следя за сближением отметок на индикаторе.
– Цель на экране, – докладывает Алтунин. И вслед за этим: – Атаку выполнил!
Алтунин пошел на посадку. А через пять минут в стратосфере появился другой перехватчик, чтобы атаковать воздушную цель.
– Еще две-три ночи и программу закончим, – докладывает Королев.
Я с удовлетворением думаю: «Закончим… Нет, не то слово. Точнее: решим одну задачу и приступим к другой, которую подскажет жизнь. Ибо нет предела летному мастерству».








