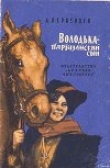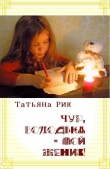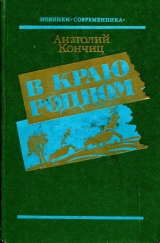
Текст книги "В краю родном"
Автор книги: Анатолий Кончиц
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
Володька всегда завидовал уверенным в себе людям, которые твердо знали свой завтрашний день или делали вид, что знают, и все у них расписано до самой смерти четко и ясно. Вон как у Василия. Знает, что опять ему идти в плаванье и надо впитать в свое тело побольше солнца, чтоб хватило на зиму. Лежит и впитывает, ни о чем не думая, ни о чем не беспокоясь и не тревожась.. Другое дело – Валентин Иваныч, председатель. Ему надо поднять колхоз.
А он, Мокрецов, никогда не знал, что ему делать завтра, куда его бросит послезавтра, в какой омут. Одно он знал, что им движет нужда в чем-то, неважно, в чем она выражается. Хочешь не хочешь, а катишься вперед, будто по железным рельсам, и ни в какую сторону не свернуть, не отступить назад, не остановиться. И вот ты вырвался в отпуск из этой железной нужды и сидишь тут, «дома», в каком-то безвременье. Не знаешь, вторник сегодня или четверг, прошлое это лето, позапрошлое или уже будущее, которое ты проживаешь авансом. Потерялся во времени.
Только видишь над головой небо, куда-то несется облако, обдувает ласковый ветерок. Галинка что-то бессвязно лепечет о траве, о лесах, о здешнем приволье. Но Мокрецову хочется крикнуть, что все это фальшиво, что в траве нет ничего необыкновенного, что цветы не красивые, а просто целесообразные. Трава цветет не для того, чтобы «ласкать взор», а чтобы размножаться. И небо синее вовсе не потому, что нам приятен этот цвет. И все, что окружает человека, равнодушно к нему, к его страданиям и радостям. И грустно им с Галинкой не потому, что в природе тишина и умиротворение, а потому, что они не устроены в жизни, не целесообразны, как природа, и мечты их несбыточны. А мечтают они оба о невозвратимом детстве, переживают оттого, что нельзя вернуться в это детство и начать жить заново с накопленным жизненным опытом…
– Вкусный пирог, – сказал Мокрецов.
– Очень рада, – улыбнулась Галинка. – Ну, мне надо идти, вон коровы уже встали. Пора. Еще увидимся.
– Увидимся, – согласился Володька и подумал: «Может быть, через год или уж никогда».
ЗАПРУДА
У Макарыча было трое сыновей да две девки. Сыновья уродились чернявыми, как угольки, а девки белесые, с рыжинкой, в него самого.
Изба у них стояла на обрыве, и огороды круто сваливались вниз, к реке. И тропинка у них была своя собственная к реке, прямо огородами.
Под обрывом бил ключ, и хилый ручеек сочился из этого ключа. И вот как-то Макарычу пришло в голову: а не запрудить ли этот ручеек? И ложбинка пониже его, куда можно воду собрать, потом рыбу запустить. В ключевой-то воде она любая приживется. Собрал сыновей, ну-ко, ребята, давайте этот ручеек запрудим да рыбы напустим.
Ребята довольны, дело необычное. Вбили колья, переплели ивой, через метровку снова колья переплели, земли набросали, и получилась плотина, запруда. Скоро в ямине накопилась вода. Напустили в пруд подлещиков, плотвы, всякой рыбы. Теперь надо Макарычу к празднику леща, берет сак и спускается по тропинке к запруде. Она невелика, вроде комнаты или чуть побольше, но вода проточная, и рыбе хорошо.
Сначала мало кто и знал об этой запруде. Она была в самых зарослях. Никому и невдомек, все знали, что испокон веку там бежит крохотный ручеек и воды-то толком не напьешься. А когда узнали, то лишь подивились чудачеству Макарыча. И никто не трогал рыбу в запруде. Сам придумал мужик, сам сделал. Зачем лезть к нему? И ходили за рыбой в реку или в озера.
А в запруде у Макарыча гуляло до десятка лещей, налимов, были и караси. Всегда на уху можно вычерпнуть.
Так бы и пользоваться Макарычу своим «рыбным хозяйством», но в деревне все-таки нашлись завистники, где их не бывает, нажаловались начальству. А тому и без Макарыча забот хватает, однако ж надо как-то рассудить дело. Пришел бригадир и покачал головой, мол, так-то и так-то, разговоры всякие идут, жалобы, лучше бы запруду убрать, чтобы глаза не мозолила. Пускай течет ручеек, как прежде.
– Да ведь я лишний раз в магазин не пойду, – пытался доказывать Макарыч. – Если я за свой счет питаюсь, то и у государства меньше еды съем. Значит, больше другим достанется.
– Все я понимаю, – сказал бригадир. – Ты мне не толкуй.
– Да ведь выгода, – с досадой сказал Макарыч.
– Что поделаешь, – пожал плечами бригадир.
– Тьфу! – плюнул Макарыч.
От расстройства мужик чуть было не запил, но одумался. Леший с ней, с этой запрудой, жили без нее и дальше проживут. Взял своих ребят и пошли ломать запруду. Было горько ему и тошно, жалко трудов своих, смекалки своей. Но был он человек послушливый, никогда не лез на рожон. Да и война многому научила, ногу потерял на войне.
– Ломайте, ребята!
– Да пошли они все! – разгорячился старший и глазами цыганьими засверкал. – Знаешь, где я их видал?
– Нет уж, Сережа, нельзя, – строго сказал Макарыч. – У нас все одинаковые. Никому так никому, всем так всем.
И сломали запруду. Крупную рыбу собрали, а мелочь выпустили в реку – пускай подрастает. Может, кто на удочку выудит, так и рад будет.
И опять ручеек побежал. Веселый такой, беззаботный и бесполезный ручеек.
– Эхма! Ведь с рыбой были, – говорит другой раз Макарыч, собираясь со своими ребятами браконьерствовать в озера. – И как это все на свете устроено, не пойму я, леший знает.
– Дуракам закон не писан, – отвечает ему старшой.
– Цыц, ты! Нечего тут разводить частную собственность.
Но тошно было Макарычу и казалось, что люди совсем потеряли толк. От добра добра ищут. Жалко не рыбы, а затеи.
Володька Мокрецов хаживал по берегу с удочкой и видел в свое время запруду Макарычеву. И на него находило какое-то благостное удивление, мол, как это хорошо придумали ребята, пускай хоть и в малом. Но ведь все начинается с малого…
Потом Макарыч заболел и помер. На другой год старший парень собрал своих братьев, и снова пошли делать запруду.
– А если опять запретят? – спросил меньшой, который нынче собирался идти в армию.
– Утоплю! – сверкнул глазами старшой. – Это память об отце, понял? Нам рыбы не надо.
– Понял.
Снова запустили карасей, лещей, плотву. Рыба развелась. Мужики в деревне про это узнали, но никто не пошел теперь жаловаться начальству. Тот, кто прежде жаловался, имел какие-то старые счеты к Макарычу, и теперь уж ничем не мог досадить ему.
Вскорости старшого за драку посадили в тюрьму года, видно, на два, на три, средний уехал на заработки, меньшого взяли в армию на подводные лодки. Остались одни девки. Пруд без присмотра зарос ольхами, одичал, запруда весной поразрушилась. Однако рыба водилась. Макарычева колдобина – так и прозвали это место.
Володька Мокрецов вообще любил всякие запруды и мельницы водяные, которых уж не было на свете, и на ручьях остались только места, где эти мельницы стояли, да тропки к ним, бывшие когда-то дорогами. И старики говорили, мол, тут стояла мельница. Да не может быть, ведь все заросло? Была тут мельница, и дорога была, ездили муку молоть.
А нынче взял мешок муки в магазине и стряпай пироги, если не день. А прежде стряпали не пироги, а ковриги, а потом мягкие, да еще на капустных листах, и колобушки, и пряженцы, и шаньги, и ягодники, капустники, а весной пекли детям жаворонков.
А Володькина бабка Парасковья много трав знала полезных, умела их отыскать в лесу, и в поле, и в логах. Другой пройдет около полезной травы, затопчет ее по своей темноте, а Парасковья нагнется да сорвет. Много знала она, а передать дочери эти знания не хотела. Володька же сущий ребенок, добрый. Таким, видно, и останется на всю жизнь. Да ведь одной доброты да жалостливости мало в жизни. И курицу другой раз надо зарезать, так ведь не идти же людей об этом просить, потому что жалко. Вот какие сомнения мучили Парасковью.
Володька сидел за столом, и вспоминались ему лужайка в густых зарослях у ручья, дорога к нему, заросшая и вся одичавшая. И ему чудилось, что по дороге скрипит телега, а на ней мешки с мукой. Едут мужики с мельницы, довольные помолом. А на мельнице мельник бородатый. Тут он и живет, на ручье. И будто мельник – это сам Володька.
А сейчас нету никакой мельницы, осталось только местечко величиной с печь да слабое мерцание памяти об этой мельнице, мерцание, которое скоро совсем погаснет. А надо ли, чтобы погасло? И сколько таких мерцаний в душе.
Но недосуг останавливаться на дороге и любоваться ими, надо бежать скорее вперед, потому что все бегут, не дай бог отстать. Там, впереди, что-то манит тебя.
Володька Мокрецов блуждал в этих душевных сумерках, напрягал внутреннее зрение свое, чтобы разглядеть мельницу, которой нет, и ту жизнь, которая прошла. Ему казалось, что люди слишком торопились вперед и в спешке забыли какое-то сокровище. И он, отставший от всех, должен найти это забытое сокровище и вернуть его людям.
В ПРАЗДНИК
По двору бродили куры да поклевывали травку. Иван Данилыч сидел на крыльце босиком, весь отмякший какой-то, улыбчивый. Может, он радовался, что сидит на своем крыльце, а не на чужом, что за спиной у него своя изба, срубленная еще покойным отцом. Лес привезен был для нее из-за реки, такого леса теперь нет, одни кряжи, конда. Отец как будто знал, что сыну придется жить в этой избе, что на войне его не убьют, вернется и станет жить. Поставил сруб, и простоял тот лет тридцать, никто в нем не жил, и печи там не было, и пола, но крыша и потолок были. Отец бы, конечно, доделал избу, но не успел – заболел и умер. Доделывать уж пришлось самому Ивану Данилычу, который сейчас был весел и беспечен.
Может, он веселился потому, что сегодня, в праздник, ему не дежурить у реки, не караулить коров, никого не хоронить. А главное – не дежурить. Так выпало ему по расписанию.
Недавно он встал из-за стола, вышел на крыльцо. На ступеньке сидел и курил Володька Мокрецов. Сидел и улыбался, хотя у него не было жены, не было избы, кур, бродящих по двору, поросенка в хлеву, коровы. Но ему нетрудно было все это вообразить, мол, он сидит на своем крыльце, а не на чужом, что делать нечего, на смену не идти, картошка у него окучена, а сам он хозяин, мастеровой, все знает, все умеет, и вся деревня, все деревенские окрестности были теперь его домом.
Разговаривать на серьезные темы в этот день Ивану Данилычу не хотелось, и оба они молчали. Иван Данилыч вздохнул. Как-то непривычно было ему сидеть без дела. Но так уж заведено, что в праздник ничего не делалось. Разве что подоишь корову, истопишь печь или сходишь в колодец за водой, но какое это дело?
На крыльцо вышла хозяйка и сказала усмехнувшись:
– Что пригорюнились, мужики?
Иван Данилыч в ответ улыбнулся.
Хозяйка постояла, поглядела вокруг и ушла в избу полежать. В праздник не грех и полежать, никто слова не скажет.
Курица полезла было на крыльцо, но Иван Данилыч смахнул ее со ступенек, сказавши серьезно, как человеку:
– Кыш, нечего тебе тут делать.
Володька заметил:
– Скучно ей, вот и лезет.
– Это нам скучно, а не курице, – возразил Иван Данилыч.
Володька бросил окурок в траву. «Начертить бы план деревни, – подумал он, – с дорогами, с полями, с ручьями, и о каждом месте написать историю или случай какой, что дошел до меня. Чтобы потом посмотреть на этот план и все вообразить. А то забудется жизнь, пропадет». И тут же себе вяло возразил: «А для чего тебе это?» Настоящей жизни мало? Но ведь и та была настоящая, а не приснилась во сне. Только она прошла. Вот и вся разница, эта проходит, а та прошла».
Тут подошел к ним Михеич, тогда он помирать еще не собирался. Было у него какое-то бабье лицо, не угловатое, а мягкое, вроде подушки, незначительное. Маленькие глазки его бегали, как два мышонка. Сам он вдруг улыбался, и тут же улыбка пропадала с его лица, которое, будто гармошка, то растягивалось, то сжималось.
– Здорово, мужики! – сказал Михеич и стал рассказывать, что пива наварено у него маленько, да пить вот только некому, нету нынче гостей.
– Нету никаких гостей, – сказал Володька. – А раньше…
– Перевелся теперь гость.
Умолкли. Курили да поплевывали кому куда сподручнее. Михеичу, видно, хотелось поговорить с Володькой, все-таки свежий человек в деревне, гость. Лицо у Михеича сморщилось в улыбке, и тут же разгладилось, и снова сжалось. Но Иван Данилыч позвал всех в избу, за стол, мол, в праздник положено за столом сидеть, а не калякать. Все чего-то развеселились. Веселился больше Иван Данилыч, рассказывал, что повытворял в своей жизни Михеич. А тот поддакивал, и лицо его сжималось и разжималось все быстрее.
– Расскажи-ка, Михеич, как ты воду из угла пустил. Я сам свидетель. Сидели это мы в чайной, обедали.. А Михеич вдруг говорит: «Смотрите-ка, из угла ведь вода побежала!» Бабы, какие были, подолы задрали, кто на стол полез, тонут.
– Гипноз, наверное, – недоверчиво сказал Володька.
– Ну-ка, Михеич, пусти воду из угла! – попросил Иван Данилыч.
– Могу попробовать, – усмехнулся Михеич и обратился к Володьке. – Надо ли?
– Лучше не надо. Нам тут еще воды не хватало.
Лицо Михеича разгладилось, и он сказал с тоской:
– Нету уж силы никакой, ребята.
– Это от курева, – объяснил Володька.
– Так и врачи сказывали, – покорно согласился Михеич. – Помирать вот неохота.
– Не помирай, – сказал Иван Данилыч.
– Да ведь как не умрешь, – с жалкой улыбкой сказал Михеич. – Смерть придет, ее с порога не прогонишь.
На лбу у него собрались капельки пота, он курил свой «Север» папироску за папироской.
– Поживешь еще, – не совсем уверенно сказал Иван Данилыч. – Ну-ко ты покажи нам фокус, какой у реки казал. Со стаканами-то знаешь?
– Смогу ли, ребята? Силы не те.
– Какие тут тебе силы, не дрова рубить, – отмахнулся Иван Данилыч. – Кажи давай.
Михеич взял телогрейку и накрыл ею на полу два стакана. На телогрейку положил зимнюю шапку Ивана Данилыча и скомандовал:
– Стаканы, идите под шапку!
Иван Данилыч сам убрал шапку с телогрейки, на ней лежали оба стакана. А Володька хорошо помнил, что лежали они на полу.
– Телекинез, – пробормотал он.
– Чего? – переспросил Иван Данилыч.
– Да ничего, – смутился Володька.
Раза три еще Михеич показывал фокус. Иван Данилыч от души смеялся. Было хорошо и весело им, но тут пришла жена Михеича и заругалась тихонько:
– Леший тебя по людям носит.
– Иду, – покорно сказал Михеич.
– Что за человек этот Михеич? – спросил Володька у Ивана Данилыча, когда те ушли.
– Есть у нас всякие чудаки, – усмехнулся тот, – Идем-ка мы с тобой под березу в огород.
Мужики легли в тени березы, закурили и стали смотреть на облака. Иван Данилыч вскоре задремал, положивши под голову телогрейку.
Володька тихонько оставил его и пошел за деревню. Вспоминалась прежняя жизнь, не выбросишь ее из головы.
Он спустился в овраг к студенцу. Тут прежде лепилась на склоне их баня. Теперь не осталось никаких примет: ни тропинки, ни каменницы и ни одного уголька. Голый песок, обрыв.
Он вышел из оврага и двинулся по краю обрыва. Здесь, как и прежде, росла береза.
Володька лег под ней и вспомнил, что они ребятишками любили залезать по ее стволу. Да мало ли чего когда было?
Он лежал и думал, почему для одного человека такой пустяк, как овин, баня, береза, значителен, а для другого чепуха, прах. И видно, он какой-то урод, раз эта чепуха ему дорога до слез. «Ну и пусть я урод, – подумал Володька. – Все равно люблю. И помирать буду, вспомню все это и пожалею».
Он встал, чтобы поискать земляники. Когда-то она была охоча расти тут, около березы. Пока топилась баня, он не одну горсть набирал. Теперь земляники не было, ни одного кустика. Что-то сильно изменилось в мире. Или он сам изменился? А скорее всего и то и другое…
Когда он вернулся в избу, Иван Данилыч сидел на стуле и поглядывал в окошко. Володька развалился на диване, из которого выпирали пружины, и не знал, что ему делать. День был какой-то суетливый и бестолковый, хотя никто ничего и не делал. Хотелось сходить к Наташке, она приглашала. Но напрасно он пытался вызвать образ той Наташки, какую он любил когда-то, и совместить этот образ с теперешней Наташкой. Эта была совсем не похожа на ту.
– А ведь сегодня твой праздник, Иван Данилыч, – сказал он. – Все Иваны нынче именинники.
Володька погасил окурок в пепельнице и уныло добавил:
– Совсем тихо в деревне.
Какое-то тревожное чувство охватило Володьку, будто какая-то внутренняя лихорадка, опять повлекло его куда-то идти, что-то услышать, вставить слово в общий разговор. Такое неприятное состояние, будто его выпихнули из очереди и не пускают обратно, или разжевал кусок хлеба да никак не можешь проглотить. «Бесполезный я человек, – подумал он. – Никому от меня ни тепло ни холодно. А жить все равно охота, жить да еще и радоваться, и быть счастливым».
– Пойду-ка я к реке рыбу удить, – сказал вдруг Володька.
– Кто в праздник рыбу удит! – неодобрительно сказал Иван Данилыч. – Опять, твое дело, удь.
У реки Володька встретил Наташку, как будто они заранее об этом условились. Наташка купалась, платье ее валялось на траве. Она окликнула его из воды:
– Володя, иди купаться.
– А что, вода теплая?
– Теплая.
Володька разделся и нырнул, подплыл к ней и молча обнял. Она не взвизгнула, не заругалась, ни о чем не спросила и ничего не сказала. Он совсем близко увидел ее глаза, и что-то дрогнуло в нем:
– Теперь я тебя узнал. Глаза твои. Что-то осталось в них. А вот морщинок под глазами не было.
– Что поделаешь, – вздохнула она, но как-то легко и беспечно, с улыбкой. И вдруг он почувствовал к ней беспредельное доверие.
Они вышли из воды.
Володька подумал, что той Наташки уже не будет никогда, да и его, того, не будет никогда. Тот, что есть сейчас, совсем не тот, а другой. И оба они это хорошо знают, хоть и сидят рядом, и он гладит ее мокрое плечо. И не надо ему обнимать эту женщину с Наташкиными глазами.
– Ну я пошла, – вдруг сказала она.
– Посиди еще.
Наташа покачала головой, схватила платьице и ушла.
– Ну и дурак я, – пробормотал Володька.
Он понял, что не побежит догонять ее, как прежде, потому что теперь уже не догнать ни ее, ни прожитые годы.
СЛУЧАЙ С ИВАНОМ
1
Так уж вышло, что Иван предполагал в жизни одно, а получилось совсем другое. Ехал на тракторе с тележкой, торопился домой, а очутился в больнице, где пришел в сознание только через три дня.
В сознание хоть и пришел, но не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой и никакой мышцей. Все было изломано, перемолото, ноги и руки в гипсе, ребра помяты, голова забинтована, дышалось хрипло и больно.
Ничего он, конечно, этого не видел, потому что и глаз не мог открыть, просто ему казалось, что придавлен он тяжелым камнем, тем самым, что испокон веку лежал в поскотине около дороги. Еще ребятишками они спорили, есть ли на свете человек, который сможет поднять этот камень, и приходили к выводу, что такого человека на свете нет. И вот теперь как будто нашелся силач, поднял камень и придавил им Ивана.
«Доехал я до моста, что через речку Ольховку, – стал рассуждать Иван. – А тут кто-то на машине вылетел навстречу. Поворот крутой, темно, ничего не видно, мост узкий. Двоим никак не разъехаться, никак…»
Тут в голове у него загорелся такой черный вихрь, что сознание снова ушло, потерялось.
Сосед по койке белобрысый паренек Вовка встрепенулся, ему померещилось, что Иван простонал. «Помрет, наверное, – со страхом подумал он. – Третий день не шевелится. И доктор головой покачал на обходе. Ну да, может, и оклемается. Вон и кровь переливали».
И правда, Иван не помер. Не дали помереть люди, оживили, кое-как поставили на ноги.
Как уж потом рассказывали в деревне, Иванов трактор свалился с моста. Вовку, который ехал с ним, выкинуло из кабины, или он сам выскочил, на свое счастье, тоже парень ничего не помнил с горячки. В общем, Вовка отделался переломом руки да испугом, а Ивана придавило крепко, едва добыли из кабины.
На той же машине, что шла им навстречу, и увезли обоих в больницу, хотя шофер, дюжий пожилой мужчина, устроивши Иваново тело в кузове, махнул обреченно рукой, мол, нечего и в больницу везти, а уж лучше прямо на кладбище, потому что не довезти живого, а ему самому самое верное сразу идти к властям да добровольно садиться в тюрьму, не ждать, пока заберут.
И что за проклятый мост, устроился как раз на самом крутом повороте, и с двух шагов не видно, есть ли кто впереди, нет ли никого. Однако шофер живо доставил пострадавших в больницу и сдал их врачам. Так удачно доехал, что даже ни разу не забуксовал…
Всю весну Иван провалялся в больнице, научился потихоньку разговаривать, шевелиться. Переломанные кости удачно срослись, как и положено живым костям, синяки и ссадины зажили, однако голова все еще дурила, пробитая в одном или двух местах, хотя этого теперь и не было заметно, так как волосы немного отрасли.
Врачи и больница сделали свое дело, и теперь держать его было ни к чему, можно долечиваться и дома, у фельдшера. Поэтому однажды среди лета Ивана потихоньку привезли домой, внесли в избу и положили на диване. Фельдшеру Прокопию Степановичу велено было каждый день приходить и делать укрепляющие уколы. Ну и должен быть, конечно, на первых порах подобающий уход со стороны домашних. Так было растолковано доктором Дашке, Ивановой бабе.
Однако смотреть за Иваном было особенно некогда, баба с утра до ночи с колхозными коровами, сын служил в армии, где-то в пограничных войсках, девки замужем, разъехались по всему государству.
Дашка попривыкла к покалеченному своему мужу, как-то притерпелась. Только когда приезжала проведывать в больницу, то первые разы не могла удержаться от слез, увидев вместо мужика белую неподвижную куклу, всю в бинтах да в гипсе, так что и глаз не видно. По ее красным обветренным щекам слезы так и покатились горошинами.
– Вот до того стало жалко мужика, что заревела, – рассказывала она своей напарнице, доярке Катьке, с которой вместе этим летом караулила колхозных коров. – Ведь, бывало, разругаемся до смерти. Думаю, хоть бы тебя леший уволок, окаянного, до того надоел со своими чудесами. А тут вон как…
– Ладно хоть живой остался, – сказала Катька.
– Да уж только об этом и думаю. Ладно, хоть живой.
Дашка затемно, с утра, управлялась дома и уходила доить колхозных коров, потом стадо гнали к реке караулить.
Иван, сидя у окошка, провожал Дашку взглядом, оттаивал душой, завидев ее, расторопную, шуструю, звонкоголосую.
Стадо проходило, и Ивану у окошка делать больше было нечего, однако он продолжал сидеть. Как-то необычно было для него это праздное сиденье, и что на работу не идти, и дрова не рубить, и не сенокосить. Он бы, конечно, и рад за что-нибудь приняться, да силы не было.
За время болезни от него, как говорят, остались кожа да кости, пробитая голова временами начинала болеть, в ней взвивался черный вихрь и гасил свет Иванова сознания.
Каждый день приходил фельдшер Прокопий Степанович, делал уколы и бинтовал голову.
– Для чего перевязывать-то? Зря только бинты изводить, – говорил Иван старику фельдшеру. – Ведь уже затянулось все и волосьями заросло.
– Для надежности. Это ведь голова, а не нога, чтоб мусору всякого не попадало в твою голову, – шутил Прокопий Степанович. – Есть еще ранка.
– Мусору-то у меня в голове хватает, – усмехался Иван.
– Мусору у каждого в голове хватает, – говорил Прокопий Степанович.
– Кабы не мусор в голове, разве бы люди попадали в такие истории, как я? – отвечал на это Иван. – Дураки мы, вот что я скажу. И мне бы только едь потихоньку, так нет, надо все скорей…
Между тем устоялось жаркое лето. Временами перепадали дожди, в колхозе уж начали сенокосить, за реку была переправлена косилка, и ребятишки-школьники стали выкашивать на лошадях заливные луга. Для мужиков была другая работа, они метали сено в стога. В общем, началась самая страда, а Иван все сидел у окошка, будто прирос к скамейке.
Изба у него стояла на краю деревни, на самом бугорке, и выходила окнами в поле, где колосилась рожь. За полем зеленел лес.
Иван сам срубил избу на этом месте, когда пришел с войны, сильно уж полюбился ему этот бугорок в стороне от дороги, никто тут не мешал жить, ни люди, ни скотина. Напротив избы в огороде поставил баню, а около бани – погреб. В общем, все хозяйство у него было налажено и устроено, как надо, как ему самому нравилось.
С людьми и соседями он мало общался, мол, чего с ними разговаривать и о чем? Все уже давно сказано да пересказано. Хотелось ему покоя и прочности, уверенности в жизни, да чтоб не было войны. Хотя в любом случае сам он уже отвоевался и по возрасту, и по теперешнему здоровью…
Больше всего удивляло Ивана его нынешнее состояние: то, что еле держится на ногах, дунь ветер, так и унесет. Другой раз и голова не болит, и с виду здоровый, а силы никакой нету, ноги не стоят, руки не держат. До ветру из избы выйти – и то целое путешествие, будто в город съездить.
– Вот ведь дело-то какое, – удивлялся Иван. – Я теперь вроде ребенка трехлетнего, ничего не умею.
Он и правда чувствовал себя неразумным ребенком и, главное, беспомощным, которого надо кормить и поить с ложечки, одевать, обувать, вытирать нос да рассказывать сказки. Как будто и не было всей его прежней жизни, никогда не воевал, не вырастил детей, ничего этого не было, отдалилось за тридевять земель, померкло, как меркнет свет за тучей.
А есть только одно: сидит он у окошка, посматривает на поле ржи, на дальний лес, на голубое небо и тела своего не чувствует, будто превратилось оно в одну слабость и беспомощность. Однако язык во рту послушно ворочался, и Иван мог разговаривать сам с собой, рассуждать:
– Вот какая история получилась. Предполагал одно, а вышло другое. Всякое у меня в жизни бывало. И повоевал маленько и бабу обнимал, Дашку мою. Она баба ничего, я, конечно, сильно не хвалю ее, но и ругать не стану. Две девки да парень родились. Как и положено в любой семье… Однако ж на трактор больше не сяду. Это железо теперь не по мне. Возьми ты лошадь, к примеру, ну пал я с лошади, так она ведь никогда не наступит на человека, перешагнет или спятится. А машина? Что ей стоит придавить да изломать? У нее ведь ума нет.
Порассуждавши так, он шел к зеркалу и долго изучал себя, удивляясь своему непривычному обличью. Из зеркале выглядывало на него желтое, худое лицо, торчащий из бинтов нос да запавшие, о чем-то вопрошающие глаза.
– Как танкист обожженный, – усмехался Иван.
Танкист? А ведь и правда лежал когда-то с ним в госпитале танкист, Валеркой звали. И Иван шатался по избе, задумавшись, где теперь этот танкист, пока его не осеняло, что парень тот так и помер от ожогов, никто не слышал его голоса. Однако все в палате почему-то знали, что зовут его Валеркой…
Летние дни тянулись тихо. Иван томился в избе от безделья, потом стал выходить, держась за стенку, на крыльцо, где просиживал до вечера. И такая слабость одолевала его, что не было сил отогнать комара, тело совсем не слушалось, Ивану казалось, что он может полететь над землей, как пушинка, в потоках теплого воздуха. Сбегутся люди, станут указывать на него и кричать:
– Ивана-то ведь унесло с крыльца! Дашка! Мужик твой полетел!
А Данилыч, сосед его, бежит от своей избы и руками размахивает:
– Иван! Бросай якорь! Куда полетел-то хоть расскажи? Не в магазин ли?
– А куда понесет!
Иван с усмешкой качал головой: «Вот дело до чего дошло, парень. Совсем ведь сдурела голова».
О том шофере, что выскочил из-за поворота, не думалось плохо. «Оба виноватые, так что поделаешь? – рассуждал Иван. – И он бы мог нырнуть под мост. Ему на этот раз повезло, а мне не повезло. О чем тут еще говорить? Делу теперь не поможешь. Кабы знал, где упадешь, соломки бы не поленился подослал. Да и что после драки кулаками махать?»
Разбитая голова вроде позажила, еще больше обросла волосами, бинты фельдшер совсем снял. Иван достал свою старую кепку и прикрыл ею розовые зудящие шрамы. На первых порах ему показалось, что в кепке как-то нехорошо, неловко, давит будто бы железным обручем. Однако надо было привыкать. Видать, жизнь еще не кончилась у Ивана. Но он понимал, что прежней жизни у него уже не будет никогда, не вернуться ему к ней. А надо начинать новую, загадочную, неясную.
2
В деревне об Ивановом случае много не рассуждали. Сначала, конечно, поговорили, поохали, повздыхали. Ну да ведь что поделаешь, с каждым такое может случиться. И на ровном месте спотыкаются.
Бабы жалели Дашку, мол, нелегко ей будет теперь с инвалидом. А потом успокоились, вспомнив, что дети Дашкины все пристроены, девки замужем, а Санька в армии дослуживает последний год. Всех подняли на ноги, вырастили Дашка с Иваном, так теперь и делать вроде нечего, никаких забот. Если что, Иван и инвалидом проживет, без пенсии государство не оставит. Ну, а если сенокосить трудно Дашке одной, то ведь колхоз доярке всегда поможет. Тут не о чем хлопотать да расстраиваться.
Говорили и о том, кто больше виноват в этом происшествии, шофер, который ехал навстречу, или Иван? Однако решено было, что или оба виноваты, или уж никто не виноват, так как оба ехали трезвые, а виновата окаянная дорога.
Старик Геня ворчал, мол, техники понаделали, а дорог не устроили. Вот и гробятся и техника, и люди.
Он был соседом Ивана и даже приходился родней, и они нередко беседовали, когда случалось по утрам выгонять на пастбище своих коров, пока Иван не обезножел.
Старику Гене уж перевалило за седьмой десяток, он носил бороду и любил рассуждать, показывать свое недовольство, что жизнь у людей какая-то чудная стала, непонятная ему, старику. Мол, нынче лишняя копейка завелась, так скорей несут ее в магазин вино брать. А то продадут корову да купят телевизор или мотоцикл, лишь бы деньги извести. А прежде ведь копейку хранили да и каждую вещь берегли. А теперь и башки своей не жалеют. Он намекал на несчастный случай с Иваном.
Его старуха Анна обычно соглашалась с ним, только добавляла, что люди бога забыли, вот и вся беда от этого. Взять хотя бы того же Ивана, бывал ли он за свою жизнь один разочек в церкви? Старик Геня не любил, когда старуха начинала рассуждать, и недовольно возражал, что на бога нечего валить, если сам дурак. Он жалел Дашку, которая приходилась ему племянницей, и бранил Ивана:
– Куды теперь ей с инвалидом-то? Она ведь и так вся запуталась со скотом, а тут еще и калека на руках.
– Да ведь не разведешь теперь, – отвечала на это Анна. – Не молоденькие.
– Не разведешь, – вздыхал Геня. – А моя бы воля, так я бы развел, хоть на год. Пускай бы один пожил. Узнал бы, почем фунт лиха.
Как-то повздыхавши да поругавши Ивана, он сказал Анне:
– Пойду попроведаю, чего он там, как. Родня ведь все-таки.
– А я бы на месте Ивана дак в суд подала, – высказалась вдруг неугомонная Анна.
– На кого?
– Да на шофера этого. Пускай платит, раз человека покалечил.
– Тебе бы только в суд. Ишь прокурорша выискалась, – рассердился Геня. – Да у этого шофера пятеро человек детей, и вина в рот никогда не берет. Ишь ты, в суд. Лучше помолчи, не раздражай меня.