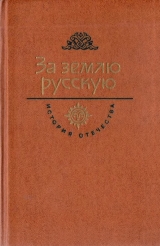
Текст книги "За землю русскую. Век XIII"
Автор книги: Алексей Югов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 35 страниц)
Но тем был велик гонитель народов, что в жалком пленном китайце, в рабе с верёвкой на шее, которого нукеры уже собирались повесить, он, Чингис, прозрел обширный ум державостроителя, законоведа и возлюбил паче всех этого бескорыстного, и чистого совестью, и бесстрашного, как Сократ, китайского мудреца. И не постыдился Потрясатель вселенной, и не устрашился ропщущих – и сделал пленника и раба почти соправителем своим!.. И тот созидал ему державу, тем временем как сам Чингис ширил пределы её!.. А вот уже сыны Чингиса[33]33
...сыны Чингисхана – Справедливость требует заметить, что Елюй Чу-цай попал в опалу после смерти Угэдэя в 1241 году, когда из «сынов» Чингисхана оставался в живых один Чагатай, да и тот, по-видимому, был занят войной в Малой Азии и умер около 1242 года.
[Закрыть] прогнали и унизили китайского мудреца, которому столь многим обязаны... Внуки же – этот оплывший кумысный турсук Менгу, подручник Батыя, – хотя и платят былому соправителю деда жалкое пособие и время от времени шлют к нему сановников своих за советом в Бейпин, однако вовсе не понимают, что, оттолкнув Ели-Чуцая, никто из них, будь он трижды великий полководец, не повторит собой Чингисхана.
Александр Ярославич тогда, два года тому назад, нарочно посетил опального старца в Бейпине.
И Ели-Чуцай подарил Невскому эти песочные часы.
– Помни, князь, – сказал при этом старый китаец, – хотя бы ты и разбил это хрупкое мерило времени, но перестанет течь лишь песок, а не время!..
И Александр никогда не забывал этих слов мудрого конфуцианца.
Вот и сейчас Невский, которого взгляд остановился на стеклянных вместилищах песка, отсчитывающих жизнь, вдруг как бы вздрогнул и спохватился.
– Худо... – пробормотал он с досадой, потирая лоб. – Пожалуй, опять не засну!.. Уж не захворал ли я?.. А ведь выспаться ох как надо!..
Он обернулся к мальчику:
– Вот что, Настасьин, пойди к лекарю Абрагаму и скажи, что я зову его.
Мальчик просиял и подобрался.
– Разбудить? – спросил он решительно.
– Не спит он. Ступай! – с некоторым раздражением отвечал Невский.
Вошёл доктор Абрагам – высокий и худощавый старец лет семидесяти. У него было красивое тонкое лицо, очень удлинённое узкой и длинной, словно клинок кинжала, белой бородой. И борода, и редкие седые кудри, прикрытые на затылке угловатой шапочкой, казались особенно белыми от чёрной бархатной мантии и огромных чёрных глаз еврея.
Белый полотняный воротничок, как бы сбегая на грудь двумя бахромчатыми струйками, сходился в острый угол. На строгой одежде старика не виднелось никаких украшений, лишь на левой руке блистал золотой перстень с большим рубином.
Александр Ярославич встал и приветливо повёл рукою на кресло, стоявшее обок стола.
Доктор Абрагам был врачом их семьи уже свыше двадцати лет. Когда-то он по доброй воле сопровождал князя Ярослава Всеволодича в страшный, доселе памятный на Руси, да и в норвежских сагах воспеваемый зимний победоносный поход в страну финнов – Суоми[34]34
...победоносный поход в страну финнов – Суоми... – В 1256 году в ответ на непрекращавшиеся посягательства шведов на новгородские владения Александр Невский совершил зимний Финляндский поход. Замысел похода был необычайно смелым и трудным. Уже с полдороги часть новгородцев покинула князя. Оставшиеся шли на лыжах в мороз и метель, короткими зимними днями, по полному бездорожью. «Был путь зол, не видно ни дня, ни ночи, и многим идущим настала погибель», – сообщает летописец. Перейдя Финский залив, Александр со своим отрядом вошёл в земли финского племени емь, незадолго перед тем захваченные шведами. Появление русского отряда вызвало восстание еми против шведов. Разгромив опорные пункты шведов, Александр в конце зимы вернулся в Новгород с победой.
[Закрыть]. В чёрный год Новгорода, когда люди мёрли «железо́ю»[35]35
Смерть железою (древнерус.) – то есть от чумы.
[Закрыть] – так, что даже всех скудельниц города не хватило, чтобы вместить все трупы, – доктор Абрагам отпросился у Ярослава Всеволодича не уезжать с князем во Владимир, но остаться в чумном городе и помогать народу. Он любил этот великий город, вечно в самом себе мутящийся, город всемирной торговли, на чьих торжищах обитатели Британского острова сталкивались с купцами Индии и Китая, где встречались испанец и финн, араб и норвежец, хорезмийский хлопок и псковский леи. Он любил этот город вольного, но и неистового самоуправления, возведённого как бы в некое божество, – эти Афины Севера, город-республику!
Он любил этот город, где никого не преследовали за веру, где суровые заколы охраняли и жизнь, и свободу, и достояние вверившегося городу чужеземца.
Это ничуть не мешало тому, что доктор Абрагам из только запирал наглухо все двери в своей лаборатории, закладывал подушками окна, но ещё и влагал в слуховые свои проходы куски хлопчатника, пропитанного расплавленным воском, в те особенно грозные дни, когда улицы Новгорода полнились до краёв народом, текущим двумя встречными враждебными полчищами; когда конец подымался против конца, улица против улицы, Софийская сторона против торговой, купцы и ремесленники на бояр; когда созванивали сразу два веча, а потом то и другое, каждое под боевым стягом, и не с дрекольем только одним, но и с мечами, и с копьями, и в кольчугах, разнося попутно по брёвнышкам дворы и хоромы бояр, валили на Волховский Большой мост, чтобы там – без всяких дьяков и писцов – разрешить затянувшиеся разногласия по вопросам городского самоуправления.
...Год, который доктор Абрагам оставался в Новгороде, был поистине страшный год! Чума, голод, мятеж вырывали друг у друга верёвку вечевого колокола. Скоро осталось только двое – чума и голод, ибо стало некому творить мятежи. Некому стало и сходиться на вече. Некому стало и хоронить мёртвых. Работу могильщиков приняли на себя псы и волки. Обжиравшиеся мертвечиною псы на глазах людей лениво волочили вдоль бревенчатых мостовых, поросших бурьяном, руки и ноги, оторванные от трупов... Все чужеземцы бежали. Ни один из-за моря парус не опускался, заполоскав вдоль мачты, возле просмолённых свай пристани! И тогда-то вот и запомнили оставшиеся в живых новгородцы, надолго запомнили «чёрного доктора», «княжого еврея», как прозвали Абрагама.
Безотказно, и по зову и без всякого зова, появлялся он в зачумлённых домах, в теремах и лачугах, возле одра умирающих или же только заболевших, – всегда в сопровождении немого, хотя и все слышавшего слуги, нёсшего в заплечном окованном сундучке медикаменты доктора.
Что́ он делал с больными: какими средствами поил их – осталось безвестным. Но только могли засвидетельствовать оставшиеся в живых, что «чёрный доктор» не только не боялся подойти к умирающему, но и возле каждого садился на табурет, и подолгу сидел так, глядя страдающему в лицо, и – по словам летописца, – «вземши его за руку» и что-то шепча при этом, словно бы отсчитывая. Этим его странным действиям и приписывали в Новгороде некоторые исцеленья, совершенные доктором Абрагамом. Если же больному умереть, то, подержав его за руку, княжеский доктор вставал и уходил. Да ещё рассказывали о нём, что это по его наущенью посадник объявил гражданам, что ежели кто не хочет впускать злое поветрие к себе, тот пореже бы ходил по соседям и держал бы свой дом, и двор, и амбар в чистоте; каждодневно бы мыли полы, натирали всё тело чесноком, и не валялось бы ни в коем углу остатков пищи, дабы не прикармливать смерть. А когда подают пить болящему, то повязывали бы себе платком рот и нос.
По совету доктора Абрагама, от посадника и от тысяцкого вышло воспрещение складывать тела умерших по церквам и скудельницам, и понапряглись, и потщились, и стали предавать умерших земле на дальнем кладбище.
Как бы там ни было, но, в меру знаний своих и воззрений своего века, быть может, во многом и опережая их, главное же – не щадя сил и жизни, доктор Абрагам пробыл весь чумной год в Новгороде, предаваясь уходу за больными, творя над ними и над собой всё, что повелевала ему Александрийская школа Эразистрата, ученью которого в медицине он убеждённо следовал.
И новгородцы полюбили его! Когда наконец Ярослав Всеволодич, худо ли, хорошо ли, а кой-как помирился с господином Великим Новгородом и они вновь позвали его на княжение, доктор Абрагам, которого князь считал уже заведомо погибшим, спокойно, с приветливостью, но и с достоинством встретил князя, как, бывало, встречал и прежде, – на княжеской малой пристани, близ кремля.
Со времени чёрного года отец Александра взирал на своего медика как на человека, для которого существует иная мерка, чем для прочих людей. И горе было тому, кто попытался бы копать яму под его доктором на основании только того, что он «жидовин»! Впрочем, отец Невского, следуя в том примеру великих предков своих – Владимира Мономаха, Юрья Долгие Руки, Андрея Боголюбского, Всеволода Большое Гнездо, – резко выделялся среди государей Европы своей предельной веротерпимостью и радушием к чужеземцам, какой бы они ни были крови, если только с чистой совестью, без камня за пазухой они приходили служить Руси, Этой веротерпимостью его подчас недовольны были иные из иерархов церкви.
Епископ новгородский Спиридон вскоре после чумного года повёл как-то однажды с доктором Абрагамом откровенную беседу о том, какая завидная участь досталась бы ему здесь, на Руси, – участь, которой позавидовал бы любой прославленный медик и кесарей Византии, и государей Европы, – если бы только доктор Абрагам принял святое крещенье и переменил веру!
Доктор Абрагам слегка склонил голову перед верховным иерархом господина Великого Новгорода и отвечал укоризненным полувопросом:
– Разве вера – рубашка, что ос следует менять?
...Таков-то был человек, с которым сейчас беседовал Невский.
– Я вижу, ты также не смежал очей своих в эту ночь, дорогой мой медик? – начал Александр, дождавшись, пока доктор Абрагам уселся в кресло.
– Ограничивая сои старцев, господь через это самое как бы возвращает им для труда время, погубленное в юности: в молодости я слишком много спал, ел и празднословил! – ответил Абрагам.
– Полно! – возразил ему Александр. – Те великие знания, коими ты обладаешь, они не спаньём добываются, не чревоугодием, не праздностью!
Абрагам укоризненно покачал головою.
– Твоё величество хочет испортить раба твоего!.. Мои знанья!.. – воскликнул он с горечью. – Нет, государь, во прахе простирается раб твой перед необъятностью непостигнутого!..
Наступило молчанье.
– Что́ больной наш? – спросил Невский.
Глаза старика блеснули.
– Сухость и чистота... сухость и чистота, государь! – убеждённо воскликнул старик. – Ежели полгода проводить на сыром ложе, тут заболеет и здоровый!.. Надо провеивать семена! Нельзя хранить их в сыром вместилище... Я... – да простит меня государь! – память стала мне изменять: я забыл, как называют наши русские земледельцы это вместилище – для семян и муки?
– Сусек, – подсказал Александр.
– Сусек, сусек!.. – обрадованно подхватил доктор. – Сусек, старая моя голова! – ещё раз повторил он и, как бы укоряя себя, постучал пальцами о свой лоб. – И ещё, государь, – продолжал он, – бдительно следует наблюдать, чтобы и самые семена были сухи...
Невский, в знак своего одобрения и вниманья, время от времени наклонял голову.
– И ты ручаешься, что мы одержим полную победу над блошкою и над червём?
– Полную, государь! Пусть не увидеть мне детей своих! – поклялся еврей.
Чем дальше продвигался их разговор, тем яснее становилось, что разговор идёт обо льне.
Льняное хозяйство Невского, то есть, вернее сказать, хозяйство его крестьян, сидевших на оброке, в последние годы шло из рук вон плохо. Много было к тому причин, и главная причина – татары, батыевщина, неизбытое и доселе опустошение земли, умерщвление и угон землепашцев. Кто погибнул, обороняя Рязань, Москву, Суздаль, Переславль, Владимир, кто – в кровавой битве на реке Сити, вместе с великим князем Юрьем Всеволодичем, а кто сгноён в работе татарской, в пустынях Монголии. Те же, кто уцелел, укрылись в тёмные леса, боры великие, где ветру запутаться, змее не проползти!
Народ уцелел. Но рухнуло земледелие! Земля, вожделеющая плуга, лежала впусте, порастая лядиною и чертополохом. Гнили опустевшие, без призора, овины, избы, амбары, пригоны, став прибежищем диких зверей.
Из Владимирщины в Новгородскую землю Батый прошёл великим Селигерским путём. Сто вёрст лишь оставалось до Новгорода. Вырезай и сожжён был Торжок. Обширнейшая полоса издревле сущего здесь льноводства легла под копыта татарского коня.
А тут, как нарочно, да и нарочно же – год в год с Батыем пущена была рукой Ватикана, пришла в неукоснительное движенье на восток другая, западная, немецкая половина тех чудовищных, многотысячевёрстных чёрных клещей, которыми враг думал сокрушить сотрясаемое изнутри распрями князей государство русского народа.
Злейший враг Невского, папа Григорий, как раз в год Батыева нашествия спешно благословил слиянье двух орденов немецких – Тевтонов и Меченосцев. С высоты апостолического престола преданы были анафеме и новгородцы и Александр. От магистра, от императора, от герцогов и государей Швеции, Дании, Германии папская булла требовала – привести к повиновенью апостолическому престолу Землю русских – «terram Ruthenorum», поход на Новгород приравнен был папою ко взятию Иерусалима, к освобождению гроба господня от мусульман. Хладеющая рука этого злобного старца щедро разбрасывала по всей Европе буллы и райские венцы. Эти последние он сулил и рыцарям и ландскнехтам – всем, кто под знаменем католического креста двинется на восток, на «землю рутенов», которые, дескать, суть такие же язычники, как татары, и подлежат обращению.
И навстречу татарскому союзнику своему двинулся кованою стопою – на Псков, на Новгород – алчущий земель рабов и добычи «miles germanicus», германский воин, «дыша угрозами и убийством».
Все отозвались на призывы святейшего отца: и датчане, и англичане, и шведы, и финны. Соревнуя немецкому воину и по участи райских венцов, и по части серебристого псковского льна, и новгородской пушнины, и многого другого, в одно время с немецким воином ринулись на Россию и Вольдемар датский, дотоле прозывавшийся Победоносным, презрев кипящую в его жилах русскую кровь – кровь родной матери, и великий ярл Швеции – ненасытимый славою Биргер Фольконунг, «пыхая духом ратным». Да и суровые народы ямь и сумь – те, что обитают в Финнмарке, – финны двинулись, гонимые папским легатом, английским епископом Томасом, засевшим в крепости Або. Правда, ещё до начала похода, разъярённые бичом, которым загонял он их в купели с крестильной водой, финны растерзали англичанина.
Другой легат апостолического престола, Вильгельм Моденский, лично возглавлял немецкую армию, осаждавшую Псков.
Да и как же им всем было не использовать чудовищный таран батыевщииы, который громил в ту пору самые устои русской державы?..
И вот уже, как писал негодующий летописец, «окаянные немцы прошибошася великой свиньёю» – излюбленным в ту пору немецким бронированным строем кованой рати – поперёк всей Псковской земли. Ещё немного – и вот железное рыло чудовищной свиньи этой вплотную соткнулось бы где-то в пределах новгородских с косматой, злой мордой татарской лошади.
Но тут с челобитьем слёзным послали новгородцы к великому князю, к Ярославу Всеволодичу: «Дай нам сына своего на княженье опять!» Но он младшего дал им сына своего, Андрея. И вновь зашумело над Волховом, будто тёмные боры в бурю, у белокаменных степ Софии, всевластное вече Новгородское и уж владыке своему, епископу Спиридону, «с боярами лучшими» велело идти с челобитьем новым: «Не младшего, но старшего дай нам сына твоего, Олександра, – Олександра дай нам!»
И сжалился князь великий Ярослав и не вспомянул им непрестанные их неправды и крамолы, ибо уж не один тут Псков, не один Новгород, а всю Землю Русскую пришло время заградить рукой крепкою и мышцей высокою, и дал-таки им сына своего старшего Александра, который столь недавно был изгнан из Новгорода боярами новгородскими – теми, что держали торговлю с немецкими городами и Готским берегом.
Юноша Александр – тогда всего лишь двадцати двух годов – с новгородцами да с владимирцами своими на Чудском, у Вороньего камня, расхлестал бронированное рыло вражеского чудовища, этого тысячеголового железного кабана, и кровь его хлынула чёрным потоком, разъедая апрельский хрупкий лёд. И была тут сеча – злая и великая – и немцам, и чуди, и датчанам; гром стоял от ломлений копий, и звук от панцирного и мечного сеченья – будто льды двинулись! И не видать стало льду – залило кровью...
Дали немцы плечи свои! А наши гнали их, иссекая этих рыцарей-гладиферов, то есть меченосцев, – гнали на протяжении семи вёрст по льду, вплоть до Суболического берега, и не было им куда убежать, укрыться на ледяной ладони, на гладкой, на многовёрстной! Пало их бесчисленное множество. Взошло солнце – и вот стальные туши убитых рыцарей там и сям сверкают на льду. Так, когда в апреле приходит пора погреба набивать льдом на лето, и примутся мужики ломами, пешнями колоть и взламывать лёд на озере или на реке, и засверкают по всей площадке наваленные в груды льдяные глыбы, матёрые кабаны льда, доколе не погрузят их на телеги и не повезут в сырую, тёмную ямищу, – так вот и рыцари лежали – застывшие – в холодных, сверкающих панцирях своих.
И вот отгремела великая Ледовая битва, и сам процептор ордена, утупя очи, с высыпавшей на бледные щёки рыжей щетиной, с верёвкой на шее, с заброшенными на крестец и связанными руками, идёт, по-волчьи выбуривая очами на псковитян, за хвостом белоснежного коня, на коем высится отрадно дышащий Александр.
А позади и остальные ступают, проходя тесниною псковичей, – пятьдесят знатнейших, верховных рыцарей отныне в веки и в веки посрамлённого ордена!..
И того же лета уже присылают немцы послов именитых с поклоном: «Всё вернём Великому Новгороду, что заяли мечом, – ото всего отступаем. Дайте нам мир!..»
И «даша им мир, на всей воле своей, на Новгородской». И успокоилась Земля от войны. И принялася врачевать свои лютые рапы и великую свою кровавую наготу, ибо и татары не грабили так, не наготили, как грабили – и людей, и землю, и дома, и овины – эти окаянные.
Скорбя и негодуя, писал во время самой осады псковский летописец, инок Спасо-Мирожского монастыря, быть может за эти-то как раз строки и умерщвлённый немцами: «Окаяннии же немчи льны со стлища посымаша, и из овинов лён выгребоша, даже и до ко́стры. И тако на возы поклаша к собе».
Знал великий магистр, не хуже, чем купцы Любека и Гамбурга, что этот «шёлк русский» оборачивается для Руси и серебром, и золотом, и корабельною снастью, и дамасскою сталью мечей и кольчуг, и медью, и оловом, и свинцом, и многим, многим другим, что ввозилось из-за моря.
Но и внутренний враг губил льны: год за годом истреблял лён лютый льняной червь, который сжирал всё дотла: и лист, и цветок, и даже стебель. Так было и в прошлом и в позапрошлом году. Посаженные на льняное хозяйство крестьяне, делавшие из доли княжескую землю, – смерды – принялись разбегаться. Хлеба они не сеяли, только лён, а уж в княжеских житницах не хватало зерна – помогать им.
Потом присунулась ржавчина и тоже много попортила волокна. Купцы новгородские печаловались князю Александру: уж другой сбор волокна пришлось отдать немецким купцам за ничто! Сперва думали, что промеж всеми немцами стачка: в торговле дело обычное. Нет! То же самое и ольдерман Готского двора сказал, опробовав лён. Да и ту же цену дал: пошло всё по третьему разбору. Многие разорились.
Желая помочь своим мужикам, да и купцам тоже, Александр Ярославич решил безотлагательно заняться досмотром льняного хозяйства самолично и всё доискивал и присматривал человека – честного, и рачительного, и льновода, – а меж тем подумалось ему, что уж кто-кто, а доктор Абрагам (великий знаток всяких трав и зелий) сможет же чем-либо помочь против этих лютых врагов – против льняного червя, блошки и ржавчины.
Доктор Абрагам (это было весною) близко к сердцу принял горе своего князя. Он пожалел только, что Александр Ярославич не говорил ему ничего об этом раньше. Старик обещался клятвенно отныне все помыслы и труды свои направить на поиски надёжных средств для защиты льна от врагов. И то, что сейчас он поведал Невскому, – это было итогом полугодовых раздумий, поисков и скитаний по льняным нивам, стлищам, амбарам, итогом многих безвестных ночей, проведённых старым доктором в его тайной лаборатории.
– И ещё, государь, – говорил старый доктор, – мнится мне, помогло бы и это...
Доктор Абрагам достал из нагрудного кармашка чёрной мантии кусочек выбеленной под бумагу телячьей кожи, развернул его и вынул засохший цветок с жёлтой, как солнце, сердцевиной, с белыми, как снег, узенькими лепестками.
Александр принял на свою ладонь цветок. Понюхал его. Узнал. Улыбнулся.
– Ребятишками звали – пупавник, – сказал он, возвращая цветок.
Доктор Абрагам кивнул головою.
– Так, государь. И думается мне, ежели начать с порошком сего цветка смешивать семя льняное, уготованное для сева, то и добрая будет защита от гусеницы, поедающей цветок льняной и стебель.
– Добро! – знаменуя этим окоп чаи не беседы о льне, произнёс Александр. – Всё, что доложил ты мне сегодня, скажу волостелям своим исполнить. Взыщу сам. Строго.
Тут по лицу Ярославича прошла вдруг усмешка, и, поразив неожиданностью доктора, он спросил:
– А скажи, нет ли у тебя порошков таких, доктор, от коих бы сгинула не та, что цветок льняной сжирает, гусеница, но та, что сердце человеческое точит?
И, сказав это, он остановил взор свой на белом, как гипс, лице медика.
Тот так и не доискался слова: настолько это было необычно в устах этого гордого и скрытного человека, которого он таковым знал с детства.
– Государь... – начал было он, тяжело вздохнув и разведя руками.
Однако Александр не дал ему договорить.
– Знаю, знаю, – сказал он, как бы торопясь придать своим словам оттенок шутки, – медицина ваша бессильна в этом. Однако иные обходятся и без вас: червя, сосущего сердце, они другим, ещё большим лихом изживают – змием зелёным!.. То не про меня!..
Он угрюмо постучал пальцами о крышку стола. Наступило молчание.
– Снотворного чего-либо дай мне, – произнёс Невский. И, увидя, сколь поражён этим требованием его старый медик, пояснил: – Боюсь, не остановлю разгон мысленный!.. А надо как следует выспаться: путь дальний, тяжкий... Мы же завтра... да пет, сегодня уже, – поправился князь, взглянув на пророзовевшие завесы окон, – выезжаем. Сперва – ко мне, в Переславль. Оттуда – в Новгород.
Доктор Абрагам задумался. Эта просьба государя о снотворном! Этот отъезд на другой день после свадьбы брата!..
Однако, воспитанный четвертьвековою придворною жизнью и дисциплиной, он не позволил себе хоть чем-либо означить своё удивление.
– Какого же снотворного прикажет государь?
Невский откинулся в кресле, чуть насмешливо и удивлённо посмотрел на врача:
– Тебе ли, о доктор Абрагам, спрашивать меня об этом?
– Прости, государь! Я хотел спросить только: на краткое время ты хочешь забыться сном или же хотел бы погрузиться в сонный покой надолго?
Невский вздохнул.
– Мужу покой – одна только смерть! – сказал оп. – А вздремнуть часок-другой не худо: путь дальний.
На этот раз всегда сдержанный и краткий в своих суждениях доктор Абрагам хотел было впасть в некоторое учёное многоречие.
– Так, государь, – сказал оп. – Когда прибегающий к врачебному пособию для обретения сна жаждет сна ненадолго, но крепкого, то в таком случае Гиппократ Косский предпочитает молоко мака... Но уже сын его...
– Не сын, не отец, – чуть раздражённо перебил его Невский, – а что предпочитает доктор Абрагам?
Старик наклонил голову.
– Когда мы хотим добиться, чтобы человек уснул близко здоровому обычному сиу, то, искрошив с помощью резала корень валерианы...
Но ему не пришлось договорить: чей-то мальчишеский голос из тёмного угла палаты вдруг перебил его.
– А у нас вот, – сказал голос, – деданька мой, мамкин отец, когда кто не спит, придут к нему за лекарством, – он мяун-корень[36]36
Мяун-корень – в народной медицине название валерианы.
[Закрыть] взварит и тем поил...
И князь и доктор в равной степени были поражены этим голосом, столь неожиданно вступившим в их беседу.
Потом Невский громко рассмеялся и, обратясь в ту сторону, откуда послышался голос, произнёс полушутя-полусердито:
– Ах ты!.. Ну как же ты напугал меня, Настасьин... А ну-ка ты, лекарь, подойди сюда...
Григорий Настасьин, потупясь, выступил из своего угла и остановился перед Александром.
Невский созерцал его новый наряд с чувством явного удовлетворения. Доктор Абрагам смотрел на мальчугана с любопытством.
– Да какой же ты у меня красавец стал, Настасьин! – сказал Невский. – Всех девушек поведёшь за собой!
Гринька потупился.
– Стань сюда, поближе... вот так, – сказал Ярославич и, взяв Гриньку за складки просторного кафтана мел? лопаток, переставил его, словно шахматного конька, между собою и доктором Абрагамом.
Озорные искорки сверкнули в глазах старого Абрагама.
– А ну, друг мой, – обратился он к мальчику, – повтори: как твой дед именовал эту траву, что даёт сон?
– Мяун, – не смущаясь, ответил Гринька. – Потому что от неё кошки мявкают.
Князь и доктор расхохотались. Затем старый врач важно произнёс:
– Да, ты правильно сказал. Но от Плиния мы, врачи, привыкли именовать это растение «валериана», ибо она, как гласит глагол «валёре», подлинно оздоровляет человека. Она даёт здоровый сон!
– А я много трав знаю! – похвастался обрадованный Гринька. – И кореньев! Дедушка уж когда и одного посылал... Бывало, скажет: «Гринька, беги-кось, ты помоложе меня: у Марьи парнишечка руку порезал...» А чего тут бежать? Эта кашка тут же возле избы растёт. И порезником зовут её... Скоро кровь останавливает!..
– А ещё какие целебные травы ты знаешь, отрок? – вопрошал старый доктор.
Гринька, не робея, назвал ему ещё до десятка трав и кореньев. И всякий раз старик от его ответов всё более и более веселел.
– А ещё и вредные растут травы, ядовитые! – воскликнул в заключение Настасьин. – У-у! Ребятишки думают, это пучки, сорвут – и в рот. А это сикавка, свистуля! От неё помереть можно! И помирают!
Тут он живо описал доктору Абрагаму ядовитое растение пёстрый болиголов. Старик не мог скрыть ужаса на своём лице.
– О-о! – воскликнул он, обращаясь к Невскому. – Вот, государь, этим как раз растением, о котором в такой простоте говорит этот мальчик, отравлен был некогда в Афинах величайший мудрец древности...
– Сократ? – произнёс Невский.
– Да, государь...
Наступило молчание. Оно длилось несколько мгновений. Затем Абрагам снова пришёл в необычайное оживление и воскликнул:
– Этот чудесный отрок – поистине дар небес для меня, государь! О, если бы только... Но я не смею, государь...
– Что? Говори, доктор Абрагам.
– У меня была давняя мечта – узнать, какие целебные травы известны русским простолюдинам. Ведь вот даже знаменитый Гален пишет, что он многие травы и коренья узнал от старых женщин из простого народа... Когда бы ты соизволил, государь...
Старик не договорил и посмотрел на Гриньку. Невский догадался о его желании. Тут они перешли с доктором на немецкую речь. Настасьин с тревогой и любопытством вслушивался. Понимал, понимал он, что это говорят о нём!
А если бы ему понятен был язык, на котором беседовали сейчас князь и лекарь, то он бы узнал, что старик выпрашивает его, Гриньку, к себе в ученики и что Невский согласен.
– Григорий, – обратился к Настасьину Александр, – вот доктор Абрагам просит тебя в помощники. Будешь помогать ему в травах. А потом сам станешь врачом. Согласен?..
Гринька от неожиданности растерялся.
– Я с тобой хочу!.. – сказал мальчуган, и слёзы показались у него на глазах.
Невский поспешил утешить его:
– Полно, глупый! Ведь доктор Абрагам при мне, ну стало быть, и ты будешь при мне!.. Ладно. Ступай, спи. Утре нам путь предстоит дальний!..

Тысячевёрстный длительный путь между Владимиром на Клязьме и Новгородом Великим совершали в ту пору Частью по рекам Тверце и Мете, а частью конями. И немало на том пути приходилось привалов, днёвок, ночёвок!..
...Чёрная осенняя ночь. Тёмный, дремучий бор – бор, от веку не хоженный, но ломанный. Разве что хозяином лесным кое-где ломанный – медведем. В таком бору, если и днём из него глянуть в небо, то как из сырого колодца, глубокого.
Огромный костёр из двух цельных, от комля до вершины, громадных выворотней, пластает, гудёт на большой поляне. В такой костёр и подбрасывать не надо: на всю ночь! На этаком бы кострище быков только жарить на вертеле великану какому-нибудь – Волоту Волотовичу или же Святогору-богатырю. Да и жарят баранов, хотя и не великаны, зато целая дружина расселася – до сотни воинов – по окружию, поодаль костра.
Видно, как от сухого жара, идущего во все стороны от костра, отскакивают с треском большие пластины розовой кожицы на стволах сосен. Хвоя одного бока пожелтела и посохла.
С багровыми от жара лицами, воины – и бородатые и безусые – то и дело блаженно покрякивают, стонут и тянут ладони к костру. Другие же оборотились к бушующему пламени спиною, задрали рубахи по самый затылок и калят могучие голые спины, красные как кумач.
Время от времени то одному, то другому из богатырей становится всё ж таки невтерпёж, и тогда, испустив некий блаженный рёв, как бывает, когда парни купаются, обожжённый исчезает во тьме бора, где сырой мрак и прохлада обдают его и врачуют ему спину.
Сверкают сложенные позади каждого кольчужные рубахи, островерхие шлемы – чечаки, мечи и сабли: не любит Александр Ярославич давать поблажки. «Ты – дружинник, помни это. Не ополченец, не ратник, – говаривал он. – Доспех, оружие тебе не для того даны, чтобы ты их на возы поклал да в обозе волочил за собою, а всегда имей при себе...»
От кострища в сторону отгребена малиновая россыпь пышущих жаром угольев. Над нею, на стальных вертелах, жарятся целиком два барашка, сочась и румянея.
Тут же, в трёх изрядных котлах, что подвешены железными крюками на треногах, клокочет ключом жидкая просяная кашица – кулеш.
У одного из воинов, который слишком близко придвинулся к костру, да и задремал, упёршись подбородком о могучие кулаки, сложенные на коленях, вмиг посохла и принялась закручиваться колечком борода.
Его толкнул в плечо товарищ:
– Михайло! Мишук, очнись! Бороду сгубил...
И все подхватили, и зашумели, и захохотали:
– Сгубил... Сгубил... Ну, теперь баба не примет тебя, скажет: «Это не мой мужик, а безбородая какая-то некресть!..» И впрямь загубил бороду... будь ты неладен...
Так, соболезнуя и подхохатывая не по-злому, перемелькали перед беднягой едва ли не все соратники его: и Еска Лисица, и Олиско Звездочёт, и Жила Иван, и Федец Малой, и Дмитров Зелёный, и Савица Обломай, и Позвизд, и Милонег, и Бонн Федотыч, и даже Карл какой-то, хотя заведомый рязанец. Здесь и греческие – «крещёные», насильно внедряемые в народ, – и древние, языческие, «мирские» имена мешались с какими только ни пришлось прозвищами и с начавшими уже слагаться фамилиями.
– Ведь экую в самом деле красу муськую потратил!.. Бить тебя мало, полоротый! – с горьким прискорбием, без всякой насмешки, проговорил старый благообразный воин.
Л подпаливший бороду, ражий большеглазый мужик, словно бы и впрямь чувствовал себя перед всеми виноватым за погубление некой общественной собственности: улыбаясь и помаргивая, объяснял он чуть не каждому, кто приседал перед ним и засматривал ему в лицо:
– Да как-то сам не знаю... замечтал... домачних своих воспомнил!..
А его не переставали поддразнивать:








