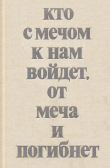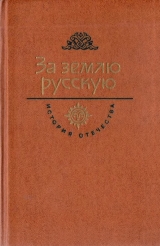
Текст книги "За землю русскую. Век XIII"
Автор книги: Алексей Югов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 35 страниц)

ЧАСТЬ 3
Много воды утекло, а немало и крови! Стоял ноябрь 1257 года.
...Будто бор в непогодь, и шумит и ропщет Новгородское вече.
– Тише, господа новгородцы! – возвышает голос свой Александр. – Меня ведь всё равно не перекричите!..
Умиротворяющим движеньем, подступя к самому краю вечевого помоста, князь подъемлет над необозримо-ревущим толпищем свою крепкую ладонь, жёсткую от меча и поводьев.
Далеко слышимый голос его, перекрывающий даже ропот новгородского великовечья, прокатывается до грузных каменных башен и дубово-бревенчатых срубов, с засыпом из земли и щебня, из коих составлены могученепроломные стены новгородского детинца – кремля. Он ударяется, этот гласу боевой трубы подобный голос Невского, об исполинские белые полотнища стен храма Святой Софии, и они дают ему отзвук. Он даже и до слуха тех достигает, что толпятся на отшибе, у подножья кремлёвской стены; да и на самой стене, под её шатровой двухскатной крышей, да и на грудах щебня и на кладях свежеприпасённого красного кирпича, да и, наконец, на теремных островерхих и бочковидных крышах, так же как на кровлях всевозможных хозяйственных строений и кремля. И кого-кого только здесь нет! Тут и вольный смерд – землепашец из сёл и погостов, те, что тянут к городу; и пирожники, и сластёнщики с горячим сбитнем; и гулящие жёнки-торговки с лагунами зелёного самогонного вина, приносимого из-под полы, ожидающие терпеливо своего часу, хотя и люто преследует их посадник и выслеживают вечевые подвойские и стража. Однако и добрые, заботные жёны тоже пришли сюда, надеясь, быть может, углядеть в этом толпище своего и как-нибудь да пробиться к нему, а нет – так подослать продиристого в толпе сынишку, дабы рванул за рукав тятю – кормильца и поильца семьи – и как-нибудь уволок его отсюда, если, как нередко бывает, возгорится побоище.
Виднеются кое-где среди этой толпы и островерхие чёрные скуфейки монахов и послушников из Антоньевского и Юрьева монастырей.
Множество огольцов-ребятишек лепится на стенах, на кладях кирпича, на кровлях, и уже вечевая стража, дворники и подвойские, охрипнув, перестали их прогонять.
«А и пёс с ними! – решает один из биричей. – Пускай привыкают: добрые станут вечевники – робеть не станут перед князьями, перед боярами!..»
От голоса, проникнутого спокойствием, и от простёртой руки Ярославича вече стихает.
– Ишь ты ведь! – полу сердито-полулюбовно гудит, взирая на Александра, стоящий близ вечевых ступеней чернобородый, но уж с серебряной проволокой седины в бородище, богатырь-новгородец в разодранном на груди кафтане, ибо уж кое-где хватались меж собою за грудки. – Ишь ты, ведь выкормили себе князя: уж и на самех на нас, на господина Великого Новгорода, навыкнул зыкати!..
Впервые на протяжении веков великий вольнолюбивый город и его князь – князь, которому и впрямь от младенчества этот город был как бы суровый и многоликий дядька-пестун, взрастивший и вскормивший его, – впервые они стояли под стать друг другу, и не только стояли вровень, но уж временами сильно начинал перебольшивать князь. И тогда, зачуяв это, яростно дыбился, и рычал, и обильно уливал кровью землю, раздирая когтями междоусобицы своё собственное тело, древний и грозный город – город-республиканец, многобуйные Афины Руси!..
Трудное будет сегодня вече. Давно уж не бывало такого. Мирно, видать, не разойдутся. Ибо неслыханное предстоит дело: самому на себя господину Великому Новгороду ярмо переписи ордынской взвалить, иго злой дани татарской надвинуть. С тем ведь и приехал Ярославич. Ну что ж! Пускай хоть и великий князь, пускай и с послами татарскими приехал, а ведь тою же дорогою и отъехать может, если только господину Великому Новгороду зазорно будет голову свою, доселе никому не поклонную, под ханский дефтерь подклонить. Боялись ли они хоть кого-либо на свете, господа новгородцы? Да никого! Только бы городу всему – и с пригородами, и с младшим братом Псковом – за одно сердце быть. Однако и сегодняшнее вече, как многие прежде того, «раздрася на ся», раскололось. И вот что диво: на сей раз бояре да купцы именитые – пояса золотые, – те не против князя, а на его руке, а те, кто, бывало, валом валил за него, меньши́е люди, простая чадь, – они и слышать не хотят, вопль подымают на князя, на татар.
Сермяги, полукафтанья, армяки, полушубки у всех накинуты на одно лишь плечо – на левое: древняя русичей привычка: правая рука чтоб к мечу, к бою – без помехи! Цветные нагрудные петли кафтанов – длинные, обоесторонние – у многих уже порасстёгнуты: добрый молодец новгородский, да и крепкий мужик-подстарок, а короче сказать – любой матерой вечник, – он уж расправляет на всякий случай – могутные свои плечушки!
Суконные шапки с косыми отворотами, пуховые шляпы, стёганые яркие колпаки, отороченные мехом, – у одних натянуты по самые уши, а у других даже за пазуху спрятаны: не потерять бы, когда по-доброму не уладятся. А где ж – по-доброму?! Уж слыхать в народе: богачины пузатые – они сегодня из-за того по князю по Александру велят кричать клевретам своим, что по нраву им татарская раскладка пришлась: татарин поголовную дань требует, одинаковую с любого, – богатый ты или бедный: попал в перепись – и плати! – не по достатку! Вот они и согласны, купцы, бояре: себе – легко, а меньшим – зло!.. Тут им и господина Великого Новгорода не стало, ни дома Святой Софии, и нет от них крику, чтобы на татарина всем народом подняться: боятся животы свои разорить, над мошной трясутся!.. Переветники, изменники Великому Новгороду!
Несмотря на свежий ноябрьский ветер, дующий с Волхова, без шапки стоит, студя большое чело и возлысую, седую голову, посадник Михайла Степанович.
Да и все они, кто сидит на уступчатых скамьях вечевого помоста, в своих лоснящихся на солнце меховых шапках: и тысяцкий Клим, и старые посадники, и княжие бояре, и бояре владычные, и старосты всех пяти концов новгородских, и купецкие старосты иванские, – все эти именитые господа, вятшие мужи новгородские, они с поклоном снимают головные уборы, как только выйти им на край помоста хоти бы и с кратким словом к господину Великому Новгороду.
Один только князь не сымает во время речи свою соболью, с парчовым золотым верхом, круглую шапочку: ну, так ведь князья – они ж народ пришлый, не свой, не новгородцы. Да и шапка соболья, златоверхая, – то́ им как бы вместо венца: такую князь, он и в церкви не сымает... Купечество, пояса золотые, – на скамьях же, с боярами наравне.
Вот Садко, гость богатый, повыставлял в толпе своих молодцов, во главе с ключником своим, городским, а сам как ни чем не бывало, – будто и люди те не его, – сидит наравне с боярами на скамье вечевого помоста, сцепив руки, унизанные перстнями, смежив ресницы, и словно бы не слушает, что говорит князь. А между тем зорко всматривается из толпы ключник гордеца купца, как сцепляются у хозяина пальцы, и зависимо от того подаёт знак своим – либо вопить и горланить, либо угомониться.
А вот и старый резоимец, кровавый нетопырь-кровопийца, ростовщик-боярин из роду Мирошкиничей, – он тоже здесь, под защитою наёмной своей ватаги – боярчат, прокутившихся и залезших к нему в неоплатные резы, или же купцов удалых, у которых товар пошёл тупо, и вдались ростовщику; под защитою, наконец, и бесчисленной челяди своей, да и всяких продажных горланов и проходимцев.
А те, что мятутся, вопят и ропщут пред ними, внизу, на вечевой площади, меж стеной кремля и храмом Святой Софии, – они как бы опутаны все незримою мотнёю исполинского невода и мечутся, влекомые ею, а им кажется, что своей собственной волей. И крылья этого огромного незримого невода – они там, на помосте, в этих боярских да купеческих, унизанных перстнями неторопливых и умелых руках.
Однако бывает, что и затрещит, что и лопнет вдруг эта народообъемлющая мотня боярского невода, и ринется оттуда народ, и тогда – горе, горе владыкам великого города, а беда и самому городу!
Правда, не только по боярам, по верховодам, по золотым поясам стаивали на вечах. Каждое вече расстанавливалось по-разному: глядя по тому, какое дело вершилось, в какую сторону качнулся народ.
Выстраивались: Торговая, Заречная сторона, онполовцы, против Софийской или Владычной стороны, и тогда казалось, будто и самые души, самые помыслы новгородцев навеки развалил на два стана этот жёлтый, широкий, даже и на взгляд-то студёный Волхов.
Выстраивался и конец против конца, хотя бы и одной стороны, одного берега они были. Стаивали друг против друга и по улицам, и по цехам. Сплошь и рядом, даже и не враждуя, особым станом становились на вече: мельники и хлебопёки, кожевники и сапожники, плотники и краснодеревцы, серебряники и алмазники, каменные здатели и живописцы, плиточники и ваятели-гончары, корабельники, грузчики, портные и суконщики, железники и кузнецы, бронники и оружейники, рудокопы и доменщики, мыльники и салотопы, вощаники и медовары.
Бывало, что одни улицы стояли против князя, а другие – за князя. Бывало, что ежели не переставали дожди на жатву, на уборку хлебов и хлеб гнил на корню, то всем Новгородом спохватывались, что ведь архиепископ-то, владыка, поставлен неправедно, на мзде, – знать, за это и наказует господь дождями, – и тогда целым вечем валили на владычный двор, и схватывали архиепископа, и низводили с престола, и выдворяли куда-либо в дальний монастырь, «пхающе за ворот, аки злодея», а на его место возводили другого.
Хаживали, вздымались не только улица на улицу, колец на конец, бедные против богатых, а и целых два веча схватывались между собою, и валили оба на Великий мост, в доспехах, при оружии и под стягом. Тут и решали, чья большина!
...Жили на юру, видимые ото всех концов мира. Торговали. Переваливали непостигаемое умом количество грузов между Индией и Европой. Завистное око немца, шведа, датчанина пялилось в кровавой слезе на неисчислимые богатства Новгородской боярской республики. Но уж сколько раз отшибали новгородцы хищную лапу, тянувшуюся с Запада. Сорок тысяч конницы, сто тысяч пехоты подымались одним ударом вечевого невеликого колокола, одним зовом посадника!.. А потом, отразив нападенье, распускали войска, и опять вольнолюбивый и многобуйный город начинал жить своей обычной жизнью.
Мирная, трудовая, торговая, зодческая и книголюбивая жизнь прерывалась то и дело заурядными набегами и походами новгородских ушкуйников – и на восток и на запад. Что норманны!.. Да разве когда-нибудь досягали эти прославленные викинги Севера до Оби и Тобола?! А новгородские молодцы и там возложили дань, и там рубили крепкие острожки, и оттуда волокли на санях и нартах соболя, горностая, песцов и лисицу!..
Вот молодцов новгородских порубали где-то в Дании. А вот в Хорезме сгинули, в Персии, в Армении – где-то у озера Ван. «Что ж, – решали отцы города, – без потерь не прожить! А молодым людям погулять потребно! Пускай привыкают! Чтобы имя господина Великого Новгорода стояло честно и грозно!»
Трудились, строили, торговали и вечевали, свергали с мостов, изгоняли князей и вновь зазывали... Выгорали пожарами – страшно и непрестанно, так что и по Волхову гуляло пламя, и лодки, и корабли сгорали; вымирали от голода, от чумы, строили скудельницы, намётывая их трупами доверху... С пеной у рта рядились о каждой мелочи, о каждом шаге с призываемым князем: «А на низу тебе, княже, новгородца не судити... а медовара и осетринника тебе, княже, на Ладогу слать, как пошло... а свиней диких тебе, княже, бить за шестьдесят вёрст от Новгорода...» – и прочее, и прочее, и прочее!.. Рубили города по Шелони, по Нарве, по Неве и на Ладоге – против шведа и финна. Рыскали парусом и по Балтике, и по Студёному Дышащему морю... Подписывали миры, заключали договора: целовали крест и привешивали свои «пецяти» – от всех пяти концов, и от «всего Великого Новгорода». На изменников, на переветников клали «мёртвые грамоты» в ларь Святой Софии, и уж не было тогда такой силы на всей земле, которая спасла бы приговорённого!..
Страшно было жить в Новгороде, когда недобром кончалось большое вече и начинала бушевать внутригородская усобица. Замирал в страхе, хотя и знал, что безопасен под сенью торговых договоров, какой-нибудь Тилька Нибрюгге или Винька Клинкрод, когда мимо острожного забора готского или немецкого двора в Заречье с рёвом, с посвистом неслось усобное полчище к Волхову.
И все – и свои и чужие – вздыхали облегчённо, когда наконец в мятеже, в распрях, а то и в крови рождалась вечевая грамота:
«По благословенью владыки... (имярек) се покончаша посадники ноугороцкие, и тысяцкие ноугороцкие, и бояре, и житьи люди, и купцы, и чёрные люди, все пять концов, весь государь Великий Новгород, на вече, на Ярославлем дворе...»
Город, город! Быть может, и Афины, и Рим, и Спарта, эти древние республики-города, и могли бы поспорить с тобой, но только где ж, в каком городе-государстве был ещё столь гордый, на полях сражений в лицо врагам кидаемый возглас:
– Кто против бога и Великого Новгорода?!
Сперва Невского слушали, не перебивая, не подбрасывая ему встречных и задиристых слов. Только всё больше теснились и напирали. Теперь вечевой помост из свежего тёса, – где сидели посадники: степенный, то есть ныне правящий Новгородом – Михайла Степанович, и все старые, затем – старосты концов и всевозможные «лучшие люди», и, наконец, где стоял князь, – помост этот в необозримом море толпы казался словно льдина, носимая морем. Вот-вот, казалось, хрупнет и рассыплется на мелкие иверни эта льдина. И уже то там, то сям зловеще потрескивала она под всё нарастающим напором.
– Господа новгородцы! – заключал своё слово князь. – Послы татарские – здесь, на Ярославлем дворе. Послы ждут... Граждане новгородские, придётся ятися по дань. Позора в том нет! Не одним нам! Вся Русская Земля понесла сие бремя... Гневом господним, распрею нашею!.. Тому станем радоваться: Новгород и тут возвеличен: по всей Русской Земле татарские волостели наставлены, баскаки, – своею рукою во всякое дело влезают, своею рукою и дани – выходы – емлют, а к нам в Новгород царь Берке и великий царь Кублай – они оба согласны баскаков вовсе не слать... Сами новгородцы, с посадником, с тысяцким, с кончанскими старостами своими... с послом царёвым дома свои перепишете!..
Грозный ропот, глухие, невнятные выкрики, словно бы только что очнувшегося исполина, послышались из недр неисчислимого толпища. Сильнее затрещали столбы и ко́зла помоста.
– Чего, чего он молвит?! – послышались гневно-недоумённые возгласы, обращаемые друг к другу. – Кто это станет нас на мелок брать?!
– Ишь ты! Поганая татарская лапа станет нам ворота чертить!..
– Ну князь, ну князь, – довёл до ручки, скоро на паперти стоять будет господин Великий Новгород!.. Скоро мешок на загорбок, да и разбредёмся, господа новгородцы, по всем городам корочки собирать!.. Э-эх! – взвизгнул кто-то и ударил шапкой о землю.
Очи Невского зорко вы хваты пали из гущи народа малейший порыв недовольства. Но не только глаза, а и сердце князя видело сейчас и слышало всякое движенье, всякий возглас последнего, захудалого смерда среди этого готового взбушевать скопища.
– Гражда́не новгородские! – голосом, словно вечевой колокол, воззвал Александр.
И снова всё стихло.
– Друзья мои! – продолжал он скорбно и задушевно. – Да разве мне с вами не больно?! Или я – не новгородец?..
И видит Александр, что коснулся он самых задушевных струп людского сердца, когда сказал, что и он – тоже новгородец, и вот уж, кажется, не надо больше убеждений и речей, остаётся только закрепить достигнутое.
– Господа новгородцы! – говорит он. – Я Святой Софией и гробом отца моего клянусь, что ни в Новгороде, ни в областях новгородских баскаков не будет, ни иных татарских бояр!
– Ты сам – баскак великий Владимирский!.. Баскачество держишь, а не княженье!.. – раздаётся вдруг звонкий, дышащий непримиримой враждой голос.
– Улусник!.. – немедленно подхватывает другой.
Будто исполинской кувалдой грянул кто-то в голову всего веча. Оно застыло – ошеломлённое.
И на мгновенье Александр растерялся. Случалось – разное вымётывало ему из бушующих своих пучин тысячеголовое вече: грозили смертью, кричали «Вон!», попрекали насильничеством и своекорыстием, кидались тут же избивать, да и убивали его сторонников, но столь непереносимое оскорбленье – «баскак Владимирский!» – оскорбленье, нацеленное без промаха, – оно оледенило душу Александра. Тысячи слов рвались с его мужественных уст, но все они умирали беззвучно в его душе, ибо он сам чувствовал немощность их против нанесённого ему оскорбленья. Лучше было молчать...
Ещё немного, и всё бы погибло. Уж там и сям раздались громкие крики:
– А что, в самом деле?! Эка ведь подумаешь: послы царёвы! Да пускай он тебе царь будет да владимирским твоим, а нам, новгородцам, он пёс, а не царь, татарин поганой! А коли завтра нам косички татарские заплетут, по-ихнему, да в своё войско погонят, – тоже соглашаться велишь?!
– Граждане! – послышался чей-то голос. – Да что там смотреть на них, на татар?! Схватаем их за ногу поганую, да и об камень башкой!..
– Ишь защитник татарский! – кричали из толпы Александру. – Знаем, чего ты хочешь: суздальским твоим платить стало тяжко, раскладку хочешь сделать на в сох!..
– Державец!
– Самовластец!
– Мы тебе не лапотники!..
– И нам шею под татарина ломишь?!
Если бы ещё немного промолчал князь, тогда бы всё вече неудержимо выплеснулось вон из кремля и хлынуло бы обоими мостами, и на плотах, на лодках, на Заречную сторону, на Ярославль двор, к дворцу Александра – убивать ордынских послов...
И в этот миг вдруг явственно представилось Александру другое такое же вече, здесь же колыхавшееся и ревевшее, много лет тому назад, в самый разгар батыевщины, в сорок первом году. Немцы тогда взяли Псков, и Тесово, и Лугу, и Саблю. И господам новгородцам подпёрло к самому горлу! И подобно тому, как боярин Твердило отдал Псков немцам, а сам стал бургомистром, – так и среди новгородцев пузатые переветники, ради торговли своей с немцами, мутили и застращивали народ и склоняли отпереть ворота магистру. Александра не было на тот час в Новгороде: его незадолго перед тем новгородцы изгнали, показали ему путь от себя, чуть не на другой день после Невской победы, заспорив с князем из-за сенокосов – вечный и по сие время спор; худо с сеном у Новгорода: болота, кочкарник, сенокосов нет добрых, а того понять не в силах, что не зачем князю и конницы держать, коли так!..
И вот, когда уже весь народ новгородский взвыл, и закричал Александра, и стал грозить владыке, боярам, – тогда вымолили послы новгородские, во главе с владыкою Спиридоном, сызнова Александра к себе на княженье.
И тогда тоже, перед походом на немцев, зазвенел вечевой колокол – колыхалось и ревело тысячеголовое Новгородское вече... Но разве так, как сейчас?
На радостях первой встречи новгородцы тогда, словно дети, выкрикивали своему князю все свои жалобы, обиды, поношения и ущербы, претерпенные за это время от немцев.
– Подпёрли – коня выгнать негде! – кричали ему.
– В тридцати вёрстах купцов разбивают!..
– Бургомистров наставили!..
– Жёнок позорят!
– Церкви облупили!
– Гайтан с шеи рвут!
– Со крестом вместе!
– А и с головой!..
Н, наконец, как бы в завершенье всех этих жалоб, послышался тогда укоризненно-ласковый, словно бы ото всего веча раздавшийся голос:
– Что долго не шёл?!
– Да ведь, господа новгородцы... сами ж вы меня... – начал было он, смущаясь.
Но и договорить тогда не дали: бурей негодующих и пристыженных голосов крикнули в ответ:
– Того не вспоминай, Ярославич!..
– Забудь!.. Тому всему – погрёб!
...Так было в то вече, здесь же, у этих же исполинских белых полотнищ храма Софии! Так было, когда он был нужен им до зарезу, ибо бронированное рыло немецкой свиньи за малым не соткнулось со злою мордой татарского коня вот здесь, на берегах Волхова!.. Уж хрипел белым горлом господин Великий Новгород, ибо шведский герцог с финского берега, а рыцари Марии, упёршись стопой в Юрьев, круто затягивали на этом горле петлю, да и затянули бы, когда бы он, Александр, не обрубил – и вместе с лапой, с когтями!.. Иное неслось тогда к нему с этой площади, когда стало ведомо, что магистр рижский уж и фохта Новгороду подыскал из ратманов здешних, и что вечу не быть, и посаднику не быть, и что колокол вечевой будет звенеть на кирке немецкой, что Святую Софию либо развалят на кирпичи, либо снимут верхи и переделают в ратушу!..
Помнят ли они, как, отталкивая друг друга, иные из этих же вот самых новгородцев тянулись тогда к нему, чтобы хоть только до плаща княжеского коснуться?! Нет! Не помнят ничего! Всё забыто.
Александр гордо поднял голову. И сам собою пришёл столь долго ненаходимый ответ.
– Да-а... немало и я утёр поту за Великий Новгород! Немало ратного труда положил за вас, за детей ваших!.. Должны сами помнить!.. И вот – выслужил!.. Ведь экое слово изрыгнул на меня некто от вас... стыжуся и повторить! Что ж, стало быть, заслужил!.. С тем и прощайте, господа новгородцы!.. Спокоен вас оставляю: ни от севера на вас, ни от запада не дует!.. Не поминайте лихом!..
И, произнёсши эти слова, Невский твёрдо пошёл к боковому спуску вечевого помоста.
Всё вече, словно ударом бури, накачнулось к помосту. А те, что стояли поближе, ринулись преградить ему путь.
С вечевых скамей поднялись в тревоге и степенный посадник, и старые все посадники, и тысяцкий.
Посадник Михаил Степанович, поворотясь к народу, как бы в беспомощном призыве простёр обе руки свои. Затем он повёл ими в сторону уходившего князя: дескать, граждане новгородские, да что ж это такое, да помогайте же!.. Седая борода его тряслась; казалось, он не в силах был слова произнести.
Из толпы, подступившей к боковому крылечку, послышались крики:
– Княже! Господь с тобою! Что удумал?..
– Не пустим, князь!
– Нет на то нашей воли!..
– Кто князя обидел?! Камень тому мерзавцу на шею, да и в Волхов.
– Вернись, Олександра Ярославич!.. Нет тебе ворогов!..
Александр, нагнув голову, не слушая ничего, приближался к ступеням, чтобы сойти на землю. Вот он поставил ногу на первую ступень, на вторую... ещё немного, и ступит на землю...
– Ребята! – вдруг выкрикнул отчаянно мужик в белой свитке, без шапки. – Пускай по головам нашим ступает, коли так!..
И, вскричав это, он кинулся под нижнюю ступеньку и лёг, лицом вверх, раскинув руки.
Александр остановился: ему надо было или наступить на лицо, на грудь этого человека, или перешагнуть через него.
Прямо перед собой он видел яростно молящие лица других – таких же, как тот, что кинулся ему под ноги.
И он услыхал за собою голос посадника:
– Князь, Олександр Ярославич!.. Да ведь то какой-то безумец вскричал... безумному прости!..
Обойдя Александра и спустясь на нижний приступок, посадник оборотился к Невскому, снял шапку и, низко поклонясь, громко и торжественно произнёс:
– Ото всего господина Великого Новгорода: князь, отдай нам гнев свой!..
Сперва, по возвращении князя на вечевой помост, его слушали, не перебивая. И с неотвратимой явственностью Александр представил затихшему вечу всю неизбежность и ордынской переписи в Новгороде, и ордынской дани. Закончил он так:
– Господа новгородцы, дань в Орду – неминучая!.. Зачем кичиться станем своею силой чрезмерно? Вспомните, какие царства ложились под стопою завоевателей! В пять дней Владимир взяли. Да и Суздаль – в те же самые дни. За один февраль месяц – помните? – одних городов только четырнадцать захлестнули!.. Сквозь Польшу проломились. В немецкую державу вторглись, рыцарей поразили. А в Мадьярии?! И войско и ополченье, чуть не во сто тысячей, истребили все, до единого. Короля Бэлу хорваты укрыли. После побоища под Лигницей – ведь слыхали, – где Генрих пал... Не худые воины были. И кованой рати, конницы панцирной было там не тысяча и не две!.. А что же? – после побоища того Батыю девять мешков рыцарских ушей привезено было!.. И не оба уха у мертвецов отрезали, но только правое одно: для счёту!..
Александр остановил речь. Падали редкие влажные хлопья снега. Народ молчал... И вот опять тот же звонкий и дерзкий голос выкрикнул:
– Ничего!.. Пускай!.. У нас в Новгороде лишних у ей довольно – клевретов твоих!..
Александр кинул оком в толпу. Теперь он рассмотрел крикуна: хрупкий, но подсадистого сложенья, желтоволосый и кудреватый добрый молодец, в валяной шляпе пирожком, стоял в толпе, откинув голову, и, прищурясь, дерзко смотрел на князя, окружённый своими сторонниками, которые, как сразу определил князь, даже и подступиться не дали бы никому чужому к своему вожаку.
Князь вспомнил, кто это был: это был Александр Милонег, из роду Роговичей, староста гончаров и ваятелей, работавших на владычном дворе и в прочих церквах.
У владыки Далмата он его и застал однажды, когда художник, почтительно склонив голову, принимал указанья архиепископа касательно выкладки мозаикой поной иконы...
Александр Ярославич простёр руку в сторону старосты гончаров и, глядя на него, сурово ответил:
– Нет, Рогович, ты ошибаешься! Зачем мне, новгородцу, клевретами в своём городе обставляться! А вот ты зачем – новгородец же! – подголосков своих этакое количество с собою приволок на вече?
И едва произнёс он эти слова, как сразу они отдались довольным, радостным гулом среди сторонников князя. Особенно радели, на этот раз за князя, Неревский колец, где больше купцы, а также Торговая сторона, заречники. Купцы – особенно те, что с Востоком торговали, – ещё при дедах и прадедах Ярославича постигли на своём горьком опыте, сколь опасно дразнить и гневать суздальского великого князя: чуть что – сей час перехватит Волгу, Тверцу, закроет доступ и низовскому, и булгарскому, и сибирскому, и китайскому, и кабульскому гостю; да и купцов самих новгородских переловит – и по Суздальщине, и по волокам, и в Торжке, да и в темницу помечет с земляным засыпом. Нет, уж лучше ладить с ними, самовластцами суздальскими!.. И ныне ведь чего этот хочет Ярославич? да только, чтобы от разоренья татарского малой данью город спасти!.. Так чего ж тут существовать, чего ж тут против князя кричать купцу или боярину?! Другое дело те вон: голота, босота, да худые мужики – вечники, да ремесленники, да пригородный смерд – огородник, да неприкаянные ушкуйники! Им что терять!.. Пожитков немного!.. А головы им не жалко. Эти и на татар подымутся! А ведь слыхать, что верхних людей – купцов, бояр – татары в живых не оставляют, а ремесленнику – ему и в Орде хорошо... как попу: убивать их не велено...

И Торговая сторона, Неревский конец весь – они шибко кричать стали за князя.
Однако и простой люд сильно подвигнулся за Ярославича после того, когда не раз и не два он зычным голосом возвестил:
– Друзья новгородцы!.. Да ведь то возьмём во вниманье: сие – не порабощение нам, но только – откуп!.. Не порабощенье, а откуп!
В толпище доброжелательно загудели. Однако выкрикивали и другое.
– И без того нало́га тяжкая на товары! – крикнул опытный горлан-вечник, со спиною как деревянная лопата, нескладный мужик, именем – Афоня Заграба. – Каждый, кому не лень, берёт с товаров!.. И владыке – от торгу десятая доля, и от всякого суда – десятую векшу, и на князя! Всем надо, всем надо: кому что тре́бит, тот то и тере́бит с работного человека, с ремесленника, – горестно и насмешливо воскликнул он. – А тут ещё татары станут каждый товар тамжити!..
Толпа зашумела.
Александр Ярославич понял, что надо вмешаться, и нашёлся ответить шуткою, до которой столь охоч был новгородский вечник.
– Что говорить! – сказал князь. – Добро там жити, где некому тамжи́ти!..
Послышался одобрительный смех.
– Верно! Верно!.. – раздались голоса.
Александр добавил:
– Знаю: тяжко. Налоги, дани, поборы – лучше бы без того. А только где ж, какая держава стоит без того? Не слыхивал!..
И княжое слово опять взяло верх.
Но и противники его не унимались. Опять всё чаще и чаще стали раздаваться из толпы выкрики и жалобы:
– Пошто хлеба не даёшь новгородцам с Низовья? Слыхать, в Татары весь хлеб гонишь!..
– Голодуем, княже! Обезножели, оцинжели!.. Ребятишки в брюхо растут!..
– К соли подступу нет – за две головажни куну отдай! Куда это годится?
– А хлеб? Осьминка ржи до гривны скоро дойдёт!
– Богатинам пузатым – им что? Не чутко!.. Купцы да бояре – большие люди – оборони господь!
– Ты бы так сделал, как при Михайле-князе, при посаднике Водовике: тогда селянину добро было. На пять лет льгота была смердам не платить!..
Невский нахмурился: этот выкрик о сопернике его отца, о князе Михайле Черниговском, и о посаднике Водонике мало того, что был ему крайне неприятен, – он показывал, что враждебные ему силы – сторонники князей Смоленских, Черниговских, а и купцы западной торговли опять осмелели.
Насторожились и посадник и тысяцкий. Расторопнее задвигались, беспокойно засмотрели и вечевые служители биричи, и управлявшие ими – подвойские.
Вечевой дьяк со своими двумя помощниками, вечевыми писарями, устроившимися на ременчатых складных стульях под рукой посадника Михайлы, тоже принял какие-то свои чрезвычайные меры, дабы встретить надвигающуюся бурю во всеоружии. Он что-то шепчет на ухо и тому и другому из писарей.
На коленях как того, так и другого писаря поставлен прикрывающий колени невысокий, из некрашеного дерева, крытый ящик, с покатой кпереди столешницей. В этой столешнице, на верхней кромке, врезана чернильница – глиняный поливной кувшинчик. В правом углу, на той же кромке, из круглого отверстия белеется усатый пух гусиных перьев, очиненных для писания. Перед лицом каждого из писарей, упираясь нижним обрезом в кромочку на доске, лежит по тетради из выбеленной, как бумага, телячьей кожи, – пергамент, телятинка.
Ни тот, ни другой писец не смеют занести что-либо в тетрадку, покуда вечевой дьяк не скажет, что именно. Телятинка до того дорога, что сплошь и рядом предпочитают соскоблить старую запись, чтобы нанести новую. А потом и эту соскоблят, когда придёт час ещё что-нибудь записать...
Однако тот, что сидит поближе к посаднику, – писарь, в синей скуфейке, сильно выцветшей, в стёганом ватном подряснике, длинноволосый, – не дожидаясь дьяка, заносит в свою тетрадку какие-то записи.
Его все знают в Новгороде: это пономарь церкви Святого Иакова, Тимофей Локоток, уж более десяти лет – самочинный, без благословенья владыки, как бы непризнанный летописец великого города. Ему и пергамента не дают – покупает за свой счёт, принимая иной раз за это жестокую трёпку от своей пономарихи. Чтобы подработать на телятинку, он взялся быть вечевым писарем.