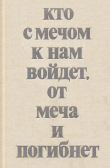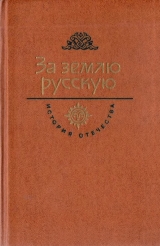
Текст книги "За землю русскую. Век XIII"
Автор книги: Алексей Югов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 35 страниц)
Александра Невского помним и мы, его далёкие потомки. Имя Невского носит один из высших военных орденов нашей Родины. Его именем называют улицы и корабли. На родине Невского, в Переславле-Залесском и в Новгороде, на Ярославовом дворище, где шумело когда-то новгородское вече, установлены памятники замечательному патриоту и полководцу. О нём пишут художественные произведения и научные труды.
* * *
Русская история в XIII столетии была необычайно богата событиями. В эту тяжёлую историческую эпоху с особой силой проявился героизм, свободолюбие нашего народа, возвысились люди, имена которых навсегда сохранились в памяти потомков. Этим объясняется большой интерес к событиям XIII века со стороны не только историков, но и писателей. Среди произведений, посвящённых этому времени, выделяются романы В. Яна «Чингисхан», «Батый», «К «последнему морю». Большой популярностью у читателей пользуется роман И. Калашникова «Жестокий век», рассказывающий о возвышении Чингисхана, о том, как создавалась и крепла страшная завоевательная сила Орды.
Героизму русских воинов, светлому образу Александра Невского посвящён роман А. Субботина «За землю русскую» и книга историка В. Пашуто «Александр Невский», изданная в серии «Жизнь замечательных людей». Событиям XIII столетия посвящён исторический роман Д. Балашова «Младший сын».
В ряду этих произведений советской литературы видное место занимает и эпопея А. Югова «Ратоборцы», состоящая из романов «Даниил Галицкий» и «Александр Невский».
В настоящий том входят роман А. Югова «Александр Невский», записки очевидцев, современников Невского, памятники древнерусской литературы, отрывки из сочинений историков.
Исторические документы позволяют глубже понять важнейшие события отечественной истории и, как мы надеемся, помогут читателю увидеть в истории не простую сумму фактов, а сложнейшую науку, достижения которой играют важную роль в развитии общества.
Н.С. БОРИСОВ
Алексей Югов
Александр Невский


ЧАСТЬ 1
И от сего князя Александра
пошло великое княжение
Московское.
Летопись
Александр Ярославич спешил на свадьбу брата Андрея.
Стояла звонкая осень. Бабье паутинное лето: Симеоны-летопроводцы[1]1
Симеоны-летопроводцы – Новый год в Древней Руси начинался 1 сентября. В этот день, по церковному календарю, праздновалась память Симеона Столпника, древнего христианского подвижника, прозванного «Симеон-летопроводец».
[Закрыть]. Снятые хлеба стояли в суслонах. Их было неисчислимое множество.
Когда ехали луговой стороной Клязьмы, то с седла глазам Александра и его спутников во все стороны, доколе только хватал взгляд, открывалось это бесчисленное, расставленное вприслон друг к другу сноповьё.
Налёгшие друг на друга колосом, бородою, далеко отставившие комель, перехваченные в поясе перевяслом, снопы эти напоминали Невскому схватившихся в обнимку – бороться на опоясках – добрых борцов.
Сколько раз, бывало, ещё в детстве, когда во главе со своим покойным отцом всё княжеское семейство выезжало о празднике за город, в рощи, на народное гулянье, созерцал с трепетом эти могучие пары русских единоборцев княжич Александр!
Вот так же, бывало, рассыпаны были они по всей луговине.
Вот они – рослые мужики и парни, каждый неся на себе надежды и честь либо своего сословия, либо своей улицы, конца, слободы, посада, – плотник, токарь, краснодеревец, а либо каменщик, камнетёс, или же кузнец по сребру и меди; бронник, панцирник, золотарь, алмазник или же рудоплавец; или же калачники, огородники, кожевники, дегтяри; а то прасолы-хмельники, льняники; но страшнее же всех дрягиль – грузчик, – вот они все, окружённые зрителями, болеющими кто за кого, упёрлись бородами, подбородками в плечо один другому и ходят-ходят – то отступая, то наступая, – настороженные, трудно дышащие, обхаживая один другого, взрыхляя тяжёлым, с подковою, сапогом зелёную дерновину луга.
Иные из них будто застыли. Только вздувшиеся, толстые, как верёвка, жилы на их могучих, засученных по локоть руках, да тяжёлое, с присвистом, дыханье, да крупный пот, застилающий им глаза, пот, которого не смеют стряхнуть, – только это всё показывает чудовищное напряжение борьбы...
Нет-нет да и попробует один другого рвануть на взъём, на стегно. Да нет, где там! – не вдруг! – иной ведь будто корни пустил!
...Александр Ярославич и по сие время любил потешать взор свой и кулачным добрым боем – вал против вала, – да и этим единоборством на опоясках.
А впрочем, и до сей поры выхаживал на круг и сам. Да только не было ему супротивника. Боялись. Всегда уносил круг.
Правда, супруга сердилась на него теперь за эту борьбу – княгиня Васса-Александра Брячиславовна[2]2
Княгиня Васса – Александра Брячиславовна... – Александр Невский был женат на Александре, дочери полоцкого князя Брячислава. Об отце Александры, как и о ней самой, летописи не сообщают ничего, кроме их имён. В источниках есть глухие сведения, что Невский был женат вторично на княгине по имени Васса, то есть Василиса. Автор романа по-своему решил эту загадку, дав жене Александра двойное имя, что действительно было довольно распространено в княжеской среде.
[Закрыть]: «Ты ведь, Саша, уже не холостой!» – говаривала она. «Да и они же не все холостые, а борются же! – возражал он ей. – Эта борьба князя не соромит. Отнюдь!»
И ежели княгиня Васса и после того не утихала, Александр Ярославич ссылался на то, что и великий предок его Мстислав в этаком же единоборстве Редедю одолел[3]3
Мстислав в этаком же единоборстве Редедю одолел – Единоборство князя Мстислава Владимировича тьмутороканского, брата Ярослава Мудрого, великого князя Киевского (1019—1054), с касожским князем-богатырём Редедей, окончившееся победой Мстислава, – эпизод из «Повести временных лет».
[Закрыть], великана косожского. И тем прославлен.
Княгиня отмалчивалась.
«Да ведь ей угодить, Вассе! Святым быть, да и то – не знаю!..» – подумалось Александру.
Порою уставал он от неё.
«Ей, Вассе, в первохристианские времена диакониссой бы... блюсти благолепие службы церковной, да верховодить братством, да трапезы устроить для нищей братии.
Как побываешь у неё в хоромах, так одежда вся пропахнет ладаном... А, бог с нею, с княгинюшкой! Отцы женили – нас не спрашивали. Да и разве нас женили? Новгород с Полоцком бракосочетали!..»
...Александр поспешил отхмахнуться от этих надоевших ему мыслей о нелюбимой жене. Что ж, перед народом, перед сынами он всячески чтит её, Вассу. Брак свой держит честно и целомудренно. Не в чем ей укорить его, даже и перед господом...
Князь пришпорил коня.
Караковый, с жёлтыми подпалинами в пахах и на морде, рослый жеребец наддал так, что ветром чуть не содрало плащ с князя.
Александр оглянулся: далеко позади, на лоснящейся от солнца холмовине, словно бусы порвавшихся и рассыпавшихся чёток, чернелись и багрянели поспешавшие за ним дружинники и бояре свиты.
Копь словно бы подминал под себя пространство. Дорога мутною полосою текла ему под копыта...
Ярославич дышал. Да нет – не вдыхать бы, а пить этот насыщенный запахами цветени и сена чудесный воздух, в котором уже чуть сквозила едва ощутимая свежинка начала осени...
«А чудак же у меня этот Андрейка! – подумал вдруг старший Ярославич о брате своём. – Кажись, какое тут вино, когда конь да ветер?! Ну, авось женится – переменится: этакому повесе долго вдоветь гибель! Скорей бы княжна Дубравка приезжала... Ждут, видно, санного пути... Да, осенью наши дороги...»
И Александр Ярославич с чувством искренней жалости и состраданья подумал о митрополите Кирилле[4]4
Митрополит Кирилл II (1242—1280) – ставленник галицких князей, занимал пост княжеского печатника, участвовал в ведении летописи.
[Закрыть]:
«Каких только мытарств, каких терзаний не натерпится пастырь, пробираясь сквозь непролазные грязи, сквозь непродираемые леса, сквозь неминучие болота!.. Ведь Галич – на Днестре, Владимир – на Клязьме, – пожалуй, поболе двух тысяч вёрст будет. Когда-то ещё дотянутся!.. Как-то ещё поладит владыка с баскаками татарскими в пути? Ведь непривычен он с ними...»
Однако надлежало владыке по целому ряду причин предварить приезд невесты. Первое – хотя бы и то, что Ярославичи и Дубравка были двоюродные: покойные матери их – княгиня Анна и княгиня Феодосия – обе Мстиславовны; в таком родстве венчать не полагается... Тут нужно изволенье самого верховного иерарха. А ещё лучше, как сам и повенчает.
Да и не обо всём они уладились тогда – Александр с Даниилом, когда пять годов назад, в тёплом возке, мчавшемся по льду Волги, произошло между ними рукобитье о Дубравке и об Андрее. Александр, как старший, был «в отца место».
Александру из последнего письма Даниила уже было известно, что князь Галиции и Волыни преодолел-таки сопротивленье коломыйских бояр-вотчинников и что владыка Кирилл везёт в своём нагрудном кармане, под парамандом[5]5
Параманд (греч.) – особый нагрудный плат с изображением креста.
[Закрыть], неслыханное по своей щедрости приданое. Вскоре о том приданом заговорят послы иностранных государей: десятую часть всех своих коломыйских соляных копей и варниц[6]6
Коломыйских соляных копей и варниц... – Коломыя – город в Галицком княжестве, в верховьях реки Прут.
[Закрыть], без всякой пошлины на вывозимую соль, отдавал Даниил Романович в приданое за Дубравкой-Аглаей.
Огромное богатство приносила супругу своему – да и всей земле его Владимирской – княжна Дубравка.
...Невский подъезжал к городу. Дружина отстала. Князь близился к городу из Заречья, с луговой стороны. Отсюда вот – столь недавно – наваливался на город Батый...
Извилистая, вся испетлявшаяся, временами как бы сама себя теряющая Клязьма, далеко видимая с седла, поблескивала под солнцем среди поймы.
Зелёная эта луговина несла на себе вдоль реки столь же извилистую дорожку. По ней сейчас, взглядывая на город, и мчался на своём сильном коне Александр.
Мелкая, курчавенькая придорожная травка русских просёлков, над которой безвредно протекают и века и тысячелетия, которую бессильны стереть и гунны и татары, глушила топот копыт...
Выдался один из тех чудесных первоосенних дней, когда солнце, всё сбавляя и сбавляя тепло, словно бы ущедряет сверканье.
Оно как бы хочет этим осенним блистаньем вознаградить сердце землепашца, придать ему радости на его большую, благодатную, но и тяжкую страду урожая.
Плывут в воздухе, оседают на кустах, на жниве сверкающие паутинки бабьего лета.
– Бабье лето летит! – звонко кричат на лугу ребятишки и подпрыгивают, пытаясь изловить паутинку.
Скоро день Симеона-летопроводца – и каждому своё!
Пора боярину да князю в отъезжее поле, на зайцев: в полях просторно, зычно – конь скачи куда хочешь, и звонко отдастся рог.
Да и княжичу – дитяти трёх– или четырёхлетнему – и тому на Симеона-осеннего сесть на коня! Так издревле повелось: первого сентября бывают княжичам постриги.
Епископ в храме, совершив молебствие, остригнет у княжича прядку светлых волос, и, закатанную в воск, будет отныне мать-княгиня хранить её как зеницу ока в заветной драгоценной шкатулке, позади благословенной, родительской иконы.
А это, пожалуй, и всё, что оставлено ей теперь от сыночка. Он же, трёхлеток, четырёхлеток, он отныне уже мужчина. Теперь возьмут его с женской половины, из-под опеки матери, от всех этих тётушек, мамушек, нянек и приживалок, и переведут на мужскую половину.
И отныне у него свой будет конь, и свой меч, по его силам, и тугой лук будет, сделанный княжичу в рост, и такой, чтобы под силу напрячь, и стрелы в колчане малиновом будут орлиным пером перенные – такие же, как государю-отцу!
А там, глядишь, и за аз, за буки посадят...
Прощай, прощай, сыночек, – к другой ты матери отошёл, к державе!..
...А своё – осеннее – прилежит и пахарю, смерду.
Об эту пору у мужиков три заботы: первая забота – жать да косить, вторая – пахать-боронить, а третья – сеять...
На первое сентября, на Симеона, пора дань готовить, оброк. Господарю, на чьей земле страдуешь, – первый сноп. Однако не один сноп волоки, а и то, что к снопу к тому положено, – на ключника, на дворецкого: всяк Федос любит принос!..
Да и попу с пономарём, со дьячком пора уже оси у телег смазывать: скоро по новину ехать – ругу собирать с людей тяглых, с хрестьянина, со смерда...
Осенью и у воробья пиво!..
Пора и девкам-бабам класть зачин своим осенним работам: пора льны расстилать.
Да вот уже и видно – то там, то сям на лугу рдеют они на солнце своим девьим, бабьим нарядом, словно рябиновый куст.
Любит русская женщина весёлый платок!..
...Симеоны-летопроводцы – журавль на тёплые воды! Тишь да синь... И на синем в не́досинь небе, словно бы острия огромных стрел, плывут и плывут их тоскливые косяки...
Жалко, видно, им с нами расставаться, со светлой Русской Землёй... «На Киев, на Киев летим!» – жалобно курлыкают. И особенно – если мальчуганов завидят внизу.
А мальчишкам – тем и подавно жаль отпускать их: «Журавли тепло уносят...» А ведь можно их и возвратить. Только знать надо, что кричать им. А кричать надо вот что: «Колесом дорога, колесом дорога!..» Услышат – вернутся. А теплынь – с ними.
И уж который строй журавлиный проплыл сегодня над головою князя! Ярославич то и дело подымал голову, – сощурясь, вглядывался, считал...
Тоскою отдавался прощальный этот крик журавлиный у него на сердце.
Только нельзя было очень-то засматриваться: чем ближе к берегу Клязьмы, к городу, тем всё чаще и чаще приходилось враз натягивать повод – стайки мальчишек то и дело перепархивали дорогу под самыми копытами коня. Александр тихонько поругивался.
А город всё близился, всё раздвигался, крупнел. На противоположной стороне реки, под крутым, овражистым берегом, у подошвы откоса, на зелёной кайме приречья, хорошо стали различимы сизые кочаны капусты, раскормленные белые гуси и яркие разводы и узоры на платках и на сарафанах тех, что работали на огороде.
Через узенькую речушку, к тому же и сильно усохшую за лето, слышны стали звонкие, окающие и, словно бы в лесу где-то, перекликавшиеся голоса разговаривающих между собою огородниц.
Теперь всадник – да и вместе с могучим конём со своим – стал казаться меньше маковой росинки против огромного города, что ширился и ширился перед ним на холмисто-обрывистом берегу речки Клязьмы.
Владимир простёрся на том берегу очертаньями как бы огромного, частью белого, частью золотого утюга, испещрённого разноцветными – и синими, и алыми, и зелёными – пятнами.
Белою и золотою была широкая часть утюга, примерно до половины, а узкий конец был гораздо темнее и почти совсем был лишён белых и золотых пятен.
Белое – то были стены, башни кремля, палат, храмов, монастырей. Золотое – купола храмов и золочёною медью обитые гребенчатые верхи боярских и княжеских теремов.
Бело-золотым показывался издали так называемый княжой, Верхний Город, или Гора, – город великих прадедов и дедов Александра, город Владимира Мономаха, Юрья Долгие Руки, Андрея Гордого и Всеволода Большое Гнездо.
А тёмным углом того утюга показывался посад, где обитал бесчисленный ремесленник владимирский да огородник.
Однако отсюда, а не от Горы, положен был зачин городу. Мономах пришёл на готовое. Он лишь имя своё княжеское наложил на уже разворачивавшийся город.
Выходцы, откольники из Ростова и Суздаля, расторопные искусники и умельцы некогда, в старые времена, не захотели более задыхаться под тучным гузном боярского Ростова и вдруг снялись да и утекли...
Здесь, на крутояром берегу Клязьмы, не только речка одна осадила их, но и поистине околдовала крепкая и высокорослая боровая сосна, звонкая под топором. Кремлёвое, рудовое дерево.
Кремль и воздвигнул из него Мономах, едва только прибыл сюда, на свою Залесскую отчину, насилу продравшись с невеликой дружиной сквозь вятичские[7]7
Вятичи – одно из восточнославянских племён, занимавшее окско-волжское междуречье. Даже во второй половине XI века вятичи ещё не были окончательно покорены киевскими князьями. В «Поучении детям» великий князь Киевский Владимир Мономах (1113—1125) с гордостью писал, что, посланный отцом в Ростов, он «прошёл сквозь вятичи».
[Закрыть], даже и солнцем самим не пробиваемые леса.
Сперва – топор и тесло, а потом уже – скипетр!..
Ещё Ярослав Всеволодич, отец Невского, сдал на откуп владимирскому купцу-льнянику Акиндину Чернобаю все четыре деревянных моста через Клязьму, которыми въезжали с луговой стороны в город.
Прежде мостовое брали для князя. Брали милостиво. И даже не на каждом мосту стоял мытник. Если возы, что проходили через мост, были тяжёлые, с товаром укладистым, – тогда с каждого возу мостовщик – мытник – взимал мостовое, а также и мыт с товара – не больше одной беличьей мордки, обеушной, с коготками[8]8
Не больше одной беличьей мордки – В XIII веке на Руси беличьи шкурки служили своего рода мелкими деньгами.
[Закрыть].
С лёгкого же возу, с товара пухлого, неукладистого – ну хотя бы с хмелевого, – брали и того меньше: одна мордка беличья от трёх возов.
И уже совсем милостиво – со льготою, что объявлена была ещё от Мономаха, – брали со смордьего возу, с хрестьян, с деревни. Правда, если только ехали они в город не так просто, по своим каким-либо долам, а везли обилье, хлеб на торг, на продажу.
Возле сторожки мытника стоял столб; на нём прибита доска, а на доске исписано всё перечисленье. Хочешь – плати новгородками, хочешь – смоленскими, а хочешь – и немецкими пфеннигами, да хотя бы ты и диргемы достал арабские из кошеля, то всё равно мытник тебе всё перечислит, и скажет, и сдачу вынесет.
А грамотный – тогда посмотри сам: на доске всё увидишь. Ну, неграмотному – тому, конечно, похуже!
А впрочем, пропускали и так. Особенно мужиков: расторгуется в городе, добудет себе кун или там сребреников[9]9
Куны, серебреники – мелкие денежные единицы. Куна – одна двадцать пятая гривны. Серебреники – русские серебряные монеты, чеканившиеся в конце X – первой половине XI века в Южной Руси.
[Закрыть] – и́но, дескать, на обратном пути расплатится. Ну, а нет в нём совести – пускай так проедет: князь великий Владимирский от того не обеднеет!
Так рассуждали в старину! А теперь, как придумал Ярослав Всеволодич – не тем будь помянут покойник – отдать мостовое купцу на откуп, – теперь совсем не то стало!.. Да и мостовое ли только?..
Там, глядишь, хмельники общественные князь купцу запродал: народу приходит пора хмель драть, ан нет! – сперва пойди к купцу заплати. Там – бобровые гоны запродал князь купчине. Там – ловлю рыбную. Там – покос. А там – леса бортные, да и со пчёлами вместе... Ну и мало ли их – всяческих было угодий у народа, промыслов вольных?.. Раньше, бывало, если под боярином земля, под князем или под монастырём, то знал ты, смерд, либо тиуна одного княжеского, либо приказчика, а либо ключника монастырского, отца эконома, – ну, ему одному чем бог послал и поклонишься. А теперь не только под князя, не только под боярина залегло всё приволье, а ещё и под купца!.. И народ сильно негодовал на старого князя!..
Отец Невского, Ярослав Всеволодич, прослыл в народе скупым.
– Это хозяин! И ест над горсточкой!.. – насмехаясь над князем, говорили в народе.
Для Александра – в дни первой юности, да и теперь тоже – не было горшей обиды, как где-либо, ненароком, услыхать это несправедливое – он-то понимал это – сужденье про отца своего. Слёзы закипали на сердце.
«Ничего не зачлося бедному родителю моему! – думал скорбно Ярославич. – Ни что добрый страж был для Земли Русской, что немало ратного поту утёр за отечество, да и от татарина, от сатаны, заградил!.. А чем заградил? – подумали бы об этом! Только серебра слитками, да соболями, да чёрно-бурыми, поклоном, данью, тамгою!.. Но князю где ж взять, если не с хлебороба да с промыслов? Ведь не старое время, когда меч сокровищницу полнил! Теперь сколько дозволит татарин, столько и повоюешь!.. А ведь татарин не станет ждать, – ему подай да и подай! Смерды же, земледельцы, дотла разорены: что с них взять! А тем временем и самого князя великого Владимирского ханский даруга[10]10
Даруга – ханский чиновник, ответственный за сбор податей в покорённых землях.
[Закрыть] за глотку возьмёт.
Купец же – ежели сдать ему на откуп – он ведь неплательщика и из-под земли выкорчует!..
Кто спорит – тяжело землепашцу, тяжело!.. Ну а князю, родителю моему, – или не тяжело ему было, когда там, в Орде, зельем, отравою поила его ханша Туракына[11]11
Туракина – жена великого хана Угэдэя. Со дня его смерти (11 декабря 1241 г.) и до восшествия на престол её сына, нового хана Гуюка в 1246 году была фактической правительницей монгольского государства.
[Закрыть]? Разве не тяжко ему было, когда, корчась от яда, внутренности свои на землю вывергнул?!
Да разве народу нашему ведомо это? А кто народу – учители? Другого – случись над ним эдакое от поганых – другого давно бы уже и к лику святых причислили!»
И, угрюмо затаивая в душе свой давний упрёк духовенству, Александр сильно негодовал на епископов за то, что в забвении остаётся среди народа, а не святочтимой, как должно, память покойного отца.
Невский убеждён был, что это месть иерархов церковных покойному князю за епископа ростовского. Отец Невского отнял у епископа – тяжбою – неисчислимые богатства неправедные, такие, которых никогда и ни у кого из епископов не было на Русской Земле.
Отнял сёла, деревни, угодья и пажити. И стада конские, и рабов, и рабынь. И книг такое количество, что при дворце сего владыки, словно бы поленницы дров, были до самого верху, до полатей церковных, намётаны. Отнял куны, и серебро, и сосуды златые, и бесценную меховую, пушную рухлядь.
Епископ от того заболел. Затворился в келью и вскоре скончался.
Вот этого – так полагал Александр – и не могли простить князю покойному иерархи.
Александр Ярославич хорошо знал иерархов своих. «Византийцы!» – говаривал он раздражённо наедине с братом.
Александр Ярославич подъезжал к мосту. Это был самый большой из мостов через Клязьму – он вёл к так называемому детинцу, или кремлю.
Именно тут, изредка – в будни, а наичаще – по воскресеньям, словно бы распяливший над рекою свою огромную паутину ненасытимый жирный мизгирь, выстораживающий очередную жертву, – именно тут и сидел под ветлою, возле самой воды, мостовщик Чернобай.
Весь берег возле него утыкан был удилищами... Шустрый, худенький, белобрысый мальчуган, на вид лет восьми, но уже с измождённым лицом, однако не унывающий и сметливый, именем Гринька, день-деньской служил здесь Чернобаю – за кусок калача да за огурец. Босоногий, одетый в рваную, выцветшую рубашку с пояском и жёсткие штаны из синеполосой пестряди, он сновал – подобно тому, как снуёт птичка поползень вдоль древесного ствола, – то вверх, то вниз.
Вот он сидит верхом на поперечном жердяном затворе, заграждающем мост, болтает голыми ногами и греется на солнышке. Время от времени встаёт на жердину и всматривается.
– Дяденька Акиндин, возы едут! – кричит он вниз, Чернобаю.
– Принимай куны! – коротко приказывает купец.
И мальчуган взимает с проезжих и мостовщику, и товарное мыто.
– Отдали! – кричит мальчик.
И тогда Акиндин Чернобай, всё так же сидя под ветлою, внизу плотины, и не отрывая заплывшие, узенькие глазки от своих поплавков, лениво поднимает правую руку и тянет за верёвку, что другим своим концом укреплена на мостовом затворе.
Жердь медленно подымается, словно колодезный журавель, – и возы проезжают.
Гринька мчится вниз, к Чернобаю, и передаёт ему проездное.
Тот прячет выручку в большую кожаную сумку с застёжкой, надетую у него сбоку на ремне. И вновь, полусонно щурясь, принимается глядеть на поплавки...
Гринька карабкается по откосу мостового быка и вновь занимает свой пост...
Но иногда случается, что у мальчика там, наверху, вдруг затеется спор с проезжающим – кто-либо упрётся платить, – и тогда чёрный жирный мизгирь сам выбегает из сырого, тёмного угла.
И тогда горе жертве!..
Простые владимирские горожане – те и не пытались спорить с Чернобаем. Они боялись его.
– Змий! Чисто змий! – сокрушённо говорили они.
Безмолвно, только тяжко вздохнув, отдавали они ему, если Чернобай не хотел брать кунами, из любого товара, и отдавали с лихвой. И, проехав мост и не вдруг надев снятую перед мостом шапку, нет-нет да и оглядывались и хлестали кнутом изребрившиеся, тёмные от пота бока своих лошадей.
Тех, кто пытался миновать мост и проехать бродом, Чернобай останавливал и возвращал. С багровым, потным лицом, поклёванным оспой, вразвалку приближался он к возу и, опершись о грядку телеги, тонким, нечистым, словно у молодого петушка, голосом кричал:
– Промыт с тебя! Промытился, друг!..
Тут ему своя рука владыка... А не захочет смерд платить, сколь затребовал Чернобай, потащит к мытному. Да ещё кулаком в рыло насуёт.
Но так как сиживал он тут лишь по воскресеньям да в большие праздники, то, чтобы в прочие дни, без него, никто бродом не переехал, приказал он рабам своим да работникам всё дно заострёнными кольями утыкать да обломками кос и серпов.
Сколько лошадей перепортили из-за него православные!..
Один раз его сбросили с моста. Он выплыл.
Пьяный, бахвалился Чернобай:
– У меня княжеской дворецкой дитя крестил... А коли и с князем не поладим – я не гордый: подамся в Новгород. Там меня, убогого, знают! Меня и в пошлые[12]12
Пошлый – то есть старинный, коренпой.
[Закрыть] купцы, в иванские, запишут[13]13
...в пошлые купцы, в ивановские запишут... – «Ивановское сто» – привилегированная купеческая корпорация в Новгороде, объединявшаяся вокруг патрональной церкви Иоанна Предтечи на Опоках. Вступительный взнос «Ивановского ста» равнялся 50 гривнам, что составляло в XIII веке около 10 килограммов серебра.
[Закрыть]: пятьдесят гривен серебришка уж как-нибудь наскребу!
Но не от мостовщины богател Чернобай... «Русский шёлк», как звали в Индийском царстве псковский, да новгородский, да владимирский лён-долгунец, – это он обогатил Чернобая.
Посчитать бы, во скольких сёлах-погостах, во скольких деревнях жёнки-мастерицы ткали да пряли, трудились на Чернобая! Не только во Пскове, в Новгороде, но и немецкое зарубежье – Гамбург, Бремен и Любек – добре ведали льны и полотна Чернобая. На острове Готланде посажен был у него свой доверенный человек. Индийские города Дели и Бенарес одевались в новгородский да владимирский лён.
Однако отыми князь торговлю льняную у Чернобая – и тем не погубил бы его! Чернобай резоимствовал[14]14
Резоимствовать, брать резы (древнерус.) – брать лихву, отдавать деньги под проценты.
[Закрыть]. Награбленные куны свои отдавал в рост. А лихвы брал и по два, и по три раза[15]15
...лихвы брал и по два, и по три раза – то есть требовал сверх суммы долга 100 и 150 процентов.
[Закрыть].
Не только смерды, ремесленники, но и сынки боярские и купцы незадачливые бились в паутине мизгиря.
Проиграется боярчонок в зернь, пропьётся или девки, жёнки повытрясут у него калигу – к кому бежать? К Чернобаю.
Погорел купец, разбойники товары пограбили или худой оборот сделал, сплошал – кому поклонишься? Чернобаю!..
Многим душам человеческим, кои в пагубу впали, словно бы единственный мост на берег спасенья, показывалась эта ссуда от Чернобая. Но то не мост был – то была липкая, да и нераздираемая паутина...
Не уплатил в срок – иди к нему в за́купы, а то и в полные, обельные холопы. Случалось, что, поработив простолюдье через эти проклятые резы, купец перепродавал православных на невольничьих рынках – то в Суроже, то в Самарканде, а то и в Сарае ордынском[16]16
Сурож – ныне Судак. В XIII—XIV веках крупнейший торговый город-порт в Крыму. Сарай ордынский – столица Золотой Орды, располагавшаяся в низовьях Волги.
[Закрыть].
Тут и сам князь был бессилен: тут уже по всей «правде» сотворено, по Ярославлей, – придраться не к чему. А без купца как существовать князю? – всё равно как без пахаря!.. И богател, богател Чернобай...
Невский, далеко опередив дружину и свиту свою, близился к городу. В расчёты князя входило въехать на сей раз во Владимир без обычной народной встречи: великим князем сидел Андрей, да и не хотелось татар будоражить торжественным въездом.
Ещё издали, с коня, Александру Ярославичу стало видно, что мост неисправен.
«Распустил, распустил их Андрей! – хмурясь, подумал Невский. – Чего тиун мостовой смотрит? Мост ж, как раз супротив дворца! Нет, этак он не покняжит долго!.. Мимоходный», – вспомнилось ему сквозь досаду то язвительное прозванье, которое успели дать владимирцы князю Андрею Ярославичу, едва он с год прокняжил у них. Правда, в той кличке сильно сказалось и раздраженье владимирцев, наступившее сразу, как только в прошлом году из Великой орды стольным князем Владимирским вернулся не старший Ярославич – Александр, а младший – Андрей[17]17
Поездка Александра и Андрея Ярославичей в ставку Батыя, а оттуда по его приказанию к великому хану в Монголию состоялась в 1247—1249 годах.
[Закрыть].
Правда, между самими братьями это дело было заранее решённое. Александр знал, что ему лучше быть в Новгороде: и от Орды подальше, да и вовремя было бы кому грозной рукой осадить в Прибалтике и немцев и шведов.
Андрей же над гробом родителя клялся: и на великом княжении будучи, во всём слушаться старшего брата, и целовал в том крест.
Однако же Александру и с берегов Волхова видно было, что небрежёт делами Андрей. Бесхитростное, но и беспечно-буйное сердце!..
«Мимоходный», – с досадою повторял про себя Невский, въезжая на зияющий пробоинами, зыбящийся мост. Пришлось вести коня под уздцы.
Тотчас вспомнилось, что этим именно мостом со дня на день должны будут въехать во Владимир и княжна Дубравка, и митрополит Кирилл...
...Мостовой поперечный затвор был опущен. Никого не было. Александр Ярославич огляделся.
А меж тем в это время внизу, под плотиною, происходило вот что. Завидев хотя и одинокого, без свиты, однако, несомненно, знатного всадника, а затем вскоре и признав Невского – ибо столько раз глазел на него, уцепясь где-либо за конёк теремной крыши или с дерева, – Гринька ринулся сломя голову вниз, к хозяину, сидевшему над своими удочками, – ринулся так, что едва не сшиб Чернобая в воду.
– Дяденька... Акиндин... отворяй!.. – задыхаясь, выкрикнул он.
– Ох ты, лешак проклятый! – рыкнул купец. – Ты мне рыбу всю распугал!..
Он грузно привстал, ухватясь за плечо мальчугана, да ему же, бедняге, и сунул кулаком в лицо.
Гринька дёрнул головою, всхлипнул и облился кровью. Кричать он не закричал: ему же хуже будет, у него ещё хватило соображенья отступить подальше, чтобы не обкапать кровью песок близ хозяина. Он отступил к воде и склонился над речкой. Вода побурела.
Чернобай неторопливо охлопал штаны, поправил поясок длинной чесучовой рубахи и сцапал руку мальчугана, разжимая её: выручки в ней не оказалось. Хозяин рассвирепел.
Но едва он раскрыл рот для ругани, как с моста послышался треск ломаемой жерди и над самой головою купца со свистом прорезала воздух огромная жердь мостового затвора, сорванная в гневе князем Александром, и плеснула в Клязьму, раздав во все стороны брызги.
Купца охлестнуло водою.
Чернобай с грозно-невнятным рёвом: «A-а! A-а!» кинулся вверх, на плотину.
Невский был уже на коне.
Не видя всадника в лицо, остервеневший Чернобай дорвался до стремени Александра и рванул к себе стремяной ремень.
Рванул – и тотчас же оцепенел, увидев лицо князя. Долгие навыки прожитой в пресмыкании жизни мигом подсказали его рукам другое движенье: он уже не стремя схватил, а якобы обнял ногу Александра.
– Князь!.. Олександр Ярославич!.. Прости... обознался!.. – забормотал он, елозя и прижимаясь потной, красной рожей к запылённому сафьяну княжеского сапога.
Александр молчал.
Ощутив щекою лёгкое движение ноги Александра – как бы движенье освободиться, – Чернобай выпустил из своих объятий сапог князя и отёр лицо.
– Подойди! – приказал Невский.
Этот голос, который многие знали, голос, ничуть не поднятый, но, однако, как бы тысячепудною глыбой раздавливающий всякую мыслишку не повиноваться, заставил купца подскочить к самой гриве и стать пред очами князя.
Обрубистые пальцы Чернобая засуетились, оправляя тканый поясок и чесучовую длинную рубаху.
– Что же ты, голубок, мосты городские столь бесчинно содержишь? – спросил Александр Ярославич, чуть додав в голос холодку.
– Я... я... – начал было, заикаясь, Акиндин и вдруг ощутил с трудом переносимый позыв на низ.
Александр указал ему глазами на изъяны моста:
– Проломы в мосту... Тебя что, губить народ здесь поставили?! А?
Голос князя всё нарастал.
Чернобай, всё ещё не в силах совладать со своим языком, бормотал всё одно и то же:
– Сваи, князь... сваи не везут... сваи...
– Сваи?! – вдруг налёг на него всем голосом Александр. – Паршивец! Дармоед! Да ежели завтра же всё не будет, как должно... я тебя самого, утроба, по самые уши в землю вобью... как сваю...
Невский слегка покачнул над передней лукою седла крепко стиснутым кулаком, и Чернобаю, снова до самой кишки похолодевшему от страха, подумалось, что, пожалуй, этого князя кулак и впрямь способен вогнать его в землю, как сваю.
Лицо у купца ещё больше побагровело. Губы стали синими. Он храпнул. Оторвал пуговицы воротника, и в тот же миг густыми тёмными каплями кровь закапала у него из ноздрей на грудь рубахи...
Не глядя больше в его сторону, Ярославич позвал к себе мальчика. Гринька уже успел унять кровь из расшибленного носа, заткнув обе ноздри кусками тут же сорванного лопуха. Он выскочил из-под берега. Вид его был жалок и забавен.
Невский улыбнулся.
– Ты чей? – спросил мальчика Александр.
– Настасьин, – глухо, ибо мешали лопухи, отвечал мальчуган.
Невский изумился:
– Да как же так, Настасьин? Этакого и не бывает!.. Отца у тебя как звали?
– Отца не было.
– Ну, знаешь!.. – И Невский поостерёгся расспрашивать далее об этом обстоятельстве. – А звать тебя Григорий?
– Гринька.