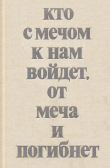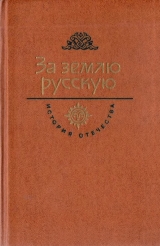
Текст книги "За землю русскую. Век XIII"
Автор книги: Алексей Югов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 35 страниц)
По иному боярину всего этого и даром не ладо, а подай ему зелена вина, русского, своего, – чтобы с груздочком его; другой же гость крепкое и с благоуханием любит, – такому настойки: вот тебе – померанцевая, анисовая, гвоздичная, двойная, тройная, кишенцовая, полынная, кардамонная. Господи, да разве переберёшь все!
Зачин столу всегда полагали закуской. Сперва – рыбное. И в первую очередь – к водке – многоцветная русская икра – это вечное вожделение чужеземцев! На пирах и обедах и немецкие и прочие гости прежде всего кидалися на икру. Дар вожделенный и многовесомый в политике была эта русская икра: черпая и красная, разных засолов – и осетровая, и белужья, и щучья, и лицевая, и стерляжья, и севрюжья. Многое мог сделать бочонок чёрной икры в гостинец и у императоров византийских, и у патриарха константинопольского, и у короля Латинской империи, и у императора Германии, да и у самого Батыя!
Рядом с икрою, столь же прославленные и на чужбине, ставились рыбьи пластины, пруты – осетровые, белужьи, стерляжьи, иначе говоря – балыки.
Для митрополита, лично, – ибо строгий и неуклонный был постник – было сверх того приказано изготовить: горох тёртый под ореховым маслом, грибы с лимоном и с миндальным молоком да грибы в тесте с изюмом да с мёдом цежёным.
Для князей, для бояр, для княгинь и боярынь подавали горячие, богатые щи и всевозможные жаркие. Этих тоже было невперечёт: и говядина, и баранина, и гусь, и индейка, и заяц, и тетерев, и рябчики, и утки, и куропатки, и всё это под всевозможными взварами – из всех пряностей земных. Однако же начался к ним приступ с испечённых лебедей. На каждое из трёх застолий было подано по лебедю. Исполинские птицы испечены были так, что якобы осталась нетленной вся белизна и красота оперенья. Двое слуг, клонясь набок под большим золотым поддоном, на котором высился лебедь, сперва обносили его перед глазами гостей, а затем ставили в соседней передаточной палате на стол перед главным поваром. Тот с помощью ножниц снимал оперенье, раскладывал уже заранее расчленённую на приказанное число кусков изжаренную птицу, и тотчас же целая стая одетых как бы в золототканые подрясники поварят-подавальщиков, ловко изгибаясь перед всяким встречным препятствием, стремительно обносила всех гостей лебедятиной.
Невесте с женихом полагался, по древним обычаям, «царский кус» – лебединые папоротки, то есть локтевой сустав лебяжья крыла, тот, что в две косточки.
Тут, по знаку Святослава Всеволодича, все повставали со своих мест и подняли кверху кубки, полные до краёв, и надпил каждый, а затем, оборотясь к невесте, заорали: «Горько, горько!..»
Дубравка, зардевшись и потупя ресницы, позволила князю-супругу поцеловать её в никем, кроме отца с матерью, не целованные уста.
Тут ещё больше все закричали, опорожнили стаканы, чаши и кубки, и тотчас же бдительно следивший за своим делом виночерпий – боярин, поставленный наряжать вино, – приказал сызнова их наполнить.
Всё шло размеренно и чинно, подобно теченью планет.
Пресветлый тысяцкий и водитель свадьбы Святослав Всеволодич сидел бок о бок с митрополитом Кириллом. Владыка всея Руси, и в самом деле довольный исполнением давних мечтаний – своих и Даниила Романовича: Дубравка – в замужестве за великим князем Владимиро-Суздальской земли, и отныне уж никакая сила не сможет этого повернуть вспять, а кроме того, и желая сказать приятное нечто старому князю, вражду коего с Невским ему уже давно хотелось чем бы то ни было затушить, произнёс довольно громко, чтобы и сидевшие поблизости тоже слышали:
– И весьма счастлив аз, недостойный, что на сём торжестве бракосочетанной мною питомицы моей так всё течёт достойно, благолепно и выспренне!..
Святослав Всеволодич гордо откинулся, заправил левую ладонь под свою обширную тупую бороду, погладил её снизу вверх и многозначительно отвечал:
– Справедливо изрёк, владыко!.. Что ж, молодость плечами покрепче, а старость – головою!..
И сам, своей собственной рукой, направил в хрустальный стакан владыки багряную благовонную струю.
...Уж подали груши, виноград и всевозможные усладеньки и заедки: груды цветных сахаров, леденцов, винных ягод, изюму, коринки, фиников, лущёных грецких орехов, миндальных ядер и арбузные и дынные полосы, сваренные в мёду.
Застолье длилось от полудня и до полуночи! Почти непрерывно на хорах гремела музыка: били в серебряные и медные трубы; свиристели малые, одним человеком надуваемые через мехи, серебряные органы; бряцали арфисты и гусляры; восклицали тимпаны...
Пировали не в один приступ, но с передышкою, подобно тому как не одним приступом берут широкотвердынный город. Уже многие из тех, кто ещё недавно готов был драть бороду из-за места, уступили сейчас это своё драгоценное место, правда не без борьбы, всепобеждающему боярину – Хмелю: тихо опустились под стол и там похрапывали, укрытые скатертью от всех взоров.
Но ещё много ратовало доблестных седобородых борцов.
Гриньку Настасьина это и смешило и удивляло. «Вот ведь чудно! – думал он, стоя позади кресла Александра Ярославича с серебряным топориком на плече, как полагалось меченоше. – Ведь уж старые, седые, а напились-то как!»
Однако он и бровью не повёл и стоял чинно и строго, как его учил старый княжеский дворецкий. Гринька исполнен был гордости. Как же! Сам Невский сказал ему: «Ну, Настасьин, будь моим телохранителем, охраняй меня: времена ныне опасные!»
Издали Гринька напоминал сахарное изваяние: он весь был белый. На голове его высилась горностаевая шапка, похожая по очертаниям на опрокинутое белое и узкое ведёрко. Кафтан со стоячим воротом тоже был из белого бархата.
И за креслом Андрея Ярославича тоже стоял свой мальчик-меченоша. Но разве же сравнить его с Гринькой!
Вдруг от внешнего входа, из сеней, послышались глухие голоса ссоры, как бы попытка некой борьбы, топот, жалобный вскрик. Затем, покрывая весь шум, донёсся гортанный, с провизгом, голос, кричавший что-то на чужом языке.
Бороды так и позастывали над столом.
Невский вслушался. Он глянул на брата и в гневном недоуменье развёл руками.
– Татарин крычит!.. – проговорил он.
Дубравка выпрямилась и застыла. У неё даже губы сделались белыми...
Стремительно пройдя до середины пиршественной палаты – так стремительно, что даже слышен был свистящий шелест цветастого шёлкового халата, – молодой, высокого роста монгол с высокомерным смуглым лицом, на котором справа белел длинный шрам от сабли, надменно и вызывающе остановился перед большим столом, как раз насупротив жениха и невесты.
– Здравствуй! – по-татарски произнёс он, с озорной наглостью обращаясь к Андрею Ярославичу.
Меховые уши треухой шапки татарина были полуспущены и торчали в стороны, слегка покачиваясь, словно чёрные крылья летучей мыши.
Александр и Андрей – оба сразу же узнали его: это был татарский царевич Чаган, богатырь и военачальник, прославленный в битвах, но злейший враг русских, так же как дядя его, хан Берке.
«Ну, видно, не с добром послан!» – подумалось Невскому. И, ничем не обнаруживая своей суровой настороженности, Александр приготовился ко всему.
Всеобщее молчание было первым ответом татарину.
Гринька Настасьин кипел гневом. «Вот погоди! – в мыслях грозился он Чагану. – Как сейчас подымется Александр Ярославич да как полыснет тебя мечом, так и раскроит до седла!»
Правда, никакого седла не было. Гринька знал это, но так уж всегда говорилось в народе про Александра Ярославича: «Бил без промаха, до седла!» «А может быть, он мне велит, Александр Ярославич, обнажить меч? Ну, тогда держись, татарская морда!..» – подумал Гринька и стиснул длинную рукоять своего серебряного топорика, готовясь ринуться на Чагана.
А тот, немного подождав ответа, продолжал с ещё более наглым видом:
– Кто я, о том вы знаете. У нас, у татар, так повелено законом «Ясы»: когда проезжаешь мимо и видишь – едят, то и ты слезай с коня и, не спрашивая, садись и ешь. И да будет тому худо, кто вздумает отлучить тебя от котла!
И тут вдруг, к изумлению и обиде Настасьина, не Александр Ярославич выступил с гневной отповедью татарину, а Андрей. Он порывисто встал со своего трона и с налитыми кровью глазами, задыхаясь от гнева, крикнул Чагану:
– А у нас... у народа русского, с тех пор как вы, поганые, стали на нашей земле, такое слово живёт: «Незваный гость хуже татарина!..»
Рука Андрея сжалась в кулак. Ещё мгновенье – и князь ринулся бы на Чагана. Тот видел это. Однако стоял всё так же надменно, бесстыдным взглядом озирая Дубравку. Рослые, могучие телохранители его – хорчи – теснились у косяков двери, ожидая только знака, чтобы броситься на русских.
Андрей Ярославич, намеревавшийся миновать кресло брата, ощутил, как вкруг запястья его левой руки словно бы сомкнулся тесный стальной наручник: это Александр схватил его за руку.
Он понял этот незримый для всех приказ старшего брата и подчинился. Вернулся на своё кресло и сел.
Тогда спокойно и величественно поднялся Невский.
Благозвучным голосом, заполнившим всю палату, он обратился по-татарски к царевичу.
– Я вижу, – сказал Александр, – что ты далёк, царевич, от пути мягкости и скромности. И я о том сожалею... Проложи путь дружбы и согласия!.. В тебе мы чтим имя царёво, и кровь, и кость царскую... Ты сказал, что «Яса» Великого Воителя, который оставил по себе непроизносимое имя, повелевала тебе совершить то, что ты сейчас совершил. Но и у нас, русских, существует своя «Яса». И там есть также мудрые речения. И одно из них я полностью могу приложить к тебе. Оно гласит: «Годами молод, зато ранами стар!..»
Невский остановился и движеньем поднятой руки указал на белевший на щеке царевича рубец.
И словно преобразилось лицо юного хана. Уже и следа не было в нём той похотливой наглости, с какою он глядел на Дубравку, и того вызывающего высокомерия, с которым он озирал остальных.
Ропот одобрения донёсся из толпы стоявших у входа телохранителей Чагана.
А Невский после молчанья закончил слово своё так:
– Ты сказал, войдя, что мы знаем тебя. Да, мы знаем тебя. Юная рука, что от плеча до седла рассекла великого богатыря тангутов – Мухур-Хурана, – эта рука способна сделать чашу, которую она примет, чашею почести для других... Прими же от нас эту чашу дружбы и испей из неё!..
Александр поднял серебряный, полный до краёв кубок, отпил из него сам и протянул царевичу, сам в то же время сходя со своего места, дабы уступить его гостю.
Взволнованный, как видно это было и по лицу его, ордынский царевич склонился в поясном поклоне, приложа руки к груди.
Потом, распрямившись и вновь обведя взором весь пиршественный чертог, он сказал по-татарски:
– Русские – народ великий, многочисленный, сильный и высокорослый. Однако наш народ господь несёт на руках, подобно тому как сына своего единственного отец носит. И только потому мы взяли над вами победу... Но ты, Искандер, – кто не почтит тебя?! Имя твоё уважается между четырёх морей. Рука твоя – это берег и седалище сокола!.. Батый – да будет имя его благословенно – недаром держит тебя возле сердца своего...
Сказав это, он двинулся в обход боковых столов к предназначаемому для него месту, от которого уже шёл ему навстречу Александр.
Проходя мимо телохранителей своих, царевич Чаган на мгновенье остановился и позвал:
– Иргамыш!.. Бурултай!..
Двое луконосцев немедленно подошли к нему. Он сказал им несколько отрывистых слов, затем отвернулся и пошёл, улыбаясь, навстречу Александру.
Дубравка как бы мгновенье колебалась, но затем решительно встала и покинула свадебное застолье. Княгиня Олёна последовала за ней.
Невский видел всё это, и тень тревоги и неудовольствия прошла по его лицу. Но он сдержался и рука об руку с царевичем прошёл в застолье большого стола.
Царевич осведомился у Александра: куда исчезла молодая княгиня и не испугалась ли она его прихода? Александр заверил, что княгиня слабого здоровья, к тому же только что свершила великий путь, и сейчас ей стало дурно, и та, что ей вместо матери, увела её отдыхать.
Чаган показал вид, что поверил словам Невского, но про себя подумал:
«Нет, слишком рано эта старая баба Батый одряхлел и оставил путь войны и непременного добивания врага – путь, завещанный дедом. Этот князь обошёл его! С таким вот, как этот, – подумал он, искоса глянув на Невского, – разве так следует обходиться? Барс, но со всею хитростью лисицы!..»
Однако вслух он, вежливо улыбаясь, сказал, нагибаясь в сторону Александра:
– Ты прикажи ей, Искандер, пить кумыс!..
...Дверь распахнулась, и телохранители ордынца, уже успевшие переоблачиться в халаты поновее и поярче, внесли свадебные подарки для невесты от царевича Чагана.
Подарками этими были: толстый, тяжёлый свёрток тёмно-вишнёвого шёлка, резная костяная шкатулка, полна я жемчужных зёрен, и, наконец, серебряная колыбель под парчовым одеялом.
Это были поистине царственные дары! Несмотря на строгое соблюденье благочиния придворных застолий, на этот раз многие из княгинь и боярынь привстали со своих мест, дабы лучше рассмотреть подарки ордынского царевича.
Эти три подарка давно уже предназначались Чаганом не кому другому, как самой ханше Кототе, старшей супруге великого хана Менгу. Царевич знал: это даренье могло бы вознести его на ступени, ближайшие к престолу Менгу. Он дышал бы тогда, быть может, в самое ухо императора!.. И вдруг, не то опьянившись лестью русского князя-богатыря, не то красотой Дубравки, он совершил явное неразумие!..
«Но ничего, ничего!.. Быть может, эту самую серебряную колыбель ты вскоре станешь качать в моей кибитке, Дубравка-хатунь!.. Быть может, склоняясь над этой колыбелью, ты к губам моего сына, рождённого тобою на войлоке моей кибитки, будешь приближать рубины своих сосцов, источающих молоко».
Так прозвучали бы на языке русском потаённые помыслы юного хана, если бы толмач смог заглянуть в его мозг.
Внезапно он поднялся со своего места и торопливо обернулся к удивлённому Александру.
– Прости, Искандер-князь, – сказал он. – Я должен уйти. Не обижайся. Прошу тебя, передай Дубравке-хатунь, что мы весьма сожалели, что не смогли дождаться восхождения луны лица её над этой палатою, где стало так темно без неё. Скажи ей, что я буду присылать для неё лучший кумыс от лучших кобылиц своих... Прощай!..
Уж первые петухи голосили, а в хоромах не переставал пир. Уж многие, кто послабже, постарше, успели поотоспаться в дальних покоях и теперь снова, как будто молодильного яблочка отведав, начинали второй загул: добрая свадьба – неделю!..
Пир передвинулся теперь в соседнюю, свободную от столов палату. Молодёжь рвалась к пляске! Да и старики тоже не сплоховали: добрый медок поубавит годок!
Сама невестина сваха, княгиня Олёна Волынская, и та прошлась павою, помахивая аленьким платочком вокруг позвавшего её тысяцкого – князя Святослава Всеволодича. Старик притопывал неплохо, хотя – что греха таить! – у дебелого и седовласого старца плясали больше бровь да плечо.
Вдруг среди народа, сгрудившегося по-за кругом, в толще людской, словно ветром передохнуло из уст в уста:
– Ярославич пошёл!
А когда говорили: «Ярославич», то каждый понимал, что это об Александре.
И впрямь это он, Александр, вывел на круг невесту...
Дивно были одеты они!
На Дубравке жемчужный налобничек и длинное, из белого атласа, лёгким полукругом чуть приподнятое впереди платье. Одежда как бы обтекала её стройное девическое тело.
Невский, перед тем как выступить в круг, отдал свой торжественный княжой плащ и теперь шёл в пляске одетый в лиловую, высокого покроя рубаху тяжёлых шелков, с поясом, усаженным драгоценным камением.
Синего тончайшего сукна шаровары, в меру уширенные над коленом, красиво сочетались с высокими голенищами сине-сафьяновых сапог.
...Как кружится камень в праще, вращаемой богатырской рукою, так стремительно и плавно неслась Дубравка вкруг, казалось бы, недвижного Александра.
Высокий, статный, вот он снисходительно протягивает к ней могучие свои руки и, усмехаясь, чуть приоткрывая в улыбке белые зубы, как бы приманивает её, зная, что не устоять ей, что придёт. И она шла!..
И тогда как бы ужас осознанного им святотатства веял ему в лицо, исчезала улыбка, и он, казалось, уже готов был отступиться от той, которую так страстно только что называл на себя. Но в краткий миг улыбка лукаво-победоносного торжества перепархивала на её алые, словно угорская черешня, рдяные губы, и, обманув Александра, она снова от него удалялась.
Словно взаимное притяженье боролось в этой пляске с вращательным центробежным стремлением, грозившим оторвать их друг от друга, и то одно из них побеждало, то другое.
Ещё не остывший от пляски, когда не утихли ещё восторженные возгласы и плесканье ладоней, Александр заметил, что владыка всея Руси мерной, величественной поступью, шурша васильковым шёлком своих до самого полу ниспадающих риз, идёт, высясь белым клобуком, прямо к сидящей на своём полукресле-полупрестоле Дубравке.
«Что это? – мелькнуло в душе Ярославича. – Быть может, я неладное сотворил, невесту позвав плясати? Но ужели он, умница этот, тут же, при всех, сделает ей пастырское назиданье?»
И, желая быть наготове, Александр Ярославич подошёл поближе к митрополиту и к Дубравке.
Обеспокоился и Андрей.
Да и князья, и бояре, и супруги их, и все, кто присутствовал сейчас в палате, тоже повернулись в их сторону.
Когда митрополит был уже в двух шагах от неё, Дубравка, вспомнив затверженное с детства, встала и подошла мод благословение.
Митрополит благословил её.
– Благословенна буди в невестах, чадо моё! – громко сказал он. – Однако об одном недоумеваю. Мы читывали с тобою Гомера, и Феокрита, и Прокопия Кесарийского, и Пселла-философа, и многих-многих других. Различным наукам обучал я тебя в меру худого разумения моего... Но ответствуй: кто же учил тебя этому дивному искусству плясания?
– Терпсихора, свитый владыко, – с чуть заметной улыбкой отвечала Дубравка.
Меж тем приближалось отдаванье невесты. Свершить его надлежало Александру.
Невеста с немногими своими и жених с немногими своими, в последний раз испрося благословения у владыки, прошли по изрядно опустевшим покоям, где ещё пировали иные неукротимые бражники, другие же, уже поверженные хмелем, почивали бесчувственным сном прямо на полу, кто где упал.
Шествие, предваряемое протопопом, который волосяною кистью большого кропила окроплял путь, приблизилось наконец к порогу постельных хором, так называемому сеннику. Здесь надлежало расстаться, отдать невесту.
...Александр Ярославич остановился спиною к двери, лицом к молодым. И тишина вдруг стала. Лишь потрескивали в больших золочёных свещниках, держимых дружками, большие, ярого воску свечи.
Невский принял из рук иерея большой тёмный образ, наследственный в их семье, – образ Спаса – ярое око[32]32
Образ Спаса – ярое око – Сохранившаяся до нашего времени икона, известная под названием «Спас Ярое Око», – одно из самых выразительных произведений древнерусской живописи. Однако, по мнению большинства исследователей, икона была написана в середине XIV века.
[Закрыть], и поднял икону.
Андрей и Дубравка опустились перед ним на колени. Он истово благословил их... Отдал икону. Новобрачные поднялись. Они стояли перед ним, потупя взоры.
Тогда Александр глубоко вздохнул, уставя на брате властный взор, и произнёс:
– Брат Андрей! Божиим изволением и нашим, в отца место, благословением велел бог тебе ожениться, взять за себя княгиню Аглаю. И ты, брат Андрей, свою жену, княгиню Аглаю, держи по всему тому святому ряду и обычаю, как то господь устроил!..
Он поклонился им обоим, и взял её, княгиню, за руку, и стал отдавать ему, брату Андрею, княгиню его...
И тогда только, глянув в его синие очи, поняла Дубравка, что всё, что до сих пор творили вокруг неё эти старшие, – это они не над кем-то другим творили, а над нею.
Глаза её – очи в очи – встретились с глазами Александра. Он внутренне дрогнул: в этих детских злато-карих глазах стоял вопль!.. «Помоги, да помоги же мне, – ты такой сильный!..»
Ей чудилось в этот миг, Дубравке, что белёсо-мутный поток половодья несёт, захлёстывает её, колотит головой обо что ни попало, и вот уже захлёбывается, и вот уже утонуть!..
Проносимая мимо берега, видит она: стоит у самого края, озарённый солнцем, тот человек, которому, едва услыхав его имя, уже молилась она. Он увидел её, заметил, несомую потоком, увидел, узнал... Он склоняется над рекою... протягивает к ней свою мощную длань. Она тянется руками к нему... И вдруг своею тяжкой десницей, опущенной на её голову, он погружает её и топит...
Всё это увидел, глянув в душу её, Александр...
А что же в его душе? А в его душе было то, что в ней было бы, если бы и впрямь, некиим сатанинским наитием, над каким бы то ни было тонущим ребёнком он, Александр, только что совершил такое!..
На перстневом, безымянном пальце князя Александра сиял голубым пламенем драгоценный камень. Шуршали пергаменты, то стремительно разворачиваемые Невским, то вновь им сворачиваемые.
Поодаль, слева, так, чтобы легко дотянуться, высится стопка размягчённой бересты – для простого письма: по хозяйству и для разных поручений.
В двух больших стоячих бронзовых свещниках – справа и слева от огромного, чуть наклонного стола, с которого вплоть до самого полу ниспадало красное сукно, – горели шестерики свечей. Они горели ярко, спокойно, не встрескивая, пламя стояло. За этим неусыпно следил тихо ступавший по ковру мальчик. Был он светловолос, острижен, с чёлкой; в песочного цвета кафтанчике, украшенном золотою тесьмою, в сапожках. В руках у отрока были свечные щипцы – съёмцы, – ими он и орудовал, бережно и бесшумно.
Вот он стоит в тени (чтобы не мешать князю), слегка прислонился спиною к выступу изразцовой печи и смотрит за пламенем всех двенадцати свеч. Вот как будто фитилёк одной из них, нагорев, пошёл книзу чёрною закорючкою. У мальчика расширяются глаза, он как бы впадает в охотничью стойку, и – ещё мгновенье – он, став на цыпочки и закусив губу, начинает красться к тому шестисвещнику, словно бы к дичи. Он заранее вытягивает руку со щипцами и начинает ступать ещё бережнее, ещё настороженнее.
Невский, несмотря на всю свою занятость спешной работой, взглядывает на паренька, улыбается и покачивает головой. Затем вновь принимается за работу. В правой руке Александра толстая свинцовая палочка. Просматривая очередной свиток, князь время от времени кладёт этой заострённой палочкой на выбеленной коже свитка черту, иногда же ставит условный знак для княжего дьяка и для писца.
Время от времени он берёт тщательно обровненный кусок размягчённой бересты и костяной палочкой с острым концом пишет на бересте, выдавливая буквы. Затем откладывает в сторону и вновь углубляется в свитки пергамента...
Работа закончена. Александр откидывается на спинку дубового кресла и смотрит на тяжёлую, темно-красного сукна завесу окон: посредине завесы начали уже обозначаться переплёты скрытых за нею оконниц. Светает. Александр Ярославич нахмурился и покачал головой.
Мальчик случайно заметил это, и рука его, только что занесённая над чёрным крючком нагара, так и застыла над свечкой. Он подумал, что работа его обеспокоила князя.
– Ничего, ничего, Настасьин, – успокаивает его
Александр, мешая в голосе притворную строгость с шуткой, дабы ободрить своего маленького свечника.
Тот понял это, улыбается с блаженством на лице снимает щипцами вожделенную головку нагара.
– Подойди-ка сюда! – приказывает ему князь.
Мальчуган так, со щипцами в руке, и подходит.
– Ещё, ещё подойди, – говорит Невский, видя его несмелость.
Гринька подступает поближе и становится возле подлокотника кресла, с левой стороны. Александр кладёт свою большую руку на его худенькое плечо.
– Ну, млад-месяц, как дела? – спрашивает князь. – Давненько мы с тобой не беседовали!.. Нравится тебе у меня, Настасьин?
– Ндравится, – отвечает Гринька и весело смотрит на князя.
Тут Невский решительно не знает, как ему продолжать дальнейший разговор: он что-то смущён. Кашлянул, слегка нахмурился и продолжал так:
– Пойми, млад-месяц... Вот я покидаю Владимир: надо к новгородцам моим ехать опять... Думал о тебе: кто ты у меня? Не то мечник, не то свечник! – пошутил он. – Надо тебя на доброе дело поставить, и чтоб ты от него весь век свой сыт-питанен был!.. Так-то я думаю... А?
Гринька молчит.
Тогда Невский говорит уже более определённо и решительно:
– Вот что, Григорий, ты на коне ездить любишь?
Тот радостно кивает головой.
– Я так и думал. Радуйся: скоро поездишь вволю. на новую службу тебя ставлю.
У мальчика колесом грудь. «Вот оно, счастье-то, пришло! – думает он. – Везде с Невским самим буду ездить!..» И в воображении своём Гринька уже сжимает рукоять меча и кроит от плеча до седла врагов Русской Земли, летя на коне на выручку Невскому. «Спасибо тебе, Настасьин! – благостным, могучим голосом скажет ему тут же, на поле битвы, Александр Ярославич. – Когда бы не ты, млад-месяц, одолели бы меня нынче поганые...»
Так мечтается мальчугану.
Но вот слышится настоящий голос Невского:
– Я уж поговорил о тебе с князем Андреем. Он берёт тебя к себе. Будешь служить по сокольничему пути: целыми днями будешь на коне!.. Ну, служи князю своему верно, рачительно, как мне начинал служить...
Голос Невского дрогнул. Он и не думал, что ему так жаль будет расставаться с этим белобрысым мальчонкой.
Белизна пошла по лицу Гриньки. Он заплакал.
Больше всего на свете Невский боялся слёз – ребячьих и женских. Он растерялся.
– Вот те на!.. – вырвалось у него. – Настасьин?.. Ты чего же, не рад?
Мальчик, разбрызгивая слёзы, резко мотает головой.
– Да ведь и свой конь у тебя будет. Толково будешь служить – то князь Андрей Ярославич сокольничим тебя сделает!..
Гринька приоткрывает один глаз – исподтишка вглядывается в лицо Невского.
– Я с тобой хочу!.. – протяжно гудит он сквозь слёзы и на всякий случай приготовляется зареветь.
Невский отмахивается от него:
– Да куда ж я тебя возьму с собою? В Новгород путь дальний, тяжкий. А ты мал ещё. Да и как тебя от матери увозить?
Увещевания не действуют на Гриньку.
– Большой я, – упорно и насупясь возражает Настасьин. – А мать умерла в голодный год. Я у дяди жил. А он меня опять к Чернобаю отдаст. А нет – так в куски пошлёт!..
– Это где ж – Куски? Деревня, что ли? – спрашивает Александр.
Даже сквозь слёзы Гриньку рассмешило такое неведение князя.
– Да нет, пошлёт куски собирать – милостыню просить, – объясняет он.
– Вот что... – говорит Невский. – Но ведь я же тебя ко князю Андрею...
– Убегу я! – решительно заявляет Гринька. – Не хочу я ко князю Андрею.
– Ну, это даже невежливо, – пытается ещё раз убедить упрямца Александр. – Ведь князь Андрей Ярославич родной брат мне!
– Мало что! А я от тебя никуда не пойду! – уже решительно, по-видимому заметив, что сопротивление князя слабеет, говорит Настасьин.
– Только смотри, Григорий, – с притворной строгостью предупреждает Невский, – у меня в Новгороде люто! Не то что здесь у вас, во Владимире. Чуть что сгрубишь на улице какому-нибудь новгородцу, он сейчас тебя в мешок с камнями – и прямо в Волхов.
– А и пущай! – выкрикнул с какой-то даже отчаянностью в голосе Гринька. – А зато там, в Новгороде, воли татарам не дают! Не то что здесь!
И, сказав это, Гринька Настасьин опустил длинные ресницы, и голосишко у него перехватило.
Невский вздрогнул. Выпрямился. Брови его сошлись. Он бросил испытующий взгляд на мальчика, встал и большими шагами прошёлся по комнате.
Когда же в душе его отбушевала потаённая, подавленная гроза, поднятая бесхитростными словами деревенского мальчика, Александр Ярославич остановился возле Настасьина и, слегка касаясь левой рукой его покрасневшего уха, ворчливо-отцовски сказал:
– Вот ты каков, Настасьин! Своим умом дошёл?
– А чего тут доходить, когда сам видел! Татарин здесь не то что в избу, а и ко князю в хоромы влез, и ему никто ничего!
Князь попытался свести всё к шутке:
– Ну, а ты чего ж смотрел, телохранитель?!
Мальчик принял этот шутливый попрёк за правду.
Глаза его сверкнули.
– А что бы я посмел, когда ты сам этого татарина к себе в застолье позвал?! – запальчиво воскликнул Гринька. – А пусть бы только он сам к тебе сунулся, я бы его так пластанул!..
И, вскинув голову, словно молодой петушок, изготовившийся к драке, Гринька Настасьин стиснул рукоять воображаемой секиры.
«А пожалуй, и впрямь добрый воин станет, как подрастёт!» – подумалось в этот миг Александру.
– Ну что ж, – молвил он с гордой благосклонностью, – молодец! Когда бы весь народ так судил...
– А народ весь так и судит!
– Ого! – изумился Александр Ярославич. – А как же это он судит, народ?
– Не смею я сказать... ругают тебя в народе... – Гринька увёл глаза в сторону и покраснел.
Ярославич приподнял его подбородок и глянул в глаза.
– Что ж ты оробел? Князю твоему знать надлежит – говори!.. Какой же это народ?
– А всякий народ, – отвечает, осмелев, Настасьин. – И который у нас на селе. И который в городе. И кто по мосту проезжал. Так говорят: «Им, князьям да боярам, что! Они от татар откупятся. Вот, говорят, один только из князей путный и есть – князь Невский, Александр Ярославич, он и шведов на Неве разбил, и немцев на озере, а вот с татарами пачкается, кумысничает с ними, дань в Татары возит!..»
Невский не смог сдержать глухого, подавленного стона. Стой этот был похож на отдалённый рёв льва, который рванулся из-под рухнувшей на него тяжёлой глыбы. Что из того, что обрушилась эта глыба от лёгкого касания ласточкина крыла? Что из того, что в слове отрока, в слове почти ребёнка, прозвучало сейчас это страшное и оскорбительное суждение народа?!
Александр, тихо ступая по ковру, подошёл к Настасьину и остановился.
– Вот что, Григорий, – сурово произнёс он. – Довольно про то! И никогда, – слышишь ты, – никогда не смей заговаривать со мной про такое!.. Нашествие Батыево!.. – вырвался у Невского горестный возглас. – Да разве тебе понять, что творилось тогда на Русской Земле?! Одни ли татары вторглись!.. То была вся Азия на коне!.. Да что я с тобой говорю об этом! Мал ты ещё, но только одно велю тебе помнить: немало твой князь утёр кровавого поту за Землю Русскую!..
Окончив укладку грамот в дорожный, с хитрым затвором сундучок, Александр Ярославич вновь садится в кресло и, понуря голову, устало, озабоченным движением перстов потирает нахмуренное межбровье. Затем взгляд его обращается на поставленные на особом стольце большие песочные часы. Песок из верхней воронки уже весь пересыпался в нижнюю, – значит, прошли сутки. Теперь следует перевернуть прибор – нижняя, наполненная песком воронка теперь станет верхней, а верхняя, опустевшая, станет нижней, и всё пойдёт сызнова.
«Когда бы так вот и жизнь паша, человеческая...» – думает Александр, глядя на эти часы, по образцу коих он и в Новгороде приказал стекляннику выдуть в точности такие же. Уставшая мысль князя созерцает как бы текущие вспять видения. Знойные, жёлтые пески Гоби... караван двугорбых верблюдов... бедствия многотысячевёрстного пути в Китай, через Самарканд и Монголию, в свите Сартака, вместе с братом Андреем... Поклонение великому хану Менгу... Каракорум... Почти полугодовое путешествие по неизмеримому Китайскому государству, которое только что отъято монголами у немощных императоров китайских. Встреча в Бейпине с Ели-Чуцаем, мудрым последователем Конфуция, с человеком, которому монгольская держава обязана существованьем своим едва ли не более, чем Чингисхану, ибо если бы не этот пленный китайский сановник, приведённый сперва к Чингису с волосяной петлёй на шее, то что же бы сделать мог далее дикарь Чингисхан! Сгрудив под собою обломки разрушенных его кочевыми ордами государств, он так бы и погибнул на этих обломках, зарезанный или удавленный кем-либо из подросших сыновей, оставя по себе лишь чёрную славу молота, раздробившего империю китаев. Без Ели-Чуцая не завоевать бы Чингису и Хорезма!