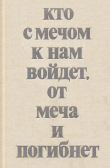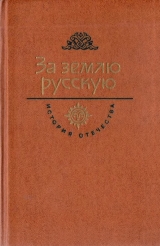
Текст книги "За землю русскую. Век XIII"
Автор книги: Алексей Югов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 35 страниц)

ЧАСТЬ 4
Дубравка возросла, раздобрела, вошла в лета. Статная, высокая, с гибким станом и царственными движеньями расцветшего тела, уже изведавшего материнство, – ибо там, в изгнании, у княгини Аглаи был младенец, – Дубравка вызывала сейчас даже и со стороны княгини Вассы невольные похвалы.
– Какою же ты стала красавицей, Аглая! – в присутствии Александра, который нередко тенор]» заходил к ним, на женскую половину, воскликнула однажды княгиня Пасса, ласково оглаживая упругое тело невестки. – Экая телица господня!.. Куда тебе вдоветь, повдовела – и хватит!.. Саша, – обратилась она к мужу, – а ведь правда, мы не отпустим её к Данилу Романовичу, а замуж здесь отдадим? Я ей и жениха нашла...
Ярославич через силу усмехнулся. Неприятным показалось Ярославичу чуждое его княгине, столь свойственное прочим боярыням, касание до чужой брачной жизни, до чужих замужеств и женитьб: «Не к лицу ей это!..»
– Не думал я, что монашенка моя, яже во святых, княгиня Васса, свахою может быть, да и доброй! – сказал Невский.
Княгиня Васса Брячиславна была до крайности разобижена:
– Что же, даже среди родных я не могу и шутки себе позволить? Или я не человек, как все?
– Ну полно! – стал уговаривать её Александр. – Прости. Пошутил... Так за кого же придумала ты отдать Дубраву нашу? – совсем по-другому спросил Ярославич.
– Глебушка ей жених, Василькович! – сказала, перестав сердиться, княгиня Васса. – Зачем же будем красавицу такую, дитя наше, в чужой род отдавать? Вот вернётся Глеб из Большой орды, от Каневичей, – и поженим. Тебе он помощник верный. Ты его любишь. Будут они с Дубравкой в своём Белоозере жить, а мы – во Владимире. Ездить будем друг к дружке. И как будет хорошо!
– Это какой Глеб? – изумилась Дубравка. – Тот юнец, что на свадьбе нашей со свечою шёл?
Княгиня Васса улыбнулась:
– Так разве одна только ты выросла? Ведь уже семь лет, подумать страшно, как привезли тебя к нам, во Владимир. Тебе двадцать три, ну и Глебушке около того...
Вмешался Невский.
– Нет, мать, – насмешливо сказал он. – Незадачливая ты сваха!.. Я велел Глебушке в Орде жениться, когда всё ладно там пойдёт у него…
– В Орде?! У поганых? На татарке? – воскликнула княгиня Васса.
Александр пожал плечами.
– А что ж тут такого? Они хороши, княжны ихние! Ясно, что окрестим вперёд. И они этого не прочь. У самого Менгу покойная царица была христианка, православная. Ежели оженится Глебушка в Орде, то лишь новую юницу введём в стадо Христово... Нет, видно, другого жениха будешь присматривать для неё! – закончил он снисходительно. А потом, осмотрев Дубравку с ног и до головы, покачал в раздумье головой и проговорил: – Эх, время, время... летит – и не видим! Семь лет!.. А и впрямь, как возросла!.. Вот только косички у тебя не выросли, Дубравка, – пошутил он и слегка докоснулся до золотых косичек Дубравки, забранных венчиком под золоти кораблик с кисейными наголовничком.
Дубравка смутилась. Вмешалась Васса:
– Саша, да оставь ты её, в краску вогнал!..
От проницательного, хотя и постоянно долу опущенною взора княгини Вассы не укрылась радость, которая вспыхнула в глазах Александра, когда, вернувшись под вечер из Новгорода к себе на Городище и войдя на половину княгини, он увидал, что у неё сидит Дубравка, хотя приезд княгини Аглаи не был для него неожиданностью.
Невский знал и узнал своевременно, то есть вскоре же, как возвратился в Переславль от Сартака, что брат Андрей и Дубравка спаслись от татар, что они бежали сперва в Новгород, потом в Псков, затем в Ревель, к датчанам, потом в Ригу, к магистру Поппе фон Остерна; узнал, что там они разделились: Дубравка, воспользовавшись пребыванием у рыцарей Марии посольства отца своего, отбыла с посольством этим в Галич, а князь Андрей – в Швецию[45]45
Некоторые летописи сбивчиво сообщают, что князь Андрей Ярославич бежал в Швецию, где был убит. Однако на основании большинства летописей принято считать, что в 1256 году Андрей вернулся на Русь, получил от Александра в удел Суздаль, дважды ездил вместе с братом в Орду, помогал ему усмирять Новгород. Умер Андрей в Суздале в 1264 году. От брака с дочерью Даниила Галицкого он имел трёх сыновей – Юрия, Василия и Михаила.
[Закрыть]. Затем, когда Александр выхлопотал для Андрея прощенье и оба они, князь и княгиня, возвращались через Ливонию, и здесь, при весьма смутных обстоятельствах, князь Андрей Ярославич убит был в схватке, завязавшейся между немецкими рыцарями и отрядом эстонцев...
«Ведь вот брата убили, – подумала княгиня Васса, наблюдая при первой встрече с Дубравкой лицо мужа, – ни чего ещё расспросить не успел её о том, а у самого на лице только радость, что видит её!.. Видно, коли любить, так не скроешь! Стало быть, верно доносили мне тогда!..»
А доносили тогда княгине Вассе, остававшейся в Новгороде, некие тайные доброжелатели, что якобы супруг её потому лишь зажился в своём Берендееве, что там гостят у него невестка с мужем, и что галичанка очень по душе пришлась старшему Ярославичу, и что добрые люди уже поговаривают, не было бы и между Ярославичами-братьями чего худого, как промежду Владимиром да Ярополком из-за жены Ярополковой, гречанки[46]46
«Повесть временных лет» рассказывает, что после победы над братом Ярополком Владимир Святославич, «креститель» Руси, женился на овдовевшей жене Ярополка, гречанке по происхождению.
[Закрыть]...
И немало тогда одиноких ночей, у окошечка над Волховом, проплакала супруга Невского! А когда свиделись, то не смогла она утаить от Саши своего ни слёз этих, ни страданий своих, ни того, что уж надумала проситься у него на постриженье, чтобы уйти в монастырь.
– Полно, голубка! – сказал ей тогда Александр. – Мало ли что злые люди сплетут? Им бы только раздор между мужем и женою посеять, да и в меня лишний комок грязи метнуть!
Что же касается мыслей княгини насчёт ухода в монастырь, то он пошутил тогда, поведя рукою на опочивальню её, озарённую светом лампад:
– Зачем из монастыря да в монастырь?
...И вот снова упорная мысль о монашестве, о постриге – мысль, зародившаяся на измоченных слезами подушках, стала всё больше и больше одолевать княгиню вскоре после возвращения Дубравки из-за границы.
И княгиня Васса решила испросить благословения у митрополита Кирилла.
– Вот, владыка святый, затем и прибыла к тебе, – сказала в конце беседы своей с владыкой супруга Невского. – От юности была у меня мысль на постриженье, не токмо теперь! А ныне что ж я? Ведь разве я не вижу – государь он великий... несть ему равных в государях! А я... Нет, не такая ему супруга нужна!.. Нет, не государыня я... – прошептала она, как бы сама на себя осуждающе покачивая головою...
Владыка молча внимал ей.
– Да и разве я добрая оказалась матерь сынам своим? – продолжала княгиня. – И сынов-то покорных не сумела воспитать ему!.. Отрок ещё, а уж отцу своему сердце уклюнул! – скорбно воскликнула она.
И митрополит Кирилл понял, что она говорит о князе Василии, который как раз в это время задержан был в Пскове при попытке бежать в Юрьев, к рыцарям, дабы укрыться там от гнева отца.
– А потом, владыка святый, – закончила слово своё княгиня, ещё ниже опустя голову и сжимая чётки, – ведь я – как на духу... любит он её, княгиню Аглаю...
Кирилл долго молчал.
Потом вздохнул и пристально посмотрел на супругу Невского.
– Княгиня! Дщерь моя во Христе! – проникновенно и строго сказал он. – Не мне отгоняти от дверей одну из овечек стада господня, стремящуюся укрыться от треволнений суетного и маловременного века сего в пристанище господнем!.. Благословляю намерения твои. Но, однако, ежели бы и жена простолюдина пришла ко мне просить меня о том, о чём ты просишь, то даже и ей я сказал бы: «Принеси мне сперва отпущение от мужа твоего на сей постриг, а без сего даже и я, митрополит всея Руси, ничто не могу сотворити!..» А что же князь? Он согласен? – спросил он резко и прямо.
Княгиня Васса долго не отвечала ему. Она, бедняжка, силилась переждать, пока утихнет нестерпимая, остановившая её дыханье, лютая боль от ножа, который повернул сейчас в её сердце митрополит своим вопросом.
– Я... я хочу с мольбою припасть к стопам его, и он... не отвергнет... – тихо произнесла княгиня.
И как раз а то же самое время княгиня Дубравка, изнемогая душою и отбросив прочь сломленную гордость, опустилась у ног Александра и, зарыдав, обняла его колени.
Они были один у него. Только что до этого Дубравка объясняла деверю своему новое затаённо, которое привезла она от родителя своего, и они вдвоём, склонясь над большим столом, чело о чело, разобрали, не без труда, письмо Даниила Романовича и его любительную грамоту Невскому. Потом княгиня стала рассказывать деверю своему о том, чего насмотрелась она и наслышалась там, в скитаниях своих – и в Швеции, и у датчан, и у магистра, – и Александр опять подивился её державному разуму и уменью увидать в чужих странах и при чужих королевских дворах как раз то, ради чего и засылаются послы.
– Как там тебя все ненавидят, Саша, как боятся, как все они смерти твоей жаждут! – вырвалось у неё среди рассказа.
– Ну полно, – в некотором смущении возразил Невский. – Да уж и кто там из них этак чтит особу мою?
– Кто? – воскликнула Аглая и, остановись перед ним, назвала, по пальцам пересчитала всех, кто вожделел смерти Невского. – Епископ абоский у финнов, и сам герцог (так назвала они Биргера), и Андре Фельфен, тот, что гостил у тебя когда-то, да и фон Остерна... Как хотелось им, чтобы брат твой, а мой супруг, позвал их на тебя... отымать престол Владимирский!.. А ты знаешь, что сказал мне рыцарь Депансье на пиру у епископа рижского? «Мы ждём, – сказал он, – мы ждём не дождёмся, когда ваш бофре́р, этот, в гордыне своей посмевший противиться велениям римского апостолического престола и орифламме Святой Марии, король Александр примет из рук татарской царицы такую же чашу, как принял когда-то его отец!» Господи! – выкрикнула Дубравка. – Да я чуть в лицо ему тогда вино из своей чаши не выплеснула. Саша, любимый мой, милый! Никогда не езди больше в Орду!.. Боже мой, как мы тебя оскорбили тогда – я и Андрей, что не повиновались тебе! Как я кляну себя!.. Ведь я же всё поняла, когда пожила там, среди них, среди этих волков в рясах, в панцирях, в мантиях!.. Нет, в руке твоей быть... без оглядки повиноваться... у твоих колен умереть!.. Ведь я же ради того только, чтобы ещё раз увидеть лицо твоё, вернулась сюда, чтобы ты простил меня!..
Как безумная, прижалась она к его колену, залившись слезами...
Бережно и ласково отстранил Александр голову Дубравки от своих колен, поднялся с кресла и поднял за локти её.
Они стояли теперь столь близко, что его ладони как бы сами собою легли позади её плеч. Нагнетающий стук его сердца пошатывал их обоих... Было совсем как тогда, на их озере, возле их берёзки!..
Он, медленно и противясь непреоборимому искушенью, склонялся к её распылавшимся губам. Ещё мгновенье – и беспощадный, как смерть, греховный брак соединил бы их...
Запах драгоценных ароматов, веявший от её одежд, лица и волос, вошёл в его ноздри, расширяя их, заставляя вдохнуть.
И вдруг этот сладостно-благовонный запах вызвал в его памяти тот сладковатый запах трупного тленья, которым нанесло на него тогда, в страшный день его возвращенья после Неврюя, там, возле берёзки, у синего озера... Вот он раздвигает и тотчас же вновь, с шумом, даёт сомкнуться кустам, едва только увидал обезображенное, и поруганное, и уже тронутое тленьем тело пожилой женщины, умерщвлённой татарами простолюдинки, в разодранной посконной юбке...
...Александр молча отшатнулся от Дубравки…
И это было их последним свиданьем.
На Карпаты, к отцу, Дубравку сопровождал Андрей-дворский с дружиной. Он сам вызвался сопровождать на Галичину дочь своего государя. И не одна была к тому причина у Андрея Ивановича!
Во-первых, то, что суздальское окружение Ярославича с неприязнью, всё больше и больше разраставшейся, взирало на пришлого, на галичанина, да ещё из простых, который столь близко стал возле ихнего князя. «Не стало ему своих, здешних доброродных бояр!» – ворчали суздальские придворные Александра.
Другою причиною были не перестающие весь год мятежи и жестоко разящие мятежников казни в Новгороде.
«Силён государь, силён Олександр Ярославич и великомудр, – наедине с собою размышлял Андрей Иванович. – Ну а только Данило Романович мой до людей помякше!.. Али уж и весь народ здешной, сиверной, посуровее нашего, галицкого? И то может быть!» – решал он, вспоминая и доныне горькое для него обстоятельство, что на суде, и покоях владыки, где решалась участь Роговича и участь других вожаков мятежа, – на этом суде только три голоса – его, да ещё новгородца Пинещинича, да ещё нового посадника, Михаила Фёдоровича, – и прозвучали за помилованье, всё же остальные поданы были за казнь, в том числе и голос владыки Кирилла, и архиепископа Далмата, и, наконец, голос самого Александра Ярославича.
Дворский, ожидавший, чем разверзнутся над провинившимся грозные уста князя, – после того как все высказались за казнь, – затаив дыхание взирал на том совете на Александра.
– Ну что ж, – промолвил Невский скорбно и глухо, – и я свой голос прилагаю.
Ещё мутны были глаза Ярославича и не в полное око подымались ресницы, но уже заметно было, что обильное кровопусканье из локтевой вены прояснило его сознание. Доктор Абрагам не страшился более рокового исхода.
Голова Александра покоилась на высокой стопе белоснежных подушек. Он отдыхал и время от времени вступал в неторопливый разговор со своим врачом.
– Одного я не пойму, доктор Абрагам, как та же самая кровь, и которой жизнь и душа наша, как может она стать губительна и болезни, так что вам, врачам, приходится сбрасывать её? – спросил Александр.
Старец покачал головою:
– Вслед за Гиппократом Косским полагаю и я, государь, что душа – не в крови, не в мозгу. Не всегда хороню сбрасывать кровь. Но тебе угрожало воспаление мозга. Блоны, одевающие це́ребрум, были переполнены разгорячённой сверх меры кровью...
– Пустое! А просто просквозило меня! – перебил доктора Александр. – Места здесь такие, что без ветру и дня не бывает. Тут тебе Волхов, тут Ильмень...
Они ещё поговорили о том о сём, и вдруг Абрагам сказал:
– Государь! Прости, что не в другое какое время начинаю разговор свой... Но ведь только восставим тебя, то и не увидим: умчишься!.. А я уж не смогу последовать за тобой, как прежде... Я отважусь тебе напомнить обещание твоё: отпустить меня на покой, когда стану дряхл и старческими недугами скорбен...
– Тебе ли – врачу из врачей – говорить так?
– Государь! Медицина могущественна, но ещё не всесильна! – печально усмехнувшись, отвечал доктор Абрагам. – Всякий день, пробуждаясь, я начинаю с того, что хладеющими перстами своими осязаю пульсус на своей иссохшей руке. И он говорит мне, чтобы я, старый Абрагам, поторапливался. Плоть моя обветшала. И я не могу быть больше твоим медиком, государь.
Александр неодобрительно покачал головой.
– На кого же ты, хотел бы я знать, оставляешь меня и семейство моё, доктор Абрагам?
На лице старого доктора изобразилось глубокое огорчение. Он приложил руку к груди и от самых глубин сердца сказал:
– Государь, попрёк твой раздирает мне душу!.. Или я забуду когда-нибудь, что ты спас мне жизнь в Литве? Но ведь доктор Бертольд из Марбурга просился к тебе. Это учёный муж и добрый и осторожный врачеватель... И ты сказал мне, государь: «Я подумаю».
Невский улыбнулся.
– Я и подумал, – отвечал он. – И велел отказать сему доктору Бертольду: у меня слишком много незавершённого, чтобы я решился вверить жизнь и здоровье своё иноземцу!..
Абрагам рассмеялся.
– Как радостно мне слышать решенье твоё, государь! Тогда всем сердцем своим, всей совестью и клятвою врача я заложусь пред тобою за того лекаря, в котором найдёшь ты не только мудрого врачевателя, но и единокровного тебе, сиречь русской крови, который сердце своё даст обратить в порошок, если узнает, что сим порошком тебе, государю своему, приносит исцеленье!.. Он ещё юн, но мне, старому доктору Абрагаму, уже нечего открывать ему из тайн нашей школы. Он – прирождённый врачеватель!..
– Боже мой! – воскликнул, даже приподымаясь глотки на подушках, Александр. – Так неужто это Настасьин?.. Ты изволил пошутить, доктор Абрагам!
Старик покачал головою.
– Нет! – отвечал он. – Ты был без сознанья, государь, и не знаешь... Но струя драгоценной крови твоей под ого остриём брызнула сегодня в этот серебряный сосуд!.. Я уже не посмел доверить этого своей одряхлевшей руке. Он же, мой доктор Григорий, положил и повязку на руку твою. Ему же приказал я изготовить и целебное питьё на красном вине...
– Да-а, чудно́, чудно́! – проговорил Невский. – Гринька Настасьин, тот, что с расшибленным носом гундел передо мною на мосту... и вдруг – лекарь...
– Так, государь! – подтвердил Абрагам. – Секира времени посекает корни одних, а другим она только отымает дикорастущие ветви! Но ежели ты сомневаешься, государь, то я устрою для него коллоквиум и приглашу, с твоего изволения, и доктора Франца из немецкого подворья, и доктора Татенау – от готян... И мы выдадим ему, Настасьину, диплому, и скрепим своими печатями... Кстати, вот слышу его шаги...
Вошёл Настасьин. В руках юноши была золочёная чаша, прикрытая сверху белым. Невский сквозь опущенные ресницы с любопытством рассматривал его.
Григорий, думая, что князь дремлет, тотчас поднялся на цыпочки, чтобы ступать неслышнее; он закусил губу, лицо его вытянулось...
Невский не выдержал и рассмеялся. Чаша с вином дрогнула в руке юноши. Его румяное, круглое, ясноглазое лицо владимирского паренька и русая широкая скобка надо лбом не очень-то вязались с чёрным, строгим одеяньем докторского ученика.
Григории поспешил поставить чашу.
– Ну, доктор Грегориус, пошутил Александр, – что ж это ты у своего князя столь крови повыцедил, да и за одни раз? Немцы из меня, пожалуй, и за все битвы столько не взяли!..
Григорий испуганно оглянулся на своего учителя. Тот хранил непроницаемое спокойствие.
– Князь, может быть, беспокоит рука?.. Плохо перевязал я? – спросил юноша, весь вспыхнув, и опустился на колени, чтобы осмотреть повязку.
– Да нет, чудесно перевязал! – возразил ему Александр и пошевелил рукою.
Юноша благоговейно приник к руке Невского.
– Ох ты... Настасьин... – растроганно произнёс Александр, взъерошив ему светлую чёлку.
Армянские купцы с пряностями Сирии и Леванта, с парчою и клинками, нефтью и лошадьми, с хлопком и ртутью, коврами и шёлком, винами и плодами из благодатной и солнцем усыновлённой Грузии, – вездесущие эти купцы не один и не два раза в течение лета посещали новгородского князя в его загородном излюбленном обиталище[47]47
В источниках нет никаких сведений о переговорах Александра Невского с грузинами.
[Закрыть], что на Городищенском острове, между Волховом, Волховцом и Жилотугом. А излюбленным это обиталище было потому для всякого новгородского князя, что здесь не то что на ярославском дворище: князь здесь был избавлен от придирчивого и докучливого дозора со стороны новгородцев.
Здесь любой корабль с товарами – лишь бы только князь не вздумал потом перепродавать их в городе через подставных лиц, – любой корабль мог остановиться на собственной Городищенской пристани князя, и тогда либо он сам, по приглашенью гостей, посещал со свитою их корабль и выбирал, что ему было надобно – для себя, для княгини, для двора и для челяди, а либо приглашённые им купцы привозили образцы и подарки ему на дом.
Вот почему никого из новгородских соглядатаев не удивило бы, что в сумерки одного летнего, звенящего комарами вечера трое верховых, в бурках и высоких косматых шапках, проследовали к Городищу. За последним из всадников тянулась поводом, прикреплённая к его седлу, вьючная коренастая лошадь с бурдюками вина.
Присмотрелись новгородцы и к грузинским и к армянским купцам и знают: новгородский человек – без калача в торбе, а грузинский купец – без вина в бурдюке в путь-дорогу не тронутся: словно бы кровь свою жаркую водой боятся разбавить.
Но удивился бы соглядатай, когда бы увидал вскоре этих купцов, уже в светлых, пиршественных ризах, золотом затканных, с чашами в руках восседавших за избранною трапезою вместе с Невским и с владыкою Кириллом в тайном чертоге князя. И уже князьями именуют их и митрополит всея Руси, и великий князь Александр.
Да и впрямь – князья!..
Не простых послов прислали северному витязю и государю – оплоту православия и его надежде – оба грузинских царя – и старший, Давид, и младший. Старший, Давид, сын Георгия Лаши, тот, что прозван у татар Улу-Давидом, – он прислал не кого-либо иного, а самого князя Джакели, того самого, что в своём скалистом гнезде и всего лишь с восемью тысячами грузин – картвелов – отстоял добрую треть страны от непрерывно накатывавшихся на неё монгольских полчищ; отстоял – и от Субэдэя, и от Берке, а ныне уж и от иранского ильхана Хулагу.
Там, у самой оконечности гор, прижатые спиною к скалам Сванетии, лицом оборотившись к врагам, стояли последние витязи Карталинии, стоял Джакели, а с ним – и алиауры его, и виноградари, и пастухи.
Орда вхлёстывалась в глухие каменные щёки утёсов и отступала. И вновь натискивала и отваливала обратно в ропоте и в крови...
Подобно тому как стиснутый в опрокинутом под водою кубке воздух может противостоять целому океану, так Саркис Джакели со своими людьми противостоял натиску ордынских полчищ в дебрях и скалах Сванетии и Хевсуретии. Такой был тот человек, которого прислал к Невскому, со своим тайным словом, старший из царей Грузии, Улу-Давид.
Джакели был уже немолод – лет около шестидесяти. Чуть помоложе был второй спутник – посол Давида-младшего – Бедиан Джуаншеридзе.
Оба грузинских посла и видом одежды, и строгим расчёсом длинных, с проседью, вьющихся по концам волос, и горделивостью осанки напоминали знатнейших наших бояр – ближе всего бояр новгородских, но по́шиб Византии, повадки двора Ангелов и Комне́нов сквозили в каждом их движении. Сдержанный пафос речи, цветистое и радушное велеречие, без которого, как без соли трапеза, немыслим знатный грузин, и оплавленность, и горделивость жестов – всё говорило об их знатном происхождении.
Лица их были смуглы. И оттого ещё более сверкали великолепные зубы, обнажаемые и замедленной улыбке под густыми с проседью усами.
Горы, на которых тысячелетиями клюёт и терзает Прометееву печень клювастый Зевесов орёл; горы, на которых тоже тысячи лет выклёвывали и раздирали и самое сердце великому народу Грузии всевозможные хищники: от орлов Рима до серого кречета – Чингисхана, – эти грозные горы как бы отложили свой отпечаток в резкости очертаний лица того и другого грузина.
У старшего, у Джакели, лицо было более грозным и, пожалуй, более грубым и носило следы сабельных ударов. Его усы, опущенные книзу, потом выгнутые, были толсты, напоминая собою турьи рога. Подбородок – выбрит.
Его спутник – Бедиан Джуаншеридзе – выглядел несравненно изящнее и тоньше – и лицом, и складом, и речью. Да оно и неудивительно: от младых ногтей это был и философ, и ритор, и законовед. Ещё при жизни царицы Русудан – этой ничтожной дщери великой матери[48]48
Русудан была дочерью царицы Тамары.
[Закрыть] – князь Бедиан блистательно закончил своё образование в Константинополе и вернулся на родину, в Сакартвело, полагая, что он везёт народу своему бесценные сокровища, что станет помощником царей в борьбе с лихоимством, и неправосудием, и запутанностью законов и обычного права.
Но по прибытии его в Грузию выяснилось, что не перед кем испытать юноше ни красноречия своего, ни искусства струить складки своей тоги, ни своих, перед зеркалом разработанных рукодвижений судебного ходатая и оратора!
Орды Субэдэя, пройдя Хорезм и Иран, громили Сакартвело. Татарин-кентавр – народ, сросшийся с лошадью, покрыл сплошь благословенные, ущедренные солнцем холмы Грузии. Дыша грабежом и убийством, монголы текли по стране, уничтожая не только всё дышащее, но и всё зеленеющее.
После первого поражения грузинских войск, которыми предводительствовал верховный атабек Иванэ – кичливый фантаст, задумавший одно время остановить татар с помощью крестного хода, – ужас и отчаянье овладели и рядовым дворянством Грузии, и эриставами княжеств и областей, а в первую очередь само́й несчастной царицей Русудан.
Она металась между Тбилиси и Кутаиси, пока не укрылась в Сванетии. Татары же, как во всякой не покорившейся сразу стране, принялись уничтожать непокорную грузинскую знать, военное сословие, порабощать и грабить виноградаря и скотовода, угонять в плен ремесленников.
Народ поголовно взялся за оружие. Картли, Имеретия, Мингрелия, Гурия, Сванетия и Абхазия восстали единодушно. И тогда-то во главе наспех собранных азнаурских дружин встал Джакели.
Его отряды обрастали ополчением народа, который, заслышав зов бранной трубы, волна за волною, выливался из своей извечной скалистой цитадели – Сванетских гор – на покинутые им родные холмы и долины и устремлялся на татар.
Армии Субэдэя, пробираясь с невероятными усилиями сквозь каменные жабры ущелий[49]49
В 1220—1221 годах на Кавказе 20-тысячный корпус Джэбэ и Субэдэя оказался в крайне тяжёлом положении в результате ударов, нанесённых ему армяно-грузинскими войсками. Монголы с большим трудом прорвались через Дербент в Половецкую степь, заставив захваченных в плен представителей местной знати показать им дорогу через горы.
[Закрыть], имея прямо перед собою стену Кавказского хребта, рвясь к просторам южнорусских степей, вдруг получила внезапную кровавую потылицу от грузин, которых не ведавший поражений Субэдэй считал уже давно либо истреблёнными, либо подклонившими свои гордые выи под деревянный многопудовый хомут наплечной колодки.
В стремленье вырваться из гулкого каменного бурдюка, где уже Тереком чикла татарская кровь, разъярённый хан приказал громоздить, наваливать в пропасти и ущелья всё, что только могло хоть на вершок поднять колёса монгольских а́роб. Китайские пленные инженеры пытались бурить скалы, дабы взорвать их заложенным в скважины порохом, однако вскоре Субэдэй отменил свой приказ, когда увидел, что гибель армии придёт прежде, чем инженеры успеют хоть чего-либо достигнуть.
Он велел валить в ущелья глыбы, камни, деревья и хворост; наконец сгруживали в пропасть, наезжая конями, тысячи гонимых перед собою рабов и толпы захваченного окрест населения, не беря даже труда предварительно умертвить кладомых в те плотины людей: зачем? – умрут и так, когда тысячи конских копыт пройдут по этим завалам.
На дно последней стремнины, уж перед самым хребтом, приказано было ринуть шатры, кибитки, тюки награбленного сукна и ковров! Тщетно: всё так же в недосягаемой выси стояла бессмертная иерархия снеговых исполинов. Казалось, они были совсем рядом, но ещё неделю ползли, ещё неделю клали кровавую борозду по ущельям и осыпям татары, карабкаясь к этим бессмертно блистающим снеговым исполинам, и они оставались всё столь же недосягаемо близкими...
Монголам Субэдэя там, впереди, грозила голодная гибель, позади – Джакели.
И если бы случайно захваченная татарами кучка предателей беглецов не вывела армию Субэдэя вправо – на путь Каспийских ворот, – то... не было бы битвы на Калке...
Весть о первой победе над татарами пронеслась звуком длинной медной трубы и столбами дымных костров от вершины к вершине. И до самого Рима, до слуха папы Григория, донеслась эта весть.
Верховный совет, дидебулы Грузии, вместе с царицею Русудан воззвали к «наместнику Христа» о срочной подмоге, о том, чтобы повелел рыцарям, залёгшим в Константинополе, устроившим герцогство Афинское и склады товаров в Парфеноне, захватившим половину Балкан, двинуться в истинный крестовый поход против монгольских орд.
На грамоту Русудан, в которой она извещала римского первосвященника о победе над татарами, об их поспешном уходе в южнорусские степи, папа не дал ответа. Однако легаты – явные и тайные – вымогали у народа и правителей Грузии отступничества от православия, отказа от союза с Ласкарисом, императором греков, и требовали, чтобы грузины признали папское владычество.
Послана была наконец и папская ответная булла царице Русудан... с двадцатилетним опозданием, когда иго Азии уже налегло и на Русскую Землю.
Уже баскак Батыя сидел в Тбилиси – осквернённом, загаженном, опустевшем. Ненадолго хватило грузинского единства, которое подымало на смерть, на подвиг: неистовая грызня и поножовщина знатных; два царя в одной Грузии; выпрашивание ярлыков ханских; доносы и политическая подножка друг другу в Орде... Для народа же – захлёстнутый на горле волосяной аркан налогов и податей, которым уже и самый счёт был потерян. Из деревень народ разбегался в горы.
Но ещё более страшная дань – дань кровью грузинских юношей – воинская повинность Орде – тяготела над народом Сакартвело: один боец с девяти дворов – девяносто тысяч бойцов со всей Грузин уходило в любой из походов хана.
В Египте – а за что неведомо – лилась грузинская кровь. Грузин гнали на русских, русских собирались гнать на грузин...
...Бедиану Джуаншеридзе, перед лицом татарских сборщиков дани, не очень-то пригодились его юридические познания, его тончайшие ораторские жесты со свитком пергамента, изящество и красота его рук с миндалеобразными обточенными ногтями, окрашенными в розовый цвет, и знанье налоговых законов и крючкотворства. Фискальная практика монголов была до чрезвычайности проста.
Однажды в долго осаждаемый город вторглись воины
Джагатая. Шла резня. Одна старуха, стремясь хоть сколько-нибудь отсрочить свою гибель, крикнула монгольскому военачальнику, что она проглотила драгоценный алмаз, пусть не убивают её. Нойон приказал не убивать, но велел распороть ей живот и обыскать внутренности. Так и было сделано. Камень был найден. Вслед за тем приказано было вспороть животы и у всех трупов, которые ещё не успели предать земле...
Пребывая с Невским в застолье, князь Джуаншеридзе, незаметно для Александра Ярославича, успел перехватить, устремлённый на свои ногти его взгляд – взгляд, как бы вздрогнувший от внезапного чувства жалости.
Сколько раз приходилось ему, Джуаншеридзе, подмечать этот взгляд у людей, впервые увидавших его!
Переждав некоторое время за беседою, вином и взаимными здравицами, князь Джуаншеридзе произнёс, выбрав мгновенье, когда это пришлось кстати:
– Пью за твоё здоровье, государь, да будешь благословен в роды и в роды – ты и священночтимое семейство твоё, и дом твой, и все деянья твои!.. Мне ли слышать о себе восхваленья из уст твоих? Столько славных из народа моего жизнь свою сложили за отечество. Я же чем пожертвовал? Разве только... вот ногтями своими! – закончил он, оглядывая на левой руке свои кучковатые, изъеденные ногти, вернее – корешки от них...
Переводчик обоих послов – третий их спутник – тотчас же перевёл эти слова Джуаншеридзе на русский язык.
Князь Джакели укоризненно поморщился.
– Ай, князь Бедиан! – сказал он и покачал головою. – Государь, – обратился он к Невскому, – в этом не надо верить ему!.. Каждый из его ногтей, что потерял он, нам, грузинам, следовало бы вправить в золотой ковчежец, как сделали католики с ногтем святого Петра!..
Джуаншеридзе смутился и возмущённо проговорил по-грузински что-то своему товарищу, очевидно запрещая ему рассказывать. Однако его товарищ пренебрёг этим. Рассказ его был прост и ужасен.
Когда в Грузии борьба против монголов сменилась данничеством, Джуаншеридзе во время пиров и застолий стал время от времени произносить зажигательные речи, в которых, под видом прозрачных иносказаний, укорял дворянство Грузии в том, что оно предаёт отчизну своими распрями, своекорыстием и беспечностью. Призывал последовать примеру Джакели, который ушёл в горы, накапливал там народ и нависал страхом над ханскими дорогами, истребляя нойонов, сборщиков податей и даже целые татарские гарнизоны.