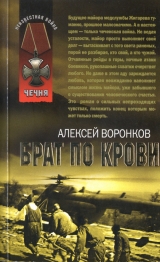
Текст книги "Брат по крови"
Автор книги: Алексей Воронков
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
ЧАСТЬ IV
XXXIV
Весна в Ичкерию прокралась тайком, словно хитрый абрек. В начале марта сошел снег на равнине, в горах же, там, куда редко заглядывало солнце, он лежал рыхлый и почерневший. Деревья еще были голыми, но почки уже беременели новой зеленью и были набухшими, словно соски дебелой бабы. С каждым днем становилось все теплее, и лишь горный ветер продолжал приносить с далеких заснеженных перевалов холодные воздушные массы.
Все оживилось к весне: и небо, и земля, и люди. Появились птицы, в неясном оттаявшем небе запел жаворонок, выскочила на лугу первая испуганная трава, и селенье, возле которого стояла наша часть, наполнилось голосами. Эти голоса издали были похожи на приглушенное движение горной речки, перекатывающейся через камни.
По утрам Хасан, как и прежде, пригонял свое стадо на луга. Земля оттаяла и сочилась, мерно чвакая под копытами животных. Утробно кричали коровы, весело блеяли овцы, и густо пахло свежим и несвежим навозом. Под Хасаном была все та же чалая лошадка, которая слушалась его и прытко скакала по лугу.
– Ить! Ить! – кричал чабан и звонко щелкал плетью, устрашая таким образом непослушных животных.
Он выглядел по-прежнему неприветливым и страшным в своей мохнатой бараньей шапке, нахлобученной на самые глаза. Абрек, сущий абрек, думал я. Не дай бог такому попасться где-нибудь на горной тропе – прирежет. Вон тем самым ножом, который висит у него на поясе.
– Здравствуй, Хасан! – выйдя на луг, чтобы погреться на первом весеннем солнышке, приветствовал я его, но он, как всегда, бросив на меня полный ненависти взгляд, круто разворачивал чалую и скакал прочь.
«Какой ты все-таки невежественный, дикий человек, – думал я о нем. – Ну что я тебе плохого сделал? Да ничего. Только хорошее. Где твои сородичи берут медикаменты? У меня. И детей своих, если те вдруг заболеют, ведут ко мне. Так за что же ты меня ненавидишь, Хасан?»
Впрочем, стоило ли гадать – ведь я все прекрасно понимал: как и всех русских в погонах, он считал меня врагом Ичкерии. Его братья продолжали сражаться против федералов, и он был с ними заодно. Они сражались в горах, на равнине, в больших и малых городах. Они не жалели даже тех своих соплеменников, которых подозревали в сотрудничестве с федеральной властью. По ночам в селеньях слышались выстрелы, гремели взрывы – это мятежники уничтожали, как они говорили, предателей чеченского народа. Многие чеченцы уже устали от войны, и их тянуло к мирной жизни. За это их убивали.
Обстановка в Чечне продолжала оставаться сложной. Республику по-прежнему называли «осиным гнездом терроризма». К весне количество диверсий, совершаемых боевиками, увеличилось. Из штаба Объединенной группировки федеральных войск сообщили, что хорошо вооруженные отряды моджахедов тайными тропами стягиваются к крупным населенным пунктам Чечни. Это говорило о том, что «чехи» намереваются в ближайшее время начать широкомасштабное наступление. Впрочем, многие из нас понимали, что оно уже началось: по данным войсковой разведки, в Грозном окопалось более тысячи, в Гудермесе – около пятисот, в Ханкале – до двухсот вооруженных моджахедов.
Сразу на память пришли многократные заявления генералов Минобороны и Генштаба о том, что ударные силы чеченских бандформирований разбиты, а оставшиеся якобы действуют мелкими группами по десять-пятнадцать человек. А ведь та же тысяча вооруженных мятежников в чеченской столице – это уже полноценный партизанский полк, способный взять город под контроль. В 1996 году для этого хватило и двухсот боевиков. А нам говорят: ситуация в республике находится под контролем федеральных войск и милиции. Мы не верили, потому как слышали подобное и раньше, когда в день гибли до ста военных. Мы напряженно следили за развитием событий в Чечне, тайно опасаясь, что боевикам во главе с мятежным президентом Масхадовым удастся водрузить свое знамя над Грозным.
– Неужели и ты веришь в эту чушь? – заметив мое пессимистическое настроение, спросил меня начфин Макаров.
В то утро побудку в нашем лагере объявили, как обычно, в половине седьмого. Но на этот раз труба прозвучала как-то хрипло и нелепо, будто бы на ней играл новичок. Потом выяснилось, что ночью в своей палатке подрались напившиеся в стельку оркестранты из музвзвода и трубачу досталось по зубам. При этом была рассечена губа – вот этой больной и разбухшей губой он и пытался изобразить знакомую каждому армейскому человеку мелодию.
Я сказал Макарову, что уже не верю в счастливый исход дела и что, по моим соображениям, мы так и останемся сидеть в дерьме. Он был настроен более оптимистично.
– Русская армия всегда побеждала и будет побеждать, – сказал он. – Вспомни историю. Каждую войну мы начинали неудачно, но, в конце концов, все оборачивалось в нашу пользу.
Накануне мы пили принесенный мной из медпункта спирт (да-да, я уже дошел и до этого – ежедневно носил своим собутыльникам спирт), и Макаров выглядел невыспавшимся и угрюмым, с розовыми, цвета вареных креветок, белками глаз и серебристой свинячьей щетиной на лице. Позевывая и лениво почесывая задницу, он готовился к привычному утреннему ритуалу. Он налил из термоса кипятку в эмалированную кружку, намылил помазком щетину и стал осторожно водить по щекам безопасной бритвой. Бритва была совершенно тупой, и Макаров морщился от боли и матерился как сапожник.
– Ну и чума ты, – видя его страдания, произнес я. – Настоящая чума.
Он, кажется, обиделся. Он вообще был обидчивым человеком.
– Не говори таких слов, – сказал Женя. – Разве не слышал? Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести.
– Да я ж это любя, – улыбаюсь ему обезоруживающей улыбкой, а он мне:
– Все равно не называй меня чумой. Когда меня так называют, я чувствую, что я и впрямь какой-то идиот.
– Нет, ты не идиот, – говорю ему.
– Не идиот, – соглашается он. – Поэтому не обзывай меня.
– Да не обзываю я тебя, – говорю я ему, как маленькому. – Ты лучше возьми мою бритву, а то на тебя смотреть больно.
– А ты не смотри.
– И не буду смотреть. Я лучше в столовую пойду. А ты поторопись, не то на совещание опоздаешь. «Полкан» из тебя шашлык сделает, – предупредил я.
– А кто ему тогда зарплату будет начислять? – усмехнулся Макаров. – Без начфина вы все тут пропадете. Это вы смелые, пока я жив. А вот случится что со мной – сами увидите, что значит жить без Макарова.
Я улыбнулся и зашагал в столовую.
После завтрака я вместе с другими старшими офицерами отправился в штаб полка, где по утрам «полкан», а в его отсутствие кто-нибудь из его заместителей, проводил инструктаж. Комполка был необычайно зол. А когда он бывал зол, превращался в настоящего самодура. И не приведи господи в такие минуты попасть ему под горячую руку – в порошок сотрет. Накануне пришла телефонограмма из штаба дивизии – снова к нам собиралось пожаловать высокое начальство. «Полкан» психовал. Делать им нечего, что ли, мать их в переносицу! Всю душу уже вымотали, полководцы хреновы! Лучше бы с продовольствием вопрос решили – нет ведь, лекции едут читать да пыль в палатках искать.
После инструктажа офицеры разошлись по местам, и полк зажил своей обычной жизнью. Когда я шел в медпункт, мимо меня, громыхая сапогами, прошагал строй бойцов, спеша на занятия по боевой подготовке; следом потянулась в горы разведка; взревела моторами бронетехника, отравив воздух выхлопными газами.
Не успел я заняться своими делами, как в палатку, где находился медпункт, забежал часовой.
– Товарищ майор, там к вам чеченец, – доложил он.
Я поморщился. Снова, поди, пришли за медикаментами, подумал. Я нехотя поднялся с табуретки и вышел из палатки. Солнце медленно поднималось над горизонтом, заполняя равнину теплом и светом и вытесняя пришедшие ночью с гор холодные воздушные массы.
Возле палатки я увидел Хасана, по обыкновению восседавшего на своей чалой, и удивился. Он впервые был в нашем лагере. Что ему нужно? – подумал я и измерил его настороженным взглядом.
Хасан был все в той же мохнатой шапке, но теперь он был близко от меня, и я сумел разглядеть его глаза. Вблизи они были не такими уж и страшными, и в них я увидел не то боль, не то скрытую тревогу.
Он поздоровался со мной по-русски, и я, кивнув ему в ответ, спросил, с чем он пожаловал.
– Доктор, худо дело, – сказал он. – Мальчишки на мине подорвались…
Позже выяснилось, что десятилетние пацанята из аула решили поставить мину-растяжку, предназначенную для нашего брата, но что-то там у них не получилось – и мина взорвалась. Один был сражен насмерть, другого сильно покалечило, третий, испугавшись, убежал домой.
Я вернулся в палатку, взял сумку с медикаментами, положил туда все необходимые для операции инструменты и снова вышел. Хасан успел слезть с лошади и теперь стоял подле нее и держал ее под уздцы. Узда наборная, лошадь задорная, вспомнил я услышанное мною еще в детстве. Когда-то, когда я был еще маленьким, мы с родителями ездили к родственникам в деревню и меня тамошние пацаны научили седлать коня. Коснись, я бы и сейчас смог это сделать. Я знал, как надеть на лошадку сбрую, помнил, что есть такое ремни с удилами, что такое поводья, как нужно закреплять на лошади седло. Короче, все эти слова – потник, чепрак, подпруги, стремена, мундштук, нагрудник с пахвой и прочее – были мне известны.
– Садись на лошадь, доктор, – хрипло проговорил Хасан.
– А ты? – спросил я его.
– Я пойду пешком, – ответил он.
Я хотел отказаться от его предложения, но он указал глазами на стремя: полезай, мол. Я влез на лошадь. Но прежде чем это сделать, кликнул Савельева.
– Я в аул, – сказал ему. – Если что – там меня и найдешь.
– А что случилось? – спросил он и бросил недоверчивый взгляд в сторону Хасана.
– Мальчишки на мине подорвались… – ответил я сухо.
Он кивнул, и мы с Хасаном отправились в путь. Я держался за поводья, а он, ухватившись одной рукой за подпругу, шел рядом.
Последний раз я бывал в ауле в конце мусульманского поста Рамазана, когда чеченцы праздновали один из главных своих праздников Ураза-байрам. Был конец декабря, зима к тому времени уже спустилась с гор, и на улице было ветрено и холодно. В воздухе пахло деревенским дымом – люди по старинке топили печи в домах кизяком – прессованным, с примесью соломы навозом. Патриархальщина чувствовалась во всем – и в быте, и в привычках, и в поведении людей. Здесь даже иные дома, как и в старину, были сложены из кизяка. Бедность на грани фантастики. Но главное было не это. Я запомнил глаза селян – колючие, недоверчивые, а порой злые и ненавидящие.
В этот раз все повторилось: был дым из труб, были дома из кизяка, были недобрые глаза людей. Правда, там, куда меня привел Хасан, люди были более сдержанные – беда заставила: в большом, выложенном из камня доме с высоким крыльцом лежал раненый мальчишка.
Меня провели в жилище, внутри которого было сумрачно и тихо. Я шел и натыкался на какие-то предметы. Где-то задел таз, и он с грохотом упал на пол, где-то сбил табурет… Но постепенно мои глаза привыкли к полумраку, и я уже мог различать не только предметы, но и лица людей.
XXXV
Мальчишка лежал на узкой железной кровати и не подавал признаков жизни. Кто-то перевязал его на скорую руку разорванной на лоскуты простыней, и сквозь повязку сочилась кровь.
Возле кровати толклись какие-то люди, и я попросил их выйти из комнаты. Они не стали возражать и молча проследовали мимо меня к двери.
– Пусть останется только мать мальчика, – сказал я. – Мне потребуется помощь.
– У него нет матери, – сказал стоявший здесь же Хасан.
– Где же она? – машинально спросил я.
– Ее ваши убили… Она в лесу собирала хворост, и ее убили…
Я покачал головой.
– А отец? Есть тут отец мальчика? – спросил я.
– Отец в горах, – угрюмо произнес Хасан.
Я понял его и кивнул. Я бы тоже ушел в горы, если бы мою жену убили, подумал.
– А ты кто этому мальчишке? – спросил я Хасана.
– Дядя.
– Ладно, если нет матери, пусть кто-нибудь из родственников останется, – сказал я.
– Ваха, Леча, Джабраил, – позвал Хасан и что-то сказал им по-чеченски.
Я глянул на мужчин и покачал головой. Двое были совсем стариками, а третий походил на моджахеда – орлиный нос, черная борода и дикий взгляд.
Тогда Хасан предложил себя, но я снова покачал головой.
– Женщина… Пусть останется женщина, – попросил я.
– Лайла, Малика, Зайнап… Кто из вас хочет помочь доктору?
И тут появилась эта девчонка. Нет, она, конечно же, по горским меркам уже годилась в невесты, но по мне, так она была обыкновенной старшеклассницей. В ней было все еще юным – и эта ее гибкость лозового прутика, и эти невероятно большие глаза на светлом лице, и эти шелковистые, не знавшие ни завивок, ни стрижек темно-каштановые волосы.
– Я останусь, – решительным голосом произнесла она и твердо, так, как это делают порой горские женщины, посмотрела мне в глаза.
– Как тебя зовут? – спросил я.
– Заза, – ответила она с легким кавказским акцентом, и я подивился причудливости ее имени.
– А ты кто будешь?
– Я сестра Керима.
– Его зовут Керим? – указал я на раненого.
Она кивнула.
Я позволил ей остаться. В конце концов, не все ли равно, кто мне будет помогать, подумал я. Главное, чтобы быстро и точно выполнялись мои команды.
Перед тем как приступить к работе, я попросил Зазу принести мне горячей воды – нужно было тщательно вымыть руки. Она сбегала на кухню, принесла кувшин с водой и таз. Вымыв руки и вытерев их насухо, я присел возле мальчишки на табурет и стал снимать с него перевязку. Мальчишка был в коме, тяжело дышал, и его веки постоянно подрагивали.
Без повязки малец походил на подстреленного птенца – уж больно жалким и беззащитным выглядел он. Мне стало не по себе. Я невольно отвел глаза и тут же поймал взгляд Зазы. Она смотрела на меня вопросительно и, как мне показалось, участливо. Видно, поняла мое состояние и была благодарна мне за то, что я пожалел мальчишку.
Я снова перевел взгляд на мальчика и стал осматривать его раны. Чтобы не причинить раненому сильную боль, я старался действовать очень осторожно, пытаясь нащупать в мягких тканях инородное тело. Ему повезло, если это можно назвать везением: ни один из осколков не задел жизненно важных органов. Один из них угодил ему в плечо, другой – в голень, мелкие же осколки посекли его лицо и живот. Все это было на данный момент не смертельно, но если не принять мер, то начавшийся воспалительный процесс мог привести к абсцессу, газовой флегмоне, заражению крови. А кроме того, находясь вблизи сосудов, осколки вызывали кровотечение, и мальчишка мог потерять много крови. Впрочем, бледность в его лице уже была признаком значительной ее потери.
Увы, без рентгеновского исследования я не мог поставить своему пациенту точный диагноз. Но на войне как на войне. За неимением времени и нужной аппаратуры здесь более-менее точный диагноз ставит только скальпель.
– Надо оперировать, – сказал я вслух и попросил Зазу, чтобы она позвала мужчин.
Зашли двое.
– Нужен стол, – сказал я, и они тут же втащили в комнату самодельный тяжелый стол.
Заза накрыла его чистой простыней.
– Хорошо, – сказал я. – Ты молодец, ты смекалистая девочка.
Она улыбнулась и показала мне при этом свои жемчужные зубы.
Я стал раскладывать на столе хирургический инструмент.
– Ты видела когда-нибудь эти вещицы? – спросил я Зазу. Она замотала головой. – Ну тогда я буду указывать тебе на то, что ты должна будешь мне подать. Поняла?
Она кивнула. Чувствовалось, ей уже начинала нравиться ее роль.
Я набрал в один из шприцев противостолбнячную сыворотку, в другой – анатоксин.
– Как только я удалю осколки, ты мне подашь это, – кивнул я на шприцы. – Но только не оба сразу, а вначале вот этот. Ты меня поняла?
Она снова кивнула, и в ее глазах я увидел теплые искорки. Но тут застонал раненый, и Заза нахмурила свои темные густые брови.
Обработав раны, я приступил к операции. Заза оказалась хорошим помощником. Не успевал я показывать на очередной предмет на столе, как он тут же оказывался в моих руках. Такой же вот проворной была и Илона, вспомнил я вдруг и тяжело вздохнул.
– Я что-то не так делаю? – приняла мой вздох за укор Заза.
– Да нет, все нормально… Это я так.
– Вы что-то вспомнили? – догадалась она.
– Вспомнил, вспомнил, но это не имеет никакого отношения к нашей работе, – сказал я.
Я аккуратно работал скальпелем, а девчонка, затаив дыхание, внимательно и с интересом наблюдала за моими действиями. Ей было жалко братишку, особенно ей было жалко его тогда, когда он в беспамятстве вскрикивал от боли. В такие мгновения ее рука невольно тянулась к моей, пытаясь остановить ее. Я отводил ее руку и строго смотрел ей в глаза. Дескать, не мешай. Здесь идет операция, поэтому изволь не паниковать. В очередной раз, когда Керим вскрикнул и она машинально ухватилась за мою руку, я чуть не отругал ее.
– Если ты будешь так себя вести, я попрошу, чтобы ты ушла, – сказал я ей.
Она опустила голову, показывая тем самым, что она виновата.
Я снова орудовал скальпелем, потом рылся в ране пинцетом, который подала мне Заза, потом промокал кровь тампоном. Когда я достал оба осколка, я ввел раненому противостолбнячную сыворотку и анатоксин.
– Это не страшно? – спросила меня Заза.
Я не понял, о чем это она.
– Ты что имеешь в виду? – спросил я ее.
– Раны…
– Ах, раны… Да как тебе сказать. Боюсь, что задета берцовая кость. Да, так оно и есть… Вот два осколка от кости. Наверное, есть и трещина. Впрочем, все должно обойтись. Мы сейчас наложим тугую повязку – и все будет о’кей…
– Что такое «о’кей»? – спросила Заза.
Дикарка, подумал я, ты даже элементарного не знаешь.
– Это значит все в порядке. Англичане так говорят, – пояснил я.
Она ничего не сказала на это и только пожала плечами.
Потом я чистил от осколков лицо пацана, грудь, живот, а ранки смазывал йодом.
– Как же так мину-то они неудачно поставили? Уж если ее ставишь, то нужно ставить хорошо, – когда дело уже подходило к концу, с иронией в голосе произнес я.
Заза вздохнула.
– Глупые, – проговорила она.
– Ты так считаешь? – внимательно посмотрел я на нее. – Значит, все, кто ставит мины, глупые?
– Глупые, – кивнула она.
– А война?.. Это что, тоже глупость? – спросил я ее.
– Глупость, – произнесла она серьезно.
– Я тоже так считаю, – согласился я с ней и улыбнулся. Она в ответ тоже улыбнулась.
– Я не люблю войну, – сказала она.
– И я не люблю…
– Правда? – будто бы не поверила она. – Но почему? Ведь все ваши любят воевать.
– Не все, – сказал я. – Но есть приказ…
– Какой? – не поняла она.
– Воевать.
Она кивнула. И вдруг:
– Аллах не велит убивать!
– Я это знаю, – сказал я. – Но те, кто этого не знает, убивают.
– Ты кунак, – сказала она.
– Да, кунак, – согласился я. – Я люблю людей и не люблю убивать.
– Ты хороший, – сказала она. – Ты добрый и хороший.
Я оторвался от работы и посмотрел на Зазу. Она присела рядом со мной на табурет и теперь внимательно и с любопытством рассматривала меня. Мне показалось, что в глазах ее я увидел не детское любопытство.
– Сколько тебе лет? – спросил я.
Она будто бы прочла мои мысли и отвела глаза.
– Шестнадцать, – тихо произнесла Заза. – В мае будет уже семнадцать.
– Уже! – передразнил я ее. – Эх, мне бы твои годы…
Она снова перевела на меня свой взгляд. Уловив в моих глазах иронию, произнесла:
– Между прочим, у нас на Кавказе люди взрослеют быстрее.
– Знаю, знаю. Здесь, как на Крайнем Севере, – год за два, а то и за три, – сказал я. – Но ты все равно еще ребенок.
– Я не ребенок! – надула она свои полные, цвета спелой вишни губы.
– Да как же не ребенок, если ты еще несовершеннолетняя? Ребенок, – подтрунивал я над девчонкой.
Ее лицо стало пунцовым от возмущения.
– Ты неверно говоришь, – сказала она все с тем же легким кавказским акцентом. – Уже многие мои подруги замужем, и дети у них есть.
– А где их мужья? – спросил я.
– Там, в горах, – кивнула она в сторону окна и вздохнула. – Сейчас все мужчины воюют. Только старики да больные дома сидят.
– Но ведь я в вашем доме видел и молодых мужчин. Почему они не в горах? – спросил я.
Она вначале не хотела отвечать, но потом все-таки, видя во мне кунака, сказала по секрету:
– Мужчины часто спускаются с гор, чтобы семьи проведать. А сейчас посевная – нужно хлеб сеять.
Я кивнул, дескать, понимаю.
Наши теплые отношения продолжали укрепляться. Чувствовалось, что она верила мне, и я был благодарен ей за это. В свою очередь, я стремился всем своим поведением, всем своим видом показать, что и она, и ее народ мне очень симпатичны и что я хочу быть для них кунаком.
– Ты кунак, – говорила она.
– Кунак, – отвечал я. – Если бы я не был кунаком, разве бы я пришел к вам?
Я еще какое-то время колдовал над Керимом, а когда понял, что больше того, что я сделал, сделать не смогу, встал и произнес:
– Все. Моя работа закончена.
После этих слов комнату, где мы находились, стали заполнять люди. Видимо, все это время, пока я возился с мальчиком, они чутко прислушивались к тому, что творилось в соседней комнате, и когда поняли, что операция закончилась, поспешили к раненому.
Потом Хасан пригласил меня в столовую – большую комнату, где уже был накрыт обеденный стол. Я стал отказываться, но Хасан сказал, что таков горский адат, то есть обычай, и что без угощения они меня не отпустят.
– Хасан, ну пойми же – меня ждут в части, – пробовал я убедить его, но в ответ звучало только «йок» да «йок», то есть нет.
Со стола соблазнительно глядел на меня кумган – высокий медный кувшин с носиком и крышкой, доверху наполненный чихирем. Мне приходилось и раньше пить это молодое вино, и оно мне нравилось.
– А почему другие не садятся? – спросил я Хасана, недовольный перспективой харчевать в одиночестве.
Хасан сказал людям что-то по-чеченски, после чего находившиеся рядом мужчины стали рассаживаться за столом, а женщины тут же принялись ухаживать за нами. Из пышущей жаром большой кастрюли, больше похожей на казан, каждому с верхом наложили в тарелку пильгиши, налили в граненые стаканы чихиря.
– Выпьем за гостя, – сказал Хасан и поднял стакан.
Мы выпили. Хасан разделил хинкал на несколько частей и одну из них подал мне. Я закусил вино лепешкой, потом принялся за пельмени. Они были только что с пылу с жару и обжигали рот. Я сильно проголодался, потому не стал ждать, пока пильгиши остынут, и с мученическим наслаждением проглатывал их один за другим.
Потом мы снова выпили; и снова мы ели, и снова пили. И все это мы проделывали молча. Ну о чем говорить чеченцам с врагом? А я и был для них враг, лишь волей случая оказавшийся с ними за одним столом. А на Кавказе гостей уважают и не причиняют им зла. Другое дело, когда ты окажешься за дверями гостеприимного дома.
Но со мной ничего не случилось и тогда, когда я оказался вне этих стен. На прощание родня Керима в знак благодарности преподнесла мне в качестве пешкеша, то есть подарка, красивый нож с наборной ручкой.
– Завтра я проведаю мальчика, – сказал я вышедшим провожать меня родственникам раненого.
– Якши, – закивали они головами.
Я уже собирался поставить ногу в стремя – Хасан и слушать не хотел, когда я сказал ему, что дойду пешком, и подвел ко мне свою чалую, – как вдруг в аул вихрем влетел санитарный «уазик» и, подняв невероятную пыль, помчался в нашу сторону. Это был Савельев. Потом он говорил, что сильно волновался за меня и, когда я стал задерживаться, решил ехать за мной. Он и довез меня до лагеря.








