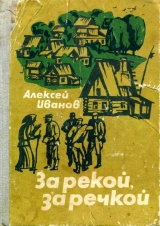
Текст книги "За рекой, за речкой"
Автор книги: Алексей Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
Новое топорище
Рядом с моей новой избой стоит сосновый смолистый пень в два обхвата. Я посматриваю на него, и душа радуется: не надо теперь думать о растопке – вот она, в трех шагах от поленницы сырых, слюнявых в печи, осиновых дров.
Одно удерживает меня: под этим пнем, между двух толстенных, вылезших из земли корней, муравьи построили себе бурый высокий дом. Я их сосед, мы живем мирно, ни они меня не трогают, обходят мою избу стороной, ни я их тем паче. Иду мимо, обязательно спроведаю соседей, подивлюсь в который уж раз их умельству. Ведь сколько тысяч бревен, надо понимать сосновых иголок! И накладены-то друг на друга вроде бы как попало: вдоль, поперек, в кресты, стоймя, не зажаты между собой так, что отдельную иголку ни за что не вытащишь, будто на клей посажена. А окон-то, воротец, дверей, балконов! Пройдет дождь – муравейник сухой. Вода скатится на землю – внутри зданья порядок, ни тазов, ни ведер не подставляли.
Молодцы соседи, ничего не скажешь. Только и пень хорош. Отколупнуть две-три щепки от его бока – не надо охапки дров. Что за оказия смоловые дрова! Вспыхивают от одной спички, гудят в печи и трубе с таким задором, будто радуются, что горят; а горят-то долго, жарко, без трескотни и искр, не в пример дровам еловым, а что сажи от них в дымоходе много – наплевать.
Дождался я заморозков, когда муравьи ушли до весны из своего небоскреба в подземелье, под корни, взял топор и, не перекрестя лба, приступил к делу.
Да не тут-то было. Топор отскакивает от пня, будто он чугунный. Стучал-стучал, взмок, а до самого ствола не добрался еще – рубил наросты смолы. Экая силища у мертвого пня! Тут когда-то давно (никто и не помнит, когда) стояла сосна, не меньше чем вековая. Взяли и спилили ее – побоялись, видно, что упадет да раздавит чью-нибудь постройку. А пень-то! Неужели он не почувствовал, что уже без головы: все гнал и гнал из земли по корням, через себя, вверх соки. Куда же вверх, когда верха не стало? Вот и остывали они на срезе, переливались через край, текли по обрубку ствола вниз, к земле, из которой вышли, каменели коряво наростами, утолщая и без того толстенный пень.
Вошел-таки топор в древесные волокна, тоже пропитанные смолой и зачугуневшие. Можно было скалывать сверху первую чурочку. Я размахнулся что есть силы и ударил. Топор увяз – ни туда и ни сюда. Раскачивал его, раскачивал, вверх-вниз, из стороны в сторону – все напрасно.
Кончил тем, что сломал топорище.
Жалко его – оно служило мне долго, отполировалось в руках до черного блеска, истончилось в ходовых местах, опять же от рук. Никогда б не подумал, что ладони тверже зарудевшей березы.
А топорище ладное было, работы старого мастера, теперь уж покойничка дедка Помаша (у него ходкое словцо было «понимаешь», слетало с языка поминутно и скороговоркой – «помаш»). Даровитый был плотник. Избу его недавно разбирали, так ни одного гвоздя в дереве не нашли. Крюки, на что двери навешивают, и те из еловых сучков-загогулин.
Между делом Помаш вытесывал целые поленницы топорищ по заказу лесопункта. Насчет поленниц тоже нисколько не вру – сам видел. А что ему стоило! Взял в руки тяжелое березовое полено – через минуту бросил в кучу звонкое топорище. Но то – заказ оптовый. Индивидуальный – сложнее.
– На што те, помаш, топоришшо-то? – спросил он меня, когда я принес ему новый топор.
– Как на что? На топор.
– Ясно, што не на заднё место. Дрова колоть – одно топоришшо подавай, потолшше да подлиньше. Стены тесать, дак сразу два надо и оба кривы: одно – в леву сторону, Друго – в праву. Плотницкой топор – тут полегше, пофигуристе, штоб не то што руки́ – мизинца слухался.
Был я молодой тогда – не запасливый хозяин да и не плотник еще. Откуда мне было знать такую номенклатуру топорищ. В кладовке валялся колун для дров, а у топора, какой был на все случаи, лопнула щека. Вот и купил я новый из недавнего завоза партии топоров, кованых, правда, не холодной штамповки, как теперь.
– Дай-кось гляну, – спросил Помаш мою покупку.
Принял он лезьво на ноготь, к уху поднес.
– Мягковат никак?
Сызнова испытал.
– Ничего, помаш, топор. Токо на наждаке не точи. Загубишь! Отпустишь, а то и сожжешь к едрене бабушке.
Еще разок принял на ноготь, послушал, покрепче похвалил, будто присуха в топоре нашлась для старика.
– Славной топор! Будешь ухаживать, как за Лизкой своей, дак дерево рубить-тесать без шума можно, как сливошно масло резать.
– Ну!.. – не поверил я.
– Вот те и ну, баранки гну. Бывает и острой топор, а в дерево с хрустом лезет… Мой вон без шума работает. Олексеевской ишшо. Пьяненькой дурачок был – за сто рублев продал. С похмелья кинулся выкупать – и за триста не взять. Три дни на дому у нового хозяина без копейки отработал, денег ишшо впридачу сунул, тогда токо возвернул потерю. Да-а-а… У кажинного топора своя душа. Хороша душа – береги, штоб никому, хоть министру плотников. Вон анблема есть – запорожец голой сидит, все пропил, а сабля при себе. Ни за како золото не отдаст. Топор-то для плотника чем хуже?.. Дак како те топоришшо? Буднишно, празднишно?
– Давай, дедко, такое, чтоб все можно было делать.
– Хитрой Митрий… Ну-кось, дай руку.
Протянул я ладонь на всякий случай, зачем, думаю, ему моя рука, гадать, что ль, собрался.
– Та-а-ак… Короткопалая, но широко-онька. Ничего рука, топор, помаш, не выронит. Ланно, приходи завтре до наряда.
Наутро Помаша я не захватил, куда-то усвистал уже раностай, но топор мой был воткнут в сосновый кляч на видном месте, чтоб я его сразу оприметил.
Диво было, а не топор. Лезьво на точильном камне обработано – смотрись, как в зеркало, жальце направлено брусочком, боязно даже было – не порезаться бы. Ведь не просил его, старого, точить, речь вели только о насадке. Ну, о топорище-то я уж и не говорю, так оно и влипло в ладони, недаром Помаш мою руку смотрел.
Через Помаша я и плотником сделался – инструмент судьбу мою определил. Хороший топор всему делу голова, если, конечно, руки не корявы да мозги не набекрень.
Тем топором я в плотницкой бригаде с десяток лет отмахивал и избу себе срубил. Стал он легче и меньше – полтопора, считай, об дерево сносил, полегчало и топорище. Да где теперь оно, бросил вон в дрова, смешной без топора, замызганный кусок дерева.
Эх, дедко, дедко! Нет теперь тебя, некому за деревенскими топорами поухаживать – ни из кнутовища топорища, ни из блохи голенища. Не первым я поминаю так старика. Лет-то уж сколько прошло!
Делать нечего, стал я новое топорище гоношить. Перерыл весь свой дровяник, березовое полешко отыскивал – напрасно время потратил. Хоть и живем по-прежнему в лесу, но дрова теперь возим не из леса – с лесозавода горбыль выписываем. А он сплошь осиновый да ольховый, ради смеха одна бы хоть березовая горбылина. Так, конечно, удобней, если деньги есть (у кого их, правда, сейчас нет).
Да зачем, думаю, мне полено искать, когда готовое топорище одолжить можно. Пошел я к нынешнему старику, Борису Ивановичу, так, мол, и так, выручай, лопнула Помашева работа.
– Нету, – говорит, – топорищев. Спросу нет, значит, и предложенья нету. А солить их? Так лучше грузди солить, они скуснее.
– Ну, дай тогда хоть полено березовое.
Полено дал, но маленько коротковатое. Теперь бензопилой «Дружба» дрова пилят, не жалко лишний рез на бревне сделать. Раньше, когда двуручку дергали, поленья длинней были.
Дал бы Борис Иванович мне и топорище, наверно, дал бы, не может такого быть, чтоб у него ни одного не завалялось. Не вовремя я пришел к нему, вот в чем дело. Совсем забыл с досады, что мы с ним перекинулись маленько из-за теленка по весне еще. Напрочь забыл, а когда вспомнил, тогда уж поздно было на попятную идти.
Нынче теленок у моей Вербы поздний был. Сосунком его пришлось выпустить на охожу. Матку свою он прямо в поле и посасывал, приходила, бывало, с пустым выменем, пока я ему рогатку на морду не надел. А Борис Иванович раскричался однажды на всю деревню, что, дескать, Сашкин, то есть мой теленок, его корову сосет. Я пошел к Борису Ивановичу и тоже покричал. В самом-то деле, ослеп он, что ли, не видит, что мой телок с гвоздьем на носу. Только ткнет носом в вымя, любая корова, хоть моя, хоть Бориса Ивановича, без разницы, так его звезданет копытом, что на всю его телячью жизнь охоту к парному молоку отобьет.
Совсем некстати топорище сломалось – скажет теперь старик, что я к нему с повинной пришел, что, и правда, мой теленок виноват.
Покурил я на крылечке, попереживал старое наново, а полено не выбросил – с паршивой овцы хоть шерсти клок. Пошел в сараюшку за худым топором, чтобы заготовку из полена вытесать, хвать-похвать – нет топора.
Помню: вроде бы отдавал кому-то, а кому – не помню.
Что ж, опять на поклон пошел, теперь к соседу через две избы, к Мишке, плотнику-краснодеревцу. У него кличка такая – краснодеревец – со времен плотницкой нашей бригады. Мужик ничего, но хвастливый. За это его и наградили.
– Да вон, – говорит, – в сарае.
Взял я топор в руки, а на него, извиняюсь, хоть сядь – до Москвы доедешь, не поранишь ничего.
Начал я Мишку стыдить.
– Да мясо, – отвечает, – рубил недавно. Поросенка заколол. А куда мне теперь топор? Бригады нету, заместо нас теперь вон «грачи» каждую весну прилетают. Чужой топор вострее. А я бы на председателевом месте гнал их в три шеи. Телятник построили – смотреть страм, но десять тысяч сорвали. Мы б за пять скрутили дело. Не телятник бы – Кижи отгрохали. Кижи-то кто строил? Русский мужик. Ру-усский! Сашки да Мишки.
– Ладно, – говорю, – погоди с Кижами, давай хоть сначала тебе топор наточу.
Наконец-то взялся за топорище.
И тут я взволновался, по-хорошему, до песни-гнусавочки под нос, как в любом для меня, в большом или пустяшном, плотницком деле.
Все-таки у Бориса Ивановича я хорошее полешечко прихватил: прямослойное, без сучков, не от сердцевины, не от толстого дерева, а так, на ширину топориного лезьва. Эх, мать честная, вроде бы и не стараешься делать быстро, хочется удовольствие растянуть, да сама работа подгоняет. А полено под Мишкиным наточенным теперь уж топором тает прямо на глазах, отлетает белой, как молоко, щепой все лишнее от него, остается только топорище с плавным, ленивым вроде таким изгибом спинки и брюшка, напоминающим маленько фигуру лошади. За туловищем – хвост лошадиный, вернее, контур хвоста, распушенного, раструбом и как бы застывшего. Это пятка топорища, она загибается книзу и идет на расширение, чтоб в случае чего инструмент с руки не соскользнул…
Конец – делу венец. Но настроенье горькое. Я нечаянно сколол пятку, и рисунок ручки пришлось менять. Будь неладен этот старик, всучил мне недосохшее полено. Щепа должна быть не молочно-белой, а цвета сливочного масла. Где теперь найти зарудевшее, костяной тверди полено?..
А пень я не стал трогать, пожалел обнову – слабовата она для такого дела. Пень подвалил сосед мой, Колушкин, собственной бензопилой, в минуту раскромсал его на короткие чураки, похожие на неровные колеса. Лиза, жена моя, вынесла «мерзавчика» Колушкину за работу, ему одному. Я ведь хозяин пня, а «Дружба» не моя.
Как потом я выяснил, пень с корней, в нижнем резе, оказался троплым, источенным муравьями. Ну да ничего, думаю, один чурак только похуже, остальные-то все равно огонь, а не дрова.
Портфель
Люблю я письма получать, да на ответы ленив. Потому мне и пишут раз в год и то по завету. Но газетины перетряхиваю еще у калитки – вдруг выпадет что-нибудь: телеграмма ли, письмо ль, извещение.
Иду сегодня с работы домой, издали еще вижу: портфель на заборе что-то уж больно раззявлен, отчего бы, думаю, не собака ль его от скуки трепала, а сам-то уж по уши в догадке сладкой – письмо толстенное, а то и бандероль.
Подхожу ближе – тьфу ты, мать честная! – снегом портфель набит. Созоровал кто-то.
Портфель у меня вместо почтового ящика. Сережке, сыну, купили новый (кожа яловая, медные бляхи), а и старый еще ничего, выбрасывать жалко. Была б ребятишек куча, как у моего батьки, а еще того лучше – как у деда, дорвали б, по очереди в школу ходивши. Взял я его да и приколотил за ручку к забору, рядом с калиткой. А что! Удобно и почтарихе, и нам, и влезет в него при случае много. Правда, как дождь или, смотря по времени года, снег пойдет, так дома у нас скандалишко. Лиза, жена моя, по-всякому примется меня причесывать, и на прямой, и на косой пробор. А из-за того только, что в портфеле газетины плавали, читать нельзя. Я ей, конечно, отвечаю, мол, вины моей никакой, что небо расквасилось, я бы сам рад-радешенек морозцу иль вёдру. Советую ей застегивать портфель перед переменой погоды. Здесь я не прав маленько бываю, потому что как она узнает загодя, она не метеослужба.
Метлослужба – это да.
У нас с Лизой давно сыр-бор дымит. Я говорю – веник, она – метла. Завела моду избу подметать торговыми просяными метлами. Да хоть бы метлы-то были метлами, а то одно названье. За раз растреплет (не метла – хвост дохлого петуха), бежит в магазин за новой, чулок уж с ноги снят, приготовлен, чтоб упаковать обновку – вдруг на пороге рассыплется.
– Лизавета! – говорю ей. – Выкинь ты это страхолюдье, возьми березовый веник, только что наломан.
Я на самом деле в Троицу приношу из лесу беремя веников на зиму – в бане париться.
– Ты тут новые порядки не устанавливай, – отвечает она очень знакомо и так пойдет пол запахивать, что из метлы палки летят.
Какие новые, когда самые что ни на есть старые. Мальчишкой, помню, был, так мама для меня такой порядок наладила: только с постели – ноги в сапоги и на закраек, свежий веник ломать. Бежишь по омежку в одних трусах да сапогах на босу ногу, слева лен тебя по коленям головками пощелкивает, справа трава росу в голенища покидывает. А утро-то раннее, воздух – как молоко со льда, солнышко из-за леса еще не поднялось, в ветках путается да вспыхивает на каждом листочке – с росой играет. Птицы заливаются вовсю, им, раностаям, свежесть да мокрость эта нипочем. Мне-то зато каково! Начнешь ветку, прутик отломишь, а она как порскнет на свое место да окатит тебя, голого, с головы до пят. Так каждым прутиком будто на сосок умывальника нажимаешь. Обратно бежишь что есть духу, лишь бы согреться, но уж сна как ни бывало – на день-деньской заведен ты для ребячьих забот.
– Ух, какой справной веник, – похвалит мама, тряхнет им маленько, а утро лесное уже по избе гуляет. – Да росной-то, хоть мельницу мети – пыли не подымешь.
Подметет мама полы – веник к порогу, чтоб не переводился в избе березовый дух.
Да и Лиза моя не из городских, просто баба маленько с вывихом.
Сколотил бы я почтовый ящик, давно и как полагается, с потайным клапаном на крышке и дырками на подоле, чтоб газетины видать было, но теперь уж не буду – нечего у баб на поводу ходить.
Известное дело, и в этот раз Лиза меня за портфель понесла по кочкам. Я тоже проявил, конечно, какой-никакой ответный оскал.
– Вещь, – говорю, – сделана, чтобы пользоваться, а не на помойку кидать.
Серьезно, я на вещи так смотрю: сделана – пользуйся, пока утилем не стала, уважай людское рукоделье. Ведь представить только! Для тебя одного сто человек делали этот портфель: выпаивали-выкармливали теленочка, мяли-выделывали кожу, кроили-шили, замочки гнули-клепали, с ручкой мараковали, вообще мозги свои мозолили, чтоб все покрасивей было, и в магазин к нам везли. Для чего? Чтобы выбросить!
У нас все к тому катится. Запусти нищего на нашу деревенскую свалку под обрывом, выйдет оттуда одетым-обутым, а рукодельный не то что выйдет – на велосипеде иль даже на мотоцикле выедет.
– Чтоб не видела его больше на заборе. Жалко, так колпак из него сшей. Только колпака тебе и не хватает. От народа стыд да страм.
Чем тут ей ответишь? Взаимным оскорбленьем?
– Был бы у нас еще один хотя б пацан или девка на худой конец, не лаялись бы мы с тобой.
– Эк, собрался зимой по грибы.
– Рано, – говорю, – в старухи записалась. Мама меня в сорок один родила.
– Оно и видно, – снова переходит она на личности.
Плюнул я да отстал, как всегда почти делал в таких моментах.
Разве ж в портфеле дело-то? Совсем не в нем. Пройди по нашей улице – портфелей пять на заборах с моей легкой руки вывешено. Есть еще совсем новые, блестят необтерханной кожей, а разинутыми ртами своими будто говорят: смотрите, мол, люди добрые, в нашем дому тоже непорядок – детвы нет.
В восьмилетке нашей, каменной теперь уж и двухэтажной, первые три класса в одной комнате на семи партах сидят. На следующий год первого класса не будет совсем – был один шестилеток, да с родителями в город уехал. И тот не наш – учительский.
Мы занимались в две смены, а классы были – чего уж там говорить. Берегу фотокарточку за пятый класс, одних стриженых голов на ней семнадцать штук, моя восемнадцатая.
Прежняя наша соседка бабка Сергушиха, ныне покоенка, говаривала не раз:
– Растаял народ-то у нас. Растаял, как снежок вешний. Токо снег сызнова выпадет, дай до Покрова дожить, а народ с небушка не прилетит, не там он родится.
И костерила, бывало, своих дочек:
– Что это вы, паразитки, делаете!
– Чего, мамынька?
– Родите одного да причинно место на холостой ход. Случись, война, не приведи господь, кто нас от ворога оборонит?
Смеются дочери ее, гладкотелые яловицы, дескать, что взять со старого человека.
Думаю, от моды-вертихвостки это все. Возьмись, к примеру, в нашей деревне избу рубить да попробуй-ка не пятистенок, а так, простую, как раньше, избушку. Только раньше в ней до десяти человек обреталось, а теперь и в пятистенной – трое-четверо. Все равно пальцем будут тыкать: или, дескать, у мужика не все дома, или запивает – строиться некогда.
На город теперь деревня поглядывает, фасад только видит, а думает, что все насквозь рассмотрела, – завидки берут, слюнки текут, по-городскому жить охота. Рожать – только одного, как в городе. Мать честная, да в городе-то, может, от горя так придумали. Бывал я там, знаю маленько. Квартира с нашу веранду, а говорят – двухкомнатная. Куда ни повернись – в магазин бежать надо, кошельком трясти. В уборную, извиняюсь, с проспекта опустился – монетку приготовь.
У нас-то разве такая жизнь?
Мода для придурков выдумана. По мне так живи, как нутро велит, а не так, как все живут, в озирку да впритруску. Сосна вон не раздевается, глядючи осенью на лиственный лес. Ей лиственная мода ни к чему.
А доярки меня замучили. Подходит время дойки, у меня уже веко дергается – чья-нибудь группа осталась беспризорной.
– Где Танька или Манька? – спрашиваю у завфермой.
– На «самолет» уехала.
– Давай подменную.
– Нету подменной. – И меня уговаривает в какой уж раз подоить коров, обещает не обидеть.
Что не обидит – это ясно, только ведь у меня своя работа: транспортеры, поилки там, кормораздатчики, вакуумная установка на мне. А тут стаканы на соски надевай; сорок помножить на четыре – сто шестьдесят стаканов. Коль на «самолет» – три дня крутись за нее белкой в колесе. Лиза моя «летала», так я до бессознательности отказывался от ее группы. Стыдили, конечно, одна семья, мол, а работой делишься. Да разве в этом дело!
Я бы, будь на то моя воля, «самолет» для нашего колхоза запретил, завел бы такой порядок:
– Из какого колхозу? – должен спросить хирург или акушер, не знаю с точностью, кто там у них по этому делу.
– «Путь к коммунизму».
– Поезжай, милая, домой.
И от ворот поворот.
Об одном не подумал: ведь совсем без кадров колхоз бы остался – начали б перебегать в соседние, где нет запрещенья. А на старухах далеко не уедешь.
Значит, в масштабах района запретить, а то и области.
Дорвались до сладкой жизни, нечего сказать, от детей, как черт от ладана, стали шарахаться – на «самолет» их, на «самолет», чтоб не застили солнца. Выдумывают люди сами себе какую-то заочную жизнь и скребутся по стенке вверх, и тянутся друг за дружкой – на ногах комки вен, как после дюжины детей, ногти обломаны – уставшие до срока, а передохну́ть, говорят, некогда – отстать боимся.
Посмотришь да разговоришься иной раз по душам за бутылочкой – без аппетита живут в новомодных пятистенках.
Посидел я, покурил после нашего с Лизой скандалишка да пошел портфель выбрасывать. Поздно теперь Лизу уговаривать – сам вижу.
Дернул я его в сердцах с забора, а он и пошел лепестьями – нитки опрели в дождливой да снежной сырости. Появятся в магазине железные синенькие ящики с выдавленными буквами на клапане «Почта», куплю – куда деваться. Пока пускай почтариха газетины сует промеж штакетника. Ну, а Сережке нашему, когда сравняется он с теперешними моими годами, никакого почтового ящика не потребуется. Я от братьев и сестер писем жду, а ему не от кого будет ждать.








