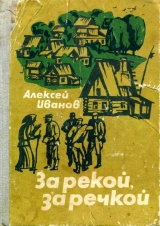
Текст книги "За рекой, за речкой"
Автор книги: Алексей Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
День с генералом
Занесли меня черти спать к курицам на насест. Чувствую: плохо мне там, бокам больно и страшно очень – вдруг свалюсь в поросячью загородку. В ней почему-то уже не боров наш Савося, а дикий кабан-секач, весь в черной шерсти, длинной, толстенной и острой, как сапожные шила. Леплюсь на жердочке под самой крышей, думаю горестно: если и не загрызет меня секач, все равно не сдобровать мне – упаду, напоторчусь на эти шила и останусь на них, будто осенний лист на ежике. Боюсь даже вниз глянуть, ушами только прядаю. Слышу: хрустит что-то в кабаньей пасти, наверно, Савосины косточки. Жалко поросенка, к зиме обещал пудов десять чистым весом. Но себя еще жальчей. Хруст все громче и громче, застукотали клыки так, что и хлев ходит ходуном. Совсем уж я обомлел, а тут вдруг как торкнут меня в бок. Я и повалился. К счастью, не успел на кабана грымнуться – проснулся.
– Саша! Да что ты как мертвый, – теребит меня Лиза. – Стучат ведь! Выйди посмотри.
Вышел я, счастливый после такого сна, на веранду – мать честная! – генерал на крыльце. Ну, думаю, из огня да в полымя, от секача к генералу. Поползла сама собой рука к козырьку, да об ухо пальцы споткнулись. Ущипнул я его – точно, живой генерал, не померещилось.
– Вам кого, товарищ генерал? – трепещу, как осина на ветру, враз вспомнил, что я ефрейтор запаса.
– Мне Огарыша.
– Так это я.
– Ну, тогда открывай.
– Да что открывать? Мы не запираемся, моды такой в нашей деревне нету.
– Выходит, в открытую дверь ломился, – засмеялся он.
– Так точно, товарищ генерал! – делаю грудь колесом.
– Не товарищ генерал, а Сергей Николаевич. Еще лучше – просто Сергей.
Так мы и поручкались в сенных потемках. Усадил я Сергея, фуражку на стол положил. А в лаковом козырьке радуги заиграли – Лиза моя по дому бегает, как ртутный шарик из разбитого градусника. Прическа и без того ухода требует, ведь только что с подушки, а тут еще больше взлохматила, шпильки, будто рогульки в гороховом омете, волосам на свое место упасть не дают. Секунду она в подвале – на столе запотевшая бутылочка выросла с грибками да огурчиками вокруг, секунду на кухне – желтоглазая яичница посередь белой скатерти зашкворчала, секунду у буфета – каждому по две тарелки из сервиза, который еще в ходу не бывал, по две хрустальных рюмки, большой и маленькой, кому из какой удобней.
Я разговору не даю пропасть да на Лизу мою не надивлюсь: и расторопная, и культурная, совсем городская, будто через час на ферму к коровам другой Лизе идти, – каждый бы день, думаю, с генералов начинался.
– Вы, – говорит Сергей Николаевич, – не беспокойтесь, Елизавета Васильевна. Мы с Сашей на Крутецкий хутор пойдем сейчас. Там и позавтракаем.
– И тут и там успеем, – говорю ему.
А Лиза еще пуще забегала, притом ловко как-то, свежий глаз и не заметит, что она бегает, подумает, что само собой на столе все растет.
– К сожалению, – говорит генерал, – не солдат уже и не курсант, дважды подряд завтракать не могу.
– А вы, – отвечает ему Лиза, – представьте, что обеда не будет, тогда и второй завтрак как найден.
Смеется он, а потом снова Лизе:
– Что же вы так? Стол уж накрыли, а не спросите, кто я и зачем? Может, не тот.
– А мы, хоть тот, хоть не тот, на голодный желудок гостя не расспрашиваем. Да ведь есть у меня и глаза, и уши. Кто? – вижу. Зачем? – слышу. Говор-то у вас наш, с протягом да на «о», и Крутецкий хутор поминаете. За тыщу верст киселя хлебать? Не потащится чужой человек.
– Проницательная, Саша, у тебя жена, – хвалит Сергей Николаевич.
Это уж точно, думаю, сам давно своими боками понял: контрразведка и народный контроль по совместительству.
Позавтракали мы, генерал и говорит:
– Дай мне, Саша, фуфайку, сапоги да штаны какие-нибудь, которых не жалко.
Пока я бегал к Степану отгул брать, он уже оделся. Теперь-то с ним на равных можно разговаривать – колхозник колхозником, как и мы, грешные, только руки белые да лицо молодое не по годам. Мы-то в стуже и зное, под открытым небушком быстро лицом дубеем.
И пошли мы на Крутецкий хутор, за пять километров от нашей деревни. Хотел было я «Урал» завести, чтобы генеральские ноги не натрудить, но он остановил.
– Только пешком, – говорит, – как в детстве.
Дорога, конечно, позаросла, потому что от хутора осталось одно названье. Сгладились, укрылись травой и дерниной многолетней старые пепелища, затянуло шелепнягом хуторские нивы, ни пашни, ни сенокосов не осталось. Колхоз давно забыл о хуторе, а дорогу к нему робко торят одни грибники.
Однако я помалкиваю – знаю, что сейчас человек просит бога тихую минуту ниспослать. Скажет что-нибудь сам – мыкну в ответ, и дальше идем.
– Странное чувство, – говорит. – Знакомо все до боли и в то же время незнакомое. Будто на фотоснимок смотришь. То же дерево справа, тот же изгиб реки, та же тропинка, а не узнать. У памяти другие объективы.
Когда пришли, я сел на первый попавшийся пенек, генерала на свиданье отпустил. Выкурил две папироски – он вернулся.
– Пошли, – говорит, – Саша, под мою березу. Жива еще. Я ведь до войны садил ее под окошком. Отцовских деревьев нет, сажены лет на двадцать раньше. Не спилены, своей смертью померли – засохли на корню, упали и сгнили. Только след гнилушечный от них и остался да береста кольцами.
Хотел было он на колоду сесть, но я остановил. Постучал по ней, вывернул немного из гнезда, глянул под низ.
– Теперь можно. На старых пепелищах змеи живут.
– Вот так раз! – удивился генерал. – На своей родине и то бояться, значит, надо.
– Опасаться – да. Теперь здесь другие хозяева. Беспокойства не любят.
У меня все вертится на языке спросить, почему я никого не помню с этого хутора и его, генерала, не знал до сегодняшнего утра. Он как-то догадался, или просто рассуждал сам с собой да кстати и на мой безъязыкий вопрос ответил.
– Здесь, – говорит, – всего четыре двора было. Мы, Крутецкие, двоюродный брат отца, Семенов, с семьей да еще две семьи, тоже родственники. Жили дружно. Помню: Семенов выгорел, так мужики сообща ему новую избу поставили, не взяли с него ни зернышка, ни копейки.
Вздохнул он, помолчал. Горазд себя в руках держать, недаром – генерал.
– Война умертвила хутор. Была б понятней эта смерть, легче б перенести ее было, если б в оккупации он находился. А то ведь тыловой населенный пункт. Здесь только раз и самолеты-то немецкие в небе видели. Но погиб хутор.
– Как же это так? – спрашиваю.
– А так. Мужчин всех на фронт взяли. Отца, старшего моего брата. Семенова, другого Семенова с сыном, четвертого тоже. Наша фамилия тоже Семеновы, но у деда кличка была – Крутецкий, по хутору, он первый здесь поселился.
Мать честная, думаю, и у меня ж ведь все так. Точно так же! И деревня, и дед, и фамилия с кличкой. Кличка, правда, не стала фамилией, не доросла, видно, маленько.
– Ну и не вернулись. На отца с братом – похоронки. Семенов, брат отцов двоюродный, в госпитале в сорок пятом уже безногим скончался. Трижды ноги ампутировали, антонов огонь после первой операции. Остальные трое мужчин – один без вести, двое – еще в первые месяцы войны…
– А женщины? Женщины-то должны жить! – тороплю генерала. Горит мне узнать о том, что было под боком и чего не знал до сих пор.
– Не знаю толком. Кто умер. Кто уехал. Мать моя до смерти у старшей дочери, сестры моей, в Перми жила.
– Ну что ж, – говорю. – Совсем это ненормально, что могилок родимых на родине нет. Зато сама родина есть. Избы нету, так земля есть своя, босые следы твои которая помнит, березой этой тебя помнит. Не сирота, значит, ты, Сережа, не сирота. А погибших без времени и усопших смертью своей помянем.
Выпили мы не чокаясь, с обнаженными головами, как на кладбище, будто перенесли сюда, в Крутецкий, родимые генераловы могилки со всех концов большой нашей земли.
– Вот ты сказал: не сирота. Верно – не сирота. Но поймешь ли меня, Саша, мою тоску по родине? У тебя ведь все по-другому. Ходишь ты каждый день теми же тропочками, какими в детстве бегал, землю пашешь, на которой родился. Утром проснулся, выглянул в окно – вот она, родина. Это для тебя как воздух, которым дышишь. То есть ты это не замечаешь. У меня не так. У меня постоянная тоска по родине. Но, к счастью, она не изнуряет. Иногда только чувствую себя сиротой. Иногда. А так… с этой тоской в сердце слаще жить.
Тут мы еще и за тоску светлую нашу выпили, хотя и не согласился я маленько, что не замечаю, как дышу, но смолчал – чего уж спорить-то.
– Много бы дал, чтобы хутору жизнь вернуть, – сказал Сергей.
– Ни денег, – говорю, – ни жизни не хватит для выкупа с того света.
– Да, это так. Но – больно. Смотри, вон груда валунов, замшелых уже. Люди их с полей собирали, каждый камень на пузе понянчен. С тысячелетней ледниковой бедой боролись. По одну сторону – древняя, непонятная и немереной силы стихия, по другую – слабое дитя природы, слабый ее росточек. А пересилили. Сколько таких груд вокруг? Двадцать, тридцать? С каждой сотки по сотне… До камней надо было еще лес выжечь, который здесь тоже с тыщонку лет стоял нетронутым. Сколько трудов! Сколько пота пролито, сколько надежд обласкано! И все уже по ту сторону, все – прах. Меньше человеческой жизни хутору судьба отмерила. Как тут смириться с этим! Но что можно изменить? Ни-че-го.
– И все же, – опнулся Сергей. – Сивею, старею и чувствую все больше, что я виноват перед родиной, перед моим Крутецким хутором.
– Да в чем виноват-то? – удивляюсь. – Может, в том, что тридцать лет носа не казал? Так тут, пожалуй, провинился.
– Нет, не в этом. Долго не приезжал – не значит, что забыл. Как бы не наоборот. Конечно, занят и прочее, но не потому не приезжал. Побаивался: дескать, вот душа до краев Крутецким заполнена, а приеду к нему на свидание, увижу совсем не то, что сберег да навоображал за долгие годы, и расплескаю все. Потом, сам посуди, тяжело к своему сиротству ехать. Вдали его не чувствуешь, не собираешься хутор из праха поднимать. Жив в душе – и хорошо. Выходит, Саша, не в том вина. В чем? Вроде бы ни в чем. Неподсуден как бы. Служу вот, охраняю Родину, значит, и хутор свой буду защищать до последнего, если потребуется. Да-а. А вина растет. В чем она? Не знаю. Будто изменил в чем-то. Может быть, уехал зря? – спросил он и на меня посмотрел.
– Нет, – говорю. – Это уж что-то не то. У нас тут красных лент на штаны не пришивают. Заплатку если, так и то не маршал, а жена.
– Да в лентах ли счастье?
– Не в хлебе счастье, – так сытый говорит.
– Нет, Саша, не в них! – настоял он, а я опять спорить постеснялся. – Может быть, лучше землю пахать, чем в штанах этих ходить.
– Так что ж ты тогда уехал-то? Оставался б да пахал.
– С обиды уехал.
– Ну…
– Пахал мальчишкой на быках. Было это уже в начале войны. Голодно, конечно. А чтобы побольше трудодней заработать, пахари отказывались от погонщиков. Отказался и я. В правой руке вожжи, в левой кнут. Это помимо того, что за плуг держишься. А быки, сам знаешь, дубоносая тварь, управы на них никакой. Завалятся в борозду, и хоть плачь. Научили меня: ты, дескать, быку в самое ухо эйкни что есть силы – сразу на ноги вскочит. Так я и стал делать. Но ведь дня через три они и к этому привыкли. Я из дратвы кнут сплел, такой, что стоит, на кончик гайку вделал. Чувствительный кнут, ничего не скажешь. Быки у меня, как шелковые, борозды не портят и на задних ногах разворачиваются. Я по два трудодня в день начал вырабатывать. Отрез мне на рубаху дали… Рассмотрел как-то учетчик мой кнут, а потом появилась в колхозной стенгазете заметка обо мне без подписи, но с заголовком «Передовик за счет гайки». То есть раскритиковали меня, четырнадцатилетнего передовика. Вот я и разобиделся. Теперь-то знаю, что напрасно.
– Все как надо, – говорю. – Правильно сделал, что уехал.
Подходим мы к нашей деревне, а у конюшни Мишка-краснодеревец Чалого в плуг запрягает.
– Что ж ты хомут-то без гужей надел? – говорит ему генерал. – Запрягать разучился?
– Не учи отца с мамкой спать, – огрызается Мишка. Но хомут снял, надел другой, с гужами. С похмелья Мишка, глаза плохо видят.
Я на ухо ему втолковываю, дескать, очнись, дурень, генерал перед тобой. Мишка в лице переменился.
– Дак на лбу-то у него не написано, что он генерал, – шепчет он в ответ. – Одежа, вижу, рабочая.
– Виноват, товарищ генерал! – таращится вдруг на Сергея Мишка. – Больше не буду.
И начали мы неожиданно совсем картошку сажать, сначала Мишке, потом нам. Так что вместо гульного дня вышел рабочий.
Сергей от плуга меня попросил, сам встал – захотелось ему отрочество свое вспомнить. Вожжи Мишке достались. Погоняльщик из него, конечно, как из полена скрипка, – с похмелья да с перепугу. Жалко мне даже стало его, не работа, а битвина одна.
С мерином Мишка чуть ли не на «вы»:
– Чалый! Прямо, пожалуйста! Выше, Чалый, будь ласков.
Вожжой хлестнет – прощенья у мерина просит, мол, извини, сам понимаешь, что без этого нельзя. Остановится мерин по своей лошадиной естественной надобности – Мишке хоть сквозь землю провалиться, кажется ему, будто это он остановился при всем честном народе.
Чалый, конечно, удивлялся на первых бороздах, все на Мишку левым глазом косил, ждал, видно, привычного Мишкиного обращенья, с кулаками да матюками, а Мишка ни гу-гу – в двух шагах за плугом генерал идет.
Но Чалый сперва и так хорошо ходил, все-таки ждал от погонщика какой-нибудь каверзы. А потом привык, стал дремать на ходу. Сеяльщики на корзинках без работы сидят, ждут, когда борозда готова будет, а время-то идет, нервничать уже стали.
Не выдержала Ольга, жена Мишкина, оттолкнула благоверного от мерина да и взялась погонять. Ольга в таких делах, как запаленная лошадь: бежит во всю силенку, пока сама не упадет или напарник копыта не отбросит. Чалый знает ее натуру, без понуканья на рысях заходил.
С генерала уже пот в три ручья, но плуг не уступает никому и Ольгу не просит потише бегать. Молодец, Серега! Марку держит, что надо!
А тут, слава богу, и работе конец.
Отмылись на скорую руку от пыли и пота да за стол всей артелью: я, Сергей, Мишка с Ольгой, бабка Ильюшиха, Колушкин сам второй. А Лиза ушла пораньше – готовить угощенье. Они с Ольгой еще на огороде решили, что два стола делать незачем, одного хватит, побогаче, в складчину с двух огородов.
Ну, первую, немногословную, подняли, как водится, за картошку, чтоб росла хорошо. После второй и языки отмякли.
– Это что же у вас? – спрашивает Сергей. – После каждого огорода застолье?
– Яблоня в цвету – деревня гуляет.
– Посмотришь, Сереженька, дак не так ишшо удивисси, – Ильюшиха затрясла головой по-козлиному. – Приезжай токо почашше. А то уж больно редкой гость. Вон Ванька Сивой десять лет успел отсидеть, на второй срок метит, а тебя все нет и нет. Не в тюрьме, чай, вольной человек-то.
Зашикали на Ильюшиху, мол, ты что боронишь-то, старая.
– А што бороню? – сердится Ильюшиха. – Токо и сказала, што воды много утекло. Сереженька старо времё помянул. Тогда не мене друг дружке пособляли, да не считались бутылкой. А теперя што! Шаг шагнул – уже в рот заглядыват.
Тут уж ей заподдакивали, разжалились все на новые деревенские порядки.
– Богатый народ стал, – сказал молчаливый Колушкин. – Не будем поминать, что было при царе Горохе. Вспомним, года три назад всего: огород посадят – хозяйка иль хозяин на всю артель бутылку ставит, от силы две. По стопке опрокинут, щей похлебают да по домам – дела ждут. А нынче вон уже какой пир закатывают. – Колушкин обвел рукой стол. Недоволен он угощеньем – у него картошка еще не посажена. – Теперь, значит, и другие по вашей мерке тянись…
– Да што уж с меня, старой, взять, – перебила его Ильюшиха. – И то в подполе яшшик «мерзавчиков» запасен.
Тут Мишка захохотал от души:
– От, бабка! Хитрость пропила на старости лет. Проговорилась-таки… Ну-ко я на всю деревню твою новость шумну…
– Да што ты, батюшко, колоколка твоя ржавая! Не проговорисси. Сам кажин вечер повадисси, он-ному-то боле перепадет. Гвоздь кокнешь в забор – пожалисси: «Бабка! Тяги нету». А бабка уж смикитила – в подпол полезла. Знамо дело.
Пока Мишка думал, чем бы бабку уесть, Ильюшиха уж генералу проповедь читает:
– Избаловался народ, Сереженька, спасенья никакого нету. Ране много работали, да мало получали. Теперя – шиворот-навыворот: мало работают, да много огребают. Уродило, не уродило – все едино. Денюжки-то в кармане.
Ольга Ильюшиху песней принялась перебивать:
А по камушкам, а по камушкам
Речка бежит… —
затянула она и раз и второй, а дальше – ни с места, никто не поддерживает и слов дальше не знает.
– Спойте лучше старинную, – попросил Сергей. – Далась вам городская халтура.
Но с длинной песней тоже ничего не вышло, перекинулись на частушки.
Меня кокнули обухом,
Помутился белой свет… —
запел Мишка, да не дала ему Ольга докончить.
– Ну, без картинок дак без картинок, – согласился он и затянул допризывную, из нашей молодости:
Боровическа машина
С Малой Вишеры идет.
Тяжело она вздыхает,
Допризывников везет.
– Молодец, Миша! – похвалил Сергей. – Отличная частушка. Грустная… И родные места помянуты. Не-е-ет, народ плохих песен не сочиняет!
Обласканный Мишка еще оторвал, теперь уж женским голосом:
Мы с миленком у двора
Целовались до утра…
– Да чтой-то мы всухую-то?! – всполошилась Лиза.
– И правда! – тоже удивился Мишка и давай разливать по рюмкам.
А Лиза кинулась в избу, принесла гармошку да сунула мне в руки.
Тут и пляска наладилась.
Лиза выскочила на середину веранды (у меня на веранде не то что картовная артель, целая свадьба поместится – во всю глухую стену избы), прошла круг да перед генералом давай отплясывать:
В генералах дроля ходит,
В лентах красныих штаны.
Он девчонок хороводит,
Их наны́, наны́, наны́.
За столом все – впокатущую. Когда она успела частушку переиначить?!
Делать нечего – поднялся генерал, прошел круг напротив Лизы, ковырялочку с притопом вспомнил и ответил по всем правилам:
Ты́ну, ты́ну, штаны скину
И на лавку положу.
Если будут шевелиться,
Я веревкой привяжу.
Тут Лиза и меня не забыла, чтоб не ревновал к генералу:
Поиграй, гармонист,
Поиграй почаще.
Твои карие глаза
К моим подходящи.
А генерал уже у стола молотит, Ильюшиху вызывает:
Ягодиночка на льдиночке,
А я на берегу.
Перекинь, милой, жердиночку,
К тебе перебегу.
Ильюшиха из-за стола вылетела, и пошла трескотня – хорошо, переводы под полом из тесаных еловых комлей.
Полюбила летчика,
А он, зараза, улетел… —
созоровала Ильюшиха да и грымнулась без сил на лавку.
А вечером мы с генералом пошли в баню. Ума не приложу, когда Лиза истопить ее успела, вместе ж за столом сидели?
Париться он горазд, как и я, грешный, оттого он мне еще больше пришелся по нутру.
Не знаю, представленья не имею, как он живет там, в своей высоте, но здесь он жил хорошо. Он старался жить хорошо. И это у него получилось. Ну да ведь один день по сравненью со всей жизнью – как воздуху раз вдохнуть.
Баня ему понравилась.
– Сруби, – говорит, – Саша, мне такую вот баньку, только чтоб окошко побольше да потолок повыше. Хочу свой угол заиметь на родине. Буду приезжать, когда выдастся время.
Я, конечно, одобрил его решенье и сразу согласился, сказал даже, что коль картошка посажена, то завтра можно и начать, и что до сенокоса сруб поставлю.
Потом-то я раскинул мозгами, и сомненье взяло. Не приезжал он полжизни, еще, может, столько же не приедет. Вот и не знаю теперь, что сказать насчет бани. Срубить-то срублю, а дальше?..
И еще я должен честно сознаться, что генерал ко мне заехал, конечно, не специально, а по ошибке, из-за Савоси – не поросенка нашего, а другого Савоси. У него привычка такая есть: заскочил в чайную на станции, все – домой не идет, остается ночевать на вокзале. Там тихо, почти всю ночь пассажиров нету, приходят они только под утро, к московскому поезду. Так и это для Савоси хорошо – разбудят, чтоб приползти домой по холодку и в потемках. Правда, в последнее время Савося вокзал невзлюбил. Заменили там скамейки, широкие и длинные, старой работы, на новые, с подлокотниками для каждого сидельца. Теперь не ляжешь на них, подлокотники мешают. А на полу – кто ж осмелится отдыхать на нем, лучше уж тогда в хлеву с поросенком.
Но в ту, генеральскую, ночь был все-таки Савося на вокзале и, наверно, не на полу дрыхал, а сидел, как порядочный, в кресле, потому что лежащего на полу генерал вряд ли стал бы расспрашивать о деревенских новостях.
Савося возьми да и брякни своей колоколкой, что бригадир у нас Огарыш, то есть я, к нему, мол, и идти надо. Уж кому-кому, а Савосе-то хорошо известно, что я не бригадир, что булава давно Степану Коряге передадена. С пьяного перепугу, пожалуй, брякнул, а может, нарочно, созоровал.
Думаю все-таки, что созоровал, вроде как обиду выместил. Но как он в таком случае пронюхал, что у меня боров Савосей окрещен? Боров – не теленок, на охожу не ходит, звать по имени на всю деревню не надо.
Наверно, проговорился Борис Иванович – мы с ним недавно в моем хлеву перестилали полы.
Значит, опять я через скотину пострадал. Хотя какое – пострадал? Наоборот! Я не в обиде. Генерал, кроме всего прочего, мне картошку посадил. Борозды, правда, узковаты, окучивать будет плохо. Да ведь что поделаешь – давно генерал за плугом не ходил, отвык.








