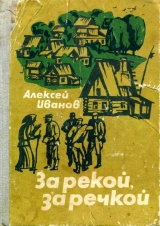
Текст книги "За рекой, за речкой"
Автор книги: Алексей Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Верховцева раздосадовали и малолюдность зала, и возрастная разношерстность публики. «На кого же мне ориентироваться? – с отчаянием думал он. – На детей, что ли?» Лекция его была рассчитана на среднего горожанина, читающего газеты.
Но волновался он зря. С первых слов, произнесенных без напряжения, как бы для пробы, но усиленных динамиками и хорошей акустикой почти пустого зала, он привычно воодушевился, слушая вместе с публикой свой голос и ощущая его мощь. Обточенные от многократного употребления фразы плавно и непрерывно сменяли одна другую, и Эдуард Николаевич иногда специально останавливался, делая вид, что, заботясь о логической стройности и выразительности, подыскивает наиболее точные слова.
Одно стесняло его: он не мог принять излюбленную за трибуной позу – ладони на боковые бортики трибуны, локти в стороны – исходное положение гимнаста на брусьях. И постоянно одергивал себя, пряча выпачканные мазутом руки за передний барьерчик трибуны.
Когда дело дошло до привлечения местного материала, Эдуард Николаевич умело перекинул мостик от миролюбивой политики нашего государства к ударному труду миллионов, сказав, что и их колхоз вносит посильный вклад в дело мира. Далее он не без досады на себя по справке перечислил колхозных передовиков, к тому же одни фамилии, потому что Наташа проставила только инициалы.
Напоследок Михаил Васильевич сделал объявление, что автолавка будет работать и завтра, с утра, упросили ее задержаться часа на два, так что можно приходить. На этом и разошлись по домам, а лектора проводили до колхозной гостиницы.
Верховцев попал как раз к ужину. За столом сидели молодой длинноволосый парень и девушка, немного постарше. Над их тарелками вился парок. Оказавшись в тепле и уловив запах вареного мяса, Эдуард Николаевич почувствовал, что чертовски устал и проголодался.
Женщина, хозяйка гостиницы, сразу же принесла полную тарелку то ли супу, то ли тушеной картошки с мясом, выставила во второй заход рюмку и бутылку коньяку.
Эдуард Николаевич удивленно вскинул брови.
– Да это Сережка принес. Говорит, Михал Васильч приказал для лектора.
– Ну, Михаил Васильевич, – неодобрительно произнес Верховцев и вдруг улыбнулся. – Что ж это, взятка?..
– Да какая взятка! – улыбнулась и женщина. – С устатку почему б не выпить.
Эдуард Николаевич распорядился принести еще три рюмки, разлил коньяк. Девушка и парень, как оказалось, продавщица и шофер с автолавки, поначалу встретив Верховцева с заметной досадой, радостно поддержали – они-то, бедняги, намерзлись. Хозяйка, тетя Поля, как ее ни упрашивали, даже не пригубила. Отказалась и за стол сесть, но из комнаты, единственной в гостинице, не считая полутемной холодной кухонки, где кроме всего прочего Верховцев заметил сидящую на яйцах гусыню, не ушла, присела на краешек кровати, отвернув матрац.
Ужин пошел веселее. Варево было немудреное, но жирное и мяса с лихвой.
– Так что, тетя Поля, и не раздумывайте, покупайте, – продолжила девушка прерванный приходом Верховцева разговор. – И не раздумывайте. Платье как на вас шито.
– Платье-то подходящее… – начала было тетя Поля.
– Так в чем же дело? Тридцатки жалко?
– Деньги есть… И обновки охота, да куда… Солить, что ли.
– Ну, солить. Скажете тоже. Носить, а не солить.
– Недосуг носить-то. На базу́ скотины: и корова, и лоншак, и сосунок. А овцы, гуси… Да поросенок… – перечисляла тетя Поля и сама удивлялась, сколько же много у нее скотины. – Только утрешнее обряжанье кончишь, смотришь, уж и упряжка прошла – опять на баз идти. А там и вечер. Опять обряжаться. Да гостиница еще – хлопоты невелики, а время требуют. Переодеваться, Людушка, некогда, не то что…
– Значит, в праздники, – говорит Люда. – Майские уже на носу.
– А что – праздники? В праздники-то скотина тоже есть просит.
– Так что же вы, никуда и не ходите? – удивляется Люда, позабыв о платье.
– Как – не хожу? Хожу… Да ведь не павой по селу-то, а то еще люди засмеют: «Полька-то, скажут, в магазин в кримпленах ходит…»
Вдруг распахнулась дверь, и в комнату ввалился пьяный мужчина.
Тетя Поля замахала на него руками, принялась было выталкивать его за дверь.
– Иди с глаз долой, хороброд. Не порть добрым людям настроенья. Иди домой.
– А это что, не мой дом? – сопротивлялся мужчина, норовя усесться на кровать. – И это – мой дом. Ничего, что бывший.
Все поняли, что он – тети Полин муж, а Эдуарду Николаевичу сделалось неловко: он раз или два назвал ее тетей Полей, приняв за женщину пожилую, появление же ее супруга, мужика еще молодого, пожалуй, ровесника его, Верховцева, обнаружило ее действительный возраст.
Коля, как звали его, уселся-таки и стал объяснять, что раньше они жили в этой хибаре, а теперь в новом доме, тут же, через двор, этот же теперь – гостиница, а его супруга – директор гостиницы.
– Где был-то? – поняв, что так просто его не выгонишь, спросила тетя Поля.
– А-а… на лекции, – мотнулся Коля. – Два часа как псу под хвост.
Тетя Поля в ужасе закрыла ладонями рот.
Коля уставился на нее, почувствовав что-то неладное, перевел взгляд на стол.
– Товарищ лектор здесь?.. – опешил Коля, узнав Верховцева. – Вот елки зелены…
– Не понравилась лекция? – спросил Эдуард Николаевич.
– Отчего же? Лекция – в-во! – Коля выставил большой палец. – Все п-правильно… И новость узнал. Ха-ха-ха… Полина! – нервно рассмеялся он и повернулся к жене. – Орден дадут тебе в другой раз. Ты ведь, выходит, передовая доярка… Трехтысячница! Ха-ха-ха. Не веришь? У товарища лектора узнай. Он лучше нашего знает…
– Как ваша фамилия? – подавляя возмущение, тихо спросил Эдуард Николаевич.
– Цветковы – наша фамилия. Одна на все село. Так что не спутаешь… Полина! – снова захохотал Коля. – Ты ли это?.. Глазам не верю.
Эдуард Николаевич вспомнил, что называл в лекции такую фамилию, напротив нее стояли инициалы – П. В.
– Вы извините меня, – посмотрел он на тетю Полю. – Я первый раз в вашем селе и, конечно, вас не знал. Данные взял в райкоме. Насчет вас они, значит, устарели.
– Ничего-ничего. С кем не бывает, – успокоила тетя Поля. – Мне даже приятно. Помнят, выходит, о моей работе. Я ведь по осени с фермы ушла. По болезни. Руки болят.
Верховцев налил и Коле, тот, несмотря на запрет жены, выпил, а узнав, чей коньяк, снова разошелся.
– Да не пьет он, не возводи ты напраслины, – защищала Михаила Васильевича тетя Поля. – Это ты – двухутробный…
– Так и поверил, так и поверил, – гнул свое Коля и снова покатывался со смеху. – «Доктор! Почему это у меня так? – изображал он председателя сельсовета. – Выпью рюмочку – поясница болит?» Рю-моч-ку… Ведро у него рюмочка. Пока ко рту подымет, в пояснице-то и хряснет.
– Не слушайте его, шалапута, – обращаясь к гостям, говорит, совсем потерявшись, тетя Поля. – Остерегается Михал Васильч, это правда.
Поняв, что сидящим за столом Коля стал в тягость, тетя Поля решительно его выпроваживает, и Коля, глянув на пустую бутылку, уходит.
– Беда с нонешними мужиками, просто беда. И глохчут, и глохчут эту водку… Никакого укороту нет, – загружая в топку уголь, говорит, будто сама с собой рассуждает, не обращая внимания на слушателей, тетя Поля. – И откуда такая страсть берется? С горя бы – так понять можно. Горе и есть горе. А тут… Мой-то, гляди как! И не заметила, как приохотился. На ноги подымались – понятия не имел. Все нажили – будто ось у телеги сломалась… А чего не жить-то теперь?! Баз – полный скотины. Деньги не переводятся. У дочки платьев – полный гардероб. Соплюха еще, а отказа не знает. Дошли до ручки, нечего сказать: сена́ на собственной легковой машине возим, от комбикорма кузов, вон, сгнил. Ну, я вам еще подкинула, а то за ночь выстынет. К морозцу, похоже, на улице. Как мы в этой хатенке жили уж и представить-то?.. Память у людей короткая стала. Что сегодня с утра было – еще куда ни шло – помним. А что вчера – где там!.. Ну, укладывайтесь, дорогие гостечки. В одной, правда, комнате, да, чай, не обидят тебя, Людушка. Мужики-то культурные.
– А насчет платья как? – посмеявшись вместе со всеми над последним замечанием тети Поли, спросила Люда.
– Купить, что ль?
– Купите-купите. Я не потому, что сбыть некому. Оно не залежится. Для вас оно хорошо.
– Ну, коли так – отложи. Утром возьму, пожалуй.
Разделись в темноте и легли. Шофер о чем-то перешептывался с Людой – их койки стояли голова к голове. Эдуард Николаевич уговаривал себя поскорее уснуть, чтобы не мешать им, но чем больше уговаривал, тем дальше от подушки отлетал сон. Ушедший день был для него нов во всем, впечатления наслоились друг на друга, перепутались, путались и мысли, и ни одной из них не удавалось вытащить из этой каши, не порвав. Эдуард Николаевич то принимался сожалеть о тете Поле, то вспоминал Колины слова о рюмке-ведре Михаила Васильевича, то поражался Людиному простодушию, с каким она рассказала, как сбывает на селе «лежалый дефицит» вроде вышедших из моды лет пять назад женских шапок-кубанок из норки за сто восемьдесят штука или дорогих пальто разруганной местной фабрики. То сравнивал неожиданно для себя свою лекцию с норковыми кубанками и тоже называл ее лежалым дефицитом. Ради чего, спрашивал он себя, столько канители вокруг одного человека? Командировочные, справки, супы, коньяки, ломание машины, обман людей с «Позитроном»?… Ради двух часов переложения того, что можно прочесть в газетах и увидеть по телевизору? То, что я делаю, похоже на громкие читки, которые как средство пропаганды при всеобщей грамотности изжили себя. Настроение упало – Эдуард Николаевич не хотел договариваться до отрицания своей профессии и должности. Новая работа ему нравилась не в пример прежней, где надо было отвечать за что-то конкретное и множественное, где ругали, часто грубо и несправедливо. Он возвращался к своим фантазиям о новом месте жительства, ревизовал их в связи с новым, только что полученным знанием села и опять падал духом. Что-то надо было делать, менять что-то в своей жизни и, прежде всего, в самом себе, а что – он не знал. С тем Эдуард Николаевич и уснул.
Утро было солнечное, с легким морозцем. Под ногами весело звенел смерзшийся ноздреватый снег, так метавшийся вчера, так пугавший людей в степи. Эдуард Николаевич лукаво прощался с Михаилом Васильевичем, а Миша, нетерпеливо поглядывая на часы и жмурясь на солнце, ждал у машины.
К Мише подошла женщина в новенькой стеганой телогрейке, перетянутой крест-накрест пуховой шалью, спросила его о чем-то неслышным голосом.
– Куда тебе, тетка Марья? – донесся до ушей Эдуарда Николаевича Мишин голос.
Она ответила что-то.
– Вон автолавка. Следом за нами пойдет, – Миша показал в сторону густой толпы, клещами обнявшей голубой фургон.
Женщина пошла к автолавке, а Михаил Васильевич стал усаживать Эдуарда Николаевича.
– Смотри, Миша, чтоб в целости и сохранности нашего дорогого гостя, – улыбаясь, наказывал он шоферу.
В дороге Эдуард Николаевич вспомнил вдруг о женщине в новой фуфайке и вспотел от догадки – она же просила довезти до райцентра, а Миша ее не взял.
– Да в поликлинику, говорит, – подтвердил Миша.
– Так в автолавке места нет! – возмутился Эдуард Николаевич. – В фургоне – товар, кабина только на двоих.
– Я ж думал, вы возражать будете. Вы строгий такой…
Эдуард Николаевич выругался. Но возвращаться было неловко и отъехали уже порядочно да и Миша стал бы упираться, недаром ведь он все поторапливал при прощании с Михаилом Васильевичем и говорил: «Поехали-поехали. А то солнце дорогу обмылит».
Носилки
Перед сменой у проходчика-тоннельщика бывает минут с десяток эдаких сладко-тревожных. Ты еще жмуришь глаза на солнце и готов мурлыкать, а твой лоб уже чувствует тяжесть каски с лампой над козырьком. До тоннельного дождя (в тоннеле круглый год дождливо) еще сигарета, когда и другая, а на тебе уже шуршит, осыпается песком пересохшая роба. Словом, нечто неопределенное, переходное на душе: ты еще не крот, но глаза уже незрячи.
Под окнами душкомбината на отполированном до черного блеска бревне сидит, млея и собираясь с духом, звено. Все еще там, куда изредка посматривают, – за синим, с колкими краями ельником, в долине, подремывает под знойной тяжестью июльского солнца поселок тоннельного отряда. Говорить ни о чем не хочется – так и не говори, никто за язык не тянет, а соблюдать приличия здесь часто бывает неприлично.
На этот раз никто и не треплется – нет в звене Сани Шевченко, по прозвищу Лобода; он три дня как в больнице с переломами ног. Правда, за Лободу старается Серега, присланный на его место из другого звена. Он сейчас задирает всех по очереди – природа тоже не дала ему знать прелести тихой минуты.
– Витек! На что хариуса ловил? – спрашивает он Забродина.
– На окурок.
– Так ты ж не куришь.
Тут Сереге взять больше нечего. Он с ходовыми холостяцкими шутками пристает к мрачному сегодня Темину.
– Во-во, – притворно обижается Темин и ищет слов, чтобы задеть Серегу. – Ус длинный, а ум короткий.
– Ну и пускай. Дело не в уме, а в счастье. Видал, усы-то какие?! – Серега тычется в нос Темина. – Подкова! На счастье.
– Сколько там, Серега? – спрашивает о времени Забродин. (Забродин в забой часы не носит – отсыревают и можно стряхнуть.)
– Да рано еще, – не взглянув на часы, отвечает Серега.
Но Забродин встал и озабоченно торопит:
– Пойдемте, пойдемте, мужики. Сегодня – оборка. Самосвала четыре накромсать придется.
Темин с похмелья, ему подняться тяжелее всех. Но он звеньевой. Он разыгрывает намерение встать, но вдруг усаживается еще прочнее, чем сидел, потому что Серега вовремя протянул ему пачку сигарет с двумя выщелкнутыми наполовину сигаретами.
– Пошли, мужики, – не унимается некурящий Витя. – Пока по галерее поднимаемся, докурите.
– Тебе, Витя, хоть всемирный потоп – все одно: работа.
Витя молча присел. Но тихая минута не вернулась.
Из-за угла душкомбината с брезентовыми носилками на плече выскочил сменный инженер Эдик.
– Вот! Возьмете в забой, – Эдик сбросил носилки на землю перед звеном.
Все трое оторопели. Темин враз вспомнил, как стаскивали с ног Лободы гранитную глыбу, как укладывали его на носилки и перли, умываясь по́том, потяжелевшее тело из забоя в медпункт. Тогда же Забродин, рассвирепев так, что Темин испугался за него, разнес носилки в клочья.
Эти носилки были новыми, только что из столярки. Подрагивая от удара о землю туго натянутым брезентом, белея не захватанными пока ручками, они лежат сейчас на земле жутким немым вопросом: «Кто следующий, ребята?»
– Ты видал, Витек, нашего сменного? – криво улыбаясь, спрашивает Темин Забродина.
– Нет. Его сегодня уволили по несоответствию…
– Что за шуточки! – возмущается Эдик. – Вот он я – сменный. Вот носилки. Их надо…
– Какие носилки? – перебивает Забродин.
– Хватит тень на плетень наводить. Вот они, новые, легкие, – сменный поднимает носилки за ручки, демонстрируя их легкость.
– А старые?
– Старые сломаны. Какой-то идиот под самосвал бросил.
– Эти – туда же…
– Зачем?
– А нам они зачем?
– На всякий пожарный, – ухмыляясь, отвечает Эдик.
– Пускай на машине отвезут.
– Нету машины. Отнесите, мужики, – уже не приказывает, а просит Эдик.
– Не понесем! – упорно говорит Забродин. – Нашивали…
– Да вы что, ребята! Комиссия сегодня будет… – взмолился сменный.
Звено видит Эдикову оробелость, отказывается грубее – что взять с дурака. Оробел-то не потому, что настроение испортил звену и теперь раскаивается, а потому, что трепещет перед комиссией. Но в общем-то звену ясно, что носилки так или эдак в забое будут. Они всегда должны быть в забое и появляются на шахтной поверхности только лишь по несчастью, когда надо кого-то дотащить до медпункта. Потом снова, незаметно, оказываются в забое, в темном углу за вентилятором. Именно – незаметно и в темном углу, чтобы не будоражить проходчиков. Хотя они и без того знают: носилки – в забое, в случае чего – бежать за ними туда-то. Но одно дело – знать, хранить это знание на самой пыльной полочке памяти, другое – перед началом смены, в эти самые-самые минуты видеть их, самим нести их, будь они прокляты, самим прятать. Тут не было суеверного страха за свою проходческую судьбу. Да и с чего вдруг особо бояться-то – не первый год замужем. Но, все же, тонкость какая-то, невыговариваемая, подпольная, была и проявлялась она тогда только, когда с нею не считались. Эдик заискивал перед звеном, юлил даже и подобострастничал иногда, когда от проходчиков срочно требовалось сделать то-то и то-то, чтобы не ругало Эдика начальство. Но в душе он смотрел на них свысока, за глаза называл их не иначе как «мои кайлографы».
– Ты нам индпакеты выдал? – нагоняет хмурь на круглое свое лицо Серега.
– Нету их.
– Нас не касается. Положено по ТБ? Положено! Значит, дай.
– Ребята! Вы же знаете: дефицит, – перебарывая оробелость, говорит Эдик и, чтобы придать особую доверительность беседе, цыкает тоненькой струйкой сквозь зубы.
– Де-фи-ци-ыт, – злится Забродин. – Хапают, кому не лень. А для нашего брата – дефицит.
– Так что носилки за вами, – вдруг нашел выход из тупика Эдик и, ни на кого не глядя, исчезает.
– Вот и посиди в малиннике с такими, – ворчит Серега, поднимаясь с бревна.
– Сиди уж теперь, – удерживает его Темин. – Сменный за машиной побежал.
Не успели докурить, подошел самосвал. Из кузова выпрыгнул Эдик. Серега с Теминым нехотя подняли носилки и шваркнули их в кузов.
– Полегче! – распорядился Эдик. – Сломать ведь можно.
– Я их в гробу видел, носилки твои, – бурчит Серега, залезая в кузов.
– А вдруг тебя на них класть? – берет свое Эдик, видя, что задача его теперь уж выполнена. – Полегче с гробом-то.
Серега отнял руки от борта, грузно спрыгнул с колеса самосвала. Отшатнувшись, Эдик сделал несколько шагов назад.
– Типун тебе на язык! – взревел Серега. – Понял?! Ложись сам. А меня – уволь.
Сменный наигранно-шутливо сплевывает через левое плечо. На него никто уже не смотрит – звено забирается в кузов. С паршивой собаки хоть шерсти клок – доставит к самому забою.
– Вот увидит Найберг… что вы в самосвале… по тоннелю… – грозит им вслед Эдик.
– Иди ты… Сделал нам начало смены, недоношенный. Тебя бы сегодня в забой с этими носилками, – ругается Серега, но, кажется, баса в голосе натуре его хватает ненадолго, и через минуту он снова тенорит:
– До дембеля осталось 245 ден. Кончится договор – и с приветом бывший ваш Серега. «Жигуленка» получу в Киеве, чтоб сразу в гараж. Найду где-нибудь теплое местечко… Ни пыли тебе, ни газа… И ни камня над головой…
– Брось, Серега, молоть. Брось… – останавливает его Забродин. – Опять метро полезешь сверлить. Чего уж там…
– Спорим – не полезу. Спорим… на ящик коньяку! – Серега тянет Забродину левую руку, правой он держится за борт самосвала. – Давай, давай пять.
Забродин рук от борта не отрывает.
– Да поспорь ты, чего тебе, Витек. Может, выпьем через год на дармовщинку,– – уговаривает Темин, подняв ладонь ребром, чтобы разрубить рукопожатие спорщиков.
– Не-е-е, ребята, – по-прежнему серьезно говорит Витек. – Это такая зараза… Ой-е-ей какая зараза…
Какая зараза – он не договорил – всех кинуло на левый борт. Самосвал сделал последний поворот на серпантинном подъеме и выскочил на ровную прямую дорогу, ныряющую вдалеке в черную, овальную сверху, дыру портала.
– Пригнись! Найберг у нарядной, – скомандовал Темин и первым присел на корточки, прислонившись спиной к ржавому борту кузова.
Серега неловко плюхнулся на носилки.
– Мать честная! А ведь мягкие. Брезент-то пружинит, – Серега, повозившись, лег на носилки, но голова пришлась на ребро перекладины, он переполз вниз, теперь голове было нормально, зато свесились с носилок сапоги. – Нет, ребята! Эта кровать не по мне – мала. Но полежать можно.
– Слезь, Серега, – говорит ему Темин. – Слезь с носилок, кому говорят! – Темин даже покраснел. – Слезь!..
Серега испуганно и поспешно садится на брезенте, без каски, растрепанный – когда он вставал, каска зацепилась за уголок носилок и теперь красным шаром катается, мелко подрагивая, на железном дне кузова. От нее к Сереге под брезентуху тянется, извиваясь черной змеей и тоже подпрыгивая, аккумуляторный кабель.
До Сереги что-то дошло, и его будто пружиной подняло с носилок.
– Сядь, Серега! – испуганно командует Темин.
– То встань, то сядь… Нашелся начальник. Еще один, – не зная, что делать, в замешательстве, разозлился Серега. – Нету там никакого Найберга.
– Значит, в тоннель ушел. Выключи лампу-то. Сразу в темноте заметит.
Наклонившись, Серега поднес ладонь к лампе. В ладонь уперся желтый при ясном дне кружок света. Другой рукой нашарил рычажок и повернул его. Лампа, видимо, включилась сама, когда каталась вместе с каской по кузову.
Над головами звена проплыла сначала большая красная буква «М», сваренная из листового железа, за нею серые глыбы – разорванный трещинами гранитный целик, схваченный поверху защитной сеткой, – ярко вспыхнул на ребре борта солнечный блик, и все ушло в темноту, сырость и глухой гул.
Самосвал пошел медленнее, будто на ощупь, шофер теперь следил не за колеей, а за неровными, рваными стенами тоннеля. Лучи фар тушили встречные лампочки, редко висящие на проржавленных анкерах, выбеливали выступы, чернили впадины, бросали длинные изломанные тени от идущих по мосткам проходчиков. Вверху, в совершенной темноте, на десятиметровой высоте висело каменное небо, стылое и ненастное, струящее из своих щелей холодную радоновую водицу.
– Включай лампы! Найберг к порталу потопал, – Темин скользнул рукой за козырек каски, и белый лучик уперся в дно кузова с подпрыгивающими на нем и уже прошитыми струйками воды носилками.
– У тебя именной аккумулятор? – удивился Забродин.
– А что?
– Да уж свет больно яркий, как у Найберга.
– Именной, – усмехнулся Темин.
– Когда ты успел-то? Блат в ламповой завел?
– Хм, завел… Да Лобода отдал… на время, пока он там на костылях.
– Ну, ему еще далеко…
– Далековато, конечно. Потом ведь еще на легтруде покантуется.
– Заработок средний пойдет?
– Да, по среднему.
– Повезло, можно сказать. Тот месяц хорошо закрыли, так что у него больше нашего выходить будет. Да и переломы без последствий, – проговорил Забродин и, поразмышляв: повезло или не повезло Лободе, добавил: – Конечно, повезло.
– Не дай бог никому такого везенья. Не-е-ет, Витек, не дай бог. Я сам иногда думал: вот бы мне чего-нибудь… легкого. Ну, руку… или ногу. И чтоб не больно. Отдохну, думаю, от этой дыры. А ведь дурак, что так думал. Камень не заговоришь. На то он и камень. Он не разбирает, куда летит.
– Так-то оно так…
– А помнишь, Витек, как мы Лободу из забоя?.. – спрашивает, помолчав, Темин.
– Да-а, намяли бока парню.
– Головы на плечах у столяра нет. Говорили же: Степаныч, сделай поперечины-распорки. Нет, прет свое: не надо, дескать, а то носилки свертываться не будут. А для чего они, носилки-то: чтоб свертывать их, или чтоб носить на них кого-то?..
– По мне так для робы они в самый раз, – вставил вдруг Серега. – А то моя давно по швабре соскучилась. Брезент-то, смотри, со Знаком качества.
Самосвал, затормозив, повернул вправо, уперся фарами в стену, стал пятиться к противоположной стене, заталкивая кузов в разворотную нишу. В метре над головой звена навис свод ниши, крупно иззубренный, с полнеющими капельками влаги на каменных острых сосцах.
– Кто нишу-то обирал? – запрокинув голову и шаря лучом лампы по камню, спросил Забродин.
– Звено Ивлева.
– Ну, тогда можно и не смотреть. Они шатунов не оставляют.
Железный зад кузова гулко ударил в гранит стены, скрежетнул и отвалил. Самосвал вырулил в сторону портала и теперь уже задом пошел к забою. До забоя оставалось чуть больше ста метров.
Выгрузили сперва и аккуратно соштабелевали четырехметровые стальные карандаши бурильных штанг, прихваченных по пути, потом сбросили носилки. Они ударились о камень, глухо под брезентом хряснуло дерево. Втроем, скрестив на куске брезента лучи ламп, осмотрели. Сломался, как раз посередине, правый шест, в несколько слоев обмотанный брезентом. Серега стал отдирать брезент, как-то сосредоточенно радуясь:
– Мать честная, да он же широкий. Гляди, какой запас на палках. В самом деле роба выйдет. Никому не хапать! Я первый забил.
– Дай сюда! – потребовал Забродин.
– Ты чего? Я первый!
– Дай, говорю, сюда.
Серега выпустил из рук носилки, уставил лампу на лицо Забродина.
– Ты кончай, Серега… Кончай… – сказал Темин. Он не смотрел на Серегу, чтобы не слепить его глаза своей «именной» лампой. – Дошутишься…
Витек нырнул в темноту за вентилятор, вытащил оттуда рейку и, как шину к перебитой ноге, приложил к сломанному шесту носилок. Потом пошарил в просторном кармане своей брезентухи, там же отсчитал шесть гвоздиков и вынул их зажатыми в кулак. В другой руке у него уже был молоток, никто и не заметил, откуда Витек его вытащил. Пока Забродин возился с носилками, Темин и Серега поднялись на верхнюю площадку бурильной машины, лучами ламп обшарили свод тоннеля, разлохмаченный взрывом. Заколов было порядочно, тут и там просматривались ломкие, линии трещин, висели потревоженные, но не оторванные взрывной волной шатуны.
– До конца смены упираться! – определил Серега.
Темин не откликается. Он погромыхивает на стеллаже оборниками, выбирая самый длинный – ему, как звеньевому, достанется для оборки верх купола. Серега и Забродин пойдут слева и справа от него.
– Серега! – кричит Темин. – Дуй на поверхность. Возьмешь в кузнице оборники. Здесь одни тупые.
На самом деле, оборники острые, вчера взяли с заточки. Темин решил услать Серегу из забоя, подальше от греха. Хватит с них и Лободы.
– Это я мигом! – откликается Серега и гремит уже сапогами по металлической лестнице.
– Не мигом, а заодно анкеров нарежешь, – вдогонку кричит ему Темин. – Да не торопись, размеры соблюдай.
Поднялся Забродин.
Серега отослан, оборники в порядке – можно начинать.
Со свода из-под оборников по железу площадки забарабанили, загрохали, заухали камешки, камни и каменюги…
Через час Темину захотелось курить. Он поглядывал на беспрестанно шурующего оборником Забродина, ругал его шепотом и вполголоса за то, что тот был некурящим, замечал вдруг, что начинал отставать от него и, так и не покурив, с новой силой принимался стучать в гранитное небо, обваливая под ноги рваные и тяжелые его облака.
До конца смены вдвоем, именно вдвоем, без этого шалопута Сереги, по ком носилки сегодня плачут, надо было сделать оборку и свода и лба забоя, чтобы без задержки начали свою разметку под бурение маркшейдеры и чтобы все чисто было над их головами.









