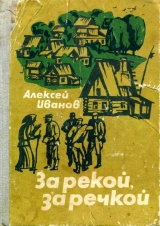
Текст книги "За рекой, за речкой"
Автор книги: Алексей Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Не в гусях дело
Как где в нашей деревне веселье с выпивкой, не заугольное, а честь по чести, застольное и по случаю праздника, так там гусь тушенный с яблоками вместо потрохов посередь скатерти. Люди закусывают, аж за ушами пищит, гусиный жир с подбородков вытирают и уж о Сашке Огарыше, то есть обо мне, обязательно вспомнят. Так, мол, и так, хороший все-таки мужик, дай бог ему здоровья.
А если и я случусь к тому времени за столом, так горе мне горькое – выпить не дадут: расскажи да расскажи, как с гусями дело было.
Ну, я и рассказывал, от праздника к празднику, сначала в охотку, потом из уваженья к застолью, теперь уж по привычке, а чтоб не скучно самому да людям было, всякий раз по-новому.
Сейчас привирать не буду – надоело. Расскажу как есть, как в первый раз рассказывал.
Хотя, если разобраться, рассказывать-то особенно нечего – правда всегда недлинная и несмешная. Смешат да словами обволакивают в разных там выдумках. Бывает, человеку из его жизни такую небылицу помогут состряпать всякие доброхоты, что сам он уже верит не в жизнь, а в небылицу. Посмотришь трезво, сквозь сладкое враньецо, и выйдет, что, к примеру, не передовик он вовсе, а просто-напросто длинный рубль до дрожи любит, то есть как раз наоборот.
Но это, конечно, к примеру. У меня-то совсем другое.
Кинулся я в одну вёсну гусей разводить. Дело это для нашей деревни было диковинное. Хотя странно – живем на реке, а понятия об этой птице до моего случая ни в зуб ногой.
Нельзя сказать, что моя деревня гуся никогда не едала, совсем нельзя. Наоборот – наверно, каждый мой ровесник, то есть средний житель, не только гусиную ножку глодал, но и печенкой гусиной лакомился. А не у себя дома – в соседней деревне. В Горке, к примеру. Сам же гусей не разводил, не знал, с какого боку подходить к ним, да и боялся, пожалуй, что гусятником, а то и похлеще, обзовут. У нас ведь как прилепят кличку – скипидаром ее не отмоешь, до десятого колена жива будет. Горских мужиков исстари так дразнят, но они гусей не бросают – вроде смирились.
Но это, повторяю, не у нас – в Горке. А вот если пойдешь в деревню Стремково, так там даже дым из труб крольчатиной вареной пропах. Вся деревня помешалась на кроликах. Странно – одна деревня на весь сельсовет, в других же только плечами передергивают при упоминанье об этой дичи.
К Отраде, бывало, подходишь, уже знаешь наперед – обязательно пчела-другая шваркнет тебя в какое-нибудь место. Первая изба с краю Мишки Головехи.
– Мишка! – говоришь ему. – Твоя пчела укусила.
Мишка не допытывается, его или не его пчела, а с миской меда из чулана бежит. Такой порядок: за пчелиный укус пострадавший взятку берет.
Оприходовал миску, но мало, к примеру, показалось – иди к другому пчеловоду, через две избы, дедке Хрусталеву. Тот тоже вынесет, правда, спросит: его или не его пчела созоровала. А кто их разберет, всякая жалит больно.
– Мои, – говорит, – химическим карандашом меченые, смотри в другой раз, да и пчелу приноси – разберемся.
До конца деревни дошел, рубаху хоть выжми – от меда-то потеешь сильно – и забыл уже, зачем в Отраду заворачивал. Вспомнишь после – в другой раз идти надо, опять потеть.
А вот, скажем, яблоки. В детстве, помню, чтобы слазить в чужой сад за яблоками, надо было за три версты в соседнюю деревню Лелючиху бежать. Земля та же, климат тот же – у них сады, у нас палисадники. В чем дело?
Стариков послушаешь – так и того пуще. У каждой деревни, кроме общей, хлебопашеской, еще и своя, только своя специальность была. Валенки заказать, такие, чтоб голенища до пупа, – беги в Прокшино; берестяные сапожки – это, пожалуйста, к нам, в мое бывшее Огарково; санки легкие, фунта три всего собственным весом, на каких целую поленницу дров из лесу сопрешь, – такие свяжут только в Тимошкине. И так во всем, за что ни возьмись, вплоть до гуслей иль скрипки. Правда, одни воспоминанья от всего этого. Но – приятно.
Соседние деревни – сестры ведь, одна кровь, можно сказать. А не девки – замужние бабы. У каждой свой свекор, свой мужик, потому, наверно, и жизнь у каждой своя.
Но вот десять или пятнадцать лет живем под укрупненьем. Сестры снова в одном дому – деревень пять в одной деревне, Сухолжине. Те же лелючинские выстроились по одному порядку, друг за дружкой; кто первый переехал, тот ближе к магазину, кто последний, тому окраина, рядом с клубом. Карманы вывернули, ссуду в колхозе взяли – построились, заборы поставили из штакетника.
А за новым забором – сирень да рябинник, как у старшей сестры, яблочка и после третьего Спаса не сыскать. На пепелищах родовых яблони одичали иль засохли, на новоселках и саженца нет.
Спрашиваю Ваську Чернова:
– Почему сад бросил?
– Мороки, – говорит, – много.
– А рябинник сажать, – не морока?
– То – рябинник, – говорит. – Ткнул в землю, и без забот.
Врет, что без забот. Рябинник в пять лет все палисадники заглушил, у новых изб углы преть начали. Пришлось помаленьку вырубать насажденья. Вот вам и без забот. Дурные заботы-то.
По-моему, что-то не договаривает Чернов. Может, боится, что ребятишки по саду лазать будут. Так и пускай бы лазали, теперь ведь из соседних деревень набегов не будет – нету их, деревень-то. А на своих управу легче найти.
Взять наше бывшее Огарково. Гуси водились в каждом дворе. Переехали мы, огарковские, сюда, на самый берег реки, а гусей поели на проводах, ни одного на племя не оставили – думали, видно, что не в Сухолжино, а в Москву на жительство переезжаем.
Зато праздников много. Раньше ведь как было заведено! Ильин день празднует только Савкино, Успенье – Сухолжино, Александров день – Огарково, Воздвиженье – Лелючиха и так далее. Теперь все праздники наши.
Закуску надо только пожирней, чтоб на ногах устоять. Ну да и с этим делом вроде улажено – гусь теперь на праздничном столе.
Так вот о гусях.
Задумал я в одну вёсну хорошего щенка заиметь. Договоренность уже была с Толей Кастрюлей, охотником из-за реки, из чужого колхоза. Еще когда его Найда брюхатой ходила, он говорил мне, что, дескать, первый кобелек твой.
Высчитал я время, когда Найда ощенится, сел на «Урал», по дороге в магазин завернул да прямиком к Кастрюле.
Но опоздал маленько. Видно, рассчитал неправильно – Толя уже всех направо-налево рассовал, осталась одна сучонка.
Ладно, думаю, возьму и ее, наплевать, что забот с этим полом больше. А и сучонка уже понравилась: шерстка дымчатая короткая, волосок к волоску, одно ухо уже стоймя стоит, другое пока лопушком вниз. Зубки мелкие, острые, как шильца, и сердита, шельма: с нею играть, а она норовит за руку цапнуть. Ну да порода свое выказывает. Найда – овчарка, только не уследил Кастрюля, не установил, кто отец, не дай бог пустобрех какой-нибудь.
А хозяин мнется что-то.
– Не могу, – говорит, – завгару пообещал.
– Хоть министру, – говорю. – Мне какое дело! Ты мне кобелька сулил, а оставил сучонку и ту зажилить хочешь.
Поспорили мы с ним, поспорили, да делать нечего – выставил я магарыч, не переть же его назад, что потом Лиза скажет.
Толя и говорит:
– Ладно, Саша. Коль опрохвостился я перед тобой – исправлюсь.
– То-то же, – говорю. – Первое слово дороже второго.
Завел я «Урал», Толя мне корзинку выносит. Упакована по всем правилам, платком сверху завязана. В люльку поставил.
Я хотел было щенка за пазуху посадить, а корзинку отдать, чтоб потом ее не привозить.
– Не надо, – говорит. – У нее послабленье от коровьего молока. Обделает еще.
– Да ведь замерзнет в корзине-то.
– Нет, – говорит. – Я ее в рукав от старой телогрейки засунул, только мордочка и торчит.
С тем я и уехал.
Приезжаю домой – Лиза, Сережка вокруг корзинки, будто кошка с котенком вокруг горячей каши, заходили, невтерпеж им узнать, что за щенок заморский хозяином привезен.
Развязываю корзинку – мать честная! – гусята. Восемь желтеньких пушистых катышков вместо щенка. Губу закусил, чтоб в чувство прийти, померещилось, думаю, после магарыча.
– Ты, – говорит Лиза, – крокодила скоро в избу припрешь. Совсем, – говорит, – угорел...
И понесла она меня, и понесла – видит, что не могу обрезать, язык отнялся. Никак ей не угодишь: за щенка ругала, верней, не за щенка, а за хотенье мое щенка взять, потом перестала, смирилась, а теперь, видите ль, не рада, что вместо собаки гусята.
– Забирай, – говорит, – корзинку и ступай, откуда пришел. Сто лет гусей не держивала и еще сто лет этих обжор да горлопанов близко не надо.
– Да какие, – говорю вдруг, – они горлопаны! Если б горлопаны, так они б на тебя похожи были.
Тут я маленько не сообразил – сказал, как на каменку подкинул.
Вижу: надо срочно ехать назад, от греха подальше. Подхватил корзинку да к мотоциклу. А ехать неохота – темно уже, дорога плохая, и свет барахлит. Переночевал я, робко, правда, но дома, ехать же и совсем не пришлось – льдом мост стащило, унесло, жди теперь, когда вода спадет да новый поставят.
Ум, конечно, у меня враскорячку: как в корзинку вместо щенка гусята попали?! Может, подшутил Кастрюля?
На всякий случай соображаю, с чем к нему приехать, чтоб в долгу не остаться.
А гусята подрастают, черти, справненькие такие уже к новому мосту сделались – жалко отдавать.
Лиза с цыплятами хлопочет, я – с гусятами. У ней к ним, что ни шаг, то презренье. В Перфильеве я ее высватал, а там и гусиного крику не слыхивали. Трудно, конечно, ей привыкнуть.
Выпущу гусят на реку, Лиза, даже если ничего не делает, газетину читает, ни в жисть за ними не присмотрит.
С работы прибегу, бывало, – нет под берегом моих птиц. Я – овсеца в карман да вниз по реке, на перехват. Пока бегу, все дивлюсь на своих «ребятишек». Не в пример курицам – умнющие твари. Могли ль они из корзинки дорогу рассмотреть да запомнить?! Малы совсем были, глуповаты еще, да и корзинка плотная – не усмотришь, где остался родимый дом. А все одно: лапки в реке обмочить не успеют, уже на родину поправили, вниз по теченью. Перехвачу их чуть ли не под самой Кастрюлиной избой (вон куда уплывали!). «Теги, теги!» – зову. Услышат мой голос, опомнятся да ко мне. Так и домой придем: я – по берегу, они – водой, вверх по теченью.
Трагически кончилось для них плаванье на родимую сторонку. Забереги к тому времени были на реке, а в тихих местах первые морозцы и мосты навести успели. Не надо было гусят (гусей к тому времени) выпускать. А Лиза по незнанью выпустила. Бегал я бегал вдоль реки взад-вперед, ноги до колен сносил – все напрасно. Пропали мои теги. Видно, под лед затянуло…
На следующий год я у Кастрюли снова гусят взял, теперь уж сознательно. Так и стали мы с Лизой гусей выращивать. Потом соседи от нас эту моду переняли, от соседей – другие соседи, от других – третьи. Теперь почти вся деревня с гусями. А тушенный гусь с яблоками – это Лизина затея, у ней книжка толстая есть «Вкусная и здоровая пища». От нее соседи научились.
А собаку я так и так завел, в ту еще вёсну. С Кастрюлей же мы разобрались, как мост на реке построили. Он, оказывается, не ту корзинку мне сунул. А мою корзинку со щенком тем же часом унесла бабушка Федиха. Каково же было ее удивленье, когда она дома иль по дороге еще, не знаю, обнаружила щенка вместо гусят. Но в отличие от меня собак выращивать не стала – вернула щенка Кастрюле, а тот своему завгару отдал, как и было им обещано. Я не в обиде.
Отвяжись худая жизнь
Редко очень, но все же заносила меня нуждишка, колхозная иль единоличная, в чужие края. Чужбина и есть чужбина, за минуту, а то и за всю остатнюю жизнь не сделается она родной. Однако бывало: милое оканье обласкает вдруг слух твой, встретишься с душой нараспашку, послушаешь разговор о житейских заботишках, и сладкая наволочь обоймет сердце – мать честная, скажешь радостно втихомолку, и тут жизнь, как у нас.
Еще больше чужбина становится близкой, если встретился на ней с человеческой бедой да примерил ее на себя. Беда понятней счастья.
Грузили мужика в промерзлый поездок – инвалида в двухколесной коляске. В общем вагоне провожающие очистили для него нижнюю полку, положили на подвернутый матрац, а спиной прислонили к стенке. Покрякали по очереди над одним граненым стаканом, поокали, прощаясь, и расступились, ушли.
Враз осиротел инвалид, примолк, привыкая к новому своему положенью, несмело запоглядывал на жену, примостившуюся в ногах. Жена у него была молода и красива, правда, не первой, но долгой для женщины красотой. Я даже обмер, как взглянул на нее, – Лиза, вылитая Лиза моя в самолучшие ее минуты. И забоялся прямо смотреть на нее, вдруг с языка помимо воли слетит что-то иль в глазах она не то прочитает, сконфузится еще, не дай бог, да меня сконфузит.
Ему чуть за сорок, может, ровесник мой. Деревенское лицо его уже потеряло прежнюю свою продубленность, рыхло как-то побледнело, изголодалось, видно, по морозу да зною. Не мог я смотреть и на него, по другой, правда, причине – больно было видеть его, несчастного. Я отворачивался, а перед глазами все равно был он – большое туловище с толстыми плечищами и мертво неподвижные, аккуратные, будто игрушечные ноги в кипенно белых шерстяных носочках домашней, наверно, жениной вязки.
– Таня! – выдавил инвалид. – Налей стакашик.
Таню второй раз просить не надо.
Выпил он торопливо и до конца, до донышка, боялся будто, что недопитый стакан может вконец испортить и без того испорченную жизнь.
Таня протягивает бумажный сверток.
– Пирожки-то с чем? С капусткой? – спрашивает инвалид.
– Не, Коля, с повидлой, – отвечает Таня.
– Чего ты мне тогда дерьма-то предлагаешь?!
Таня молча кладет сверток на столик. Николай закуривает.
– Простите инвалида, – говорит он соседям. – В сени не могу идти.
Соседи кивают. Мол, чего уж там, давай кури, после выпивки особенно курить охота.
– Да, отходил свое, – благодарно завязывает разговор Николай. – Теперь вот, как начальство, на персональных – машине да пенсии. Только все масштабом помельче.
Лицо Николая ожило, зарумянилось, и люди теперь смотрели на него больше с интересом, чем с состраданием.
– Как ты, сынок, обезножил-то? – спрашивает его сидящая рядом сухонькая старушка. – Такой мужик могутной, и не подумаешь… Не война ведь теперь, так обидней во сто раз. Иль болезнь какая?
– Ой, бабка, долго рассказывать.
– А ты расскажи. Язык-то сердце лечит.
– Ладно, Таня, налей стакашик.
Таня замешкалась.
– Налей, налей, деушка, – вступилась за Николая старушка. – Вишь, мужик-то отпотел с зимы-лихоманки. Пускай и в нутрях отбухнет.
– Надоело в колхозе ржаные деньги получать, длинного рубля захотелось, – выпив, говорит Николай. – В города подался.
– Говорила дурачку, – вставила Таня, – раньше за постный трудодень ломили. И то ничего. А тут и деньги ржаными привиделись. Пятистенок рубить задумал…
– Не береди болячку, – обрывает ее Николай. – Сам с усам. Кабы не стукнуло бревенышком в поясницу, жили б уже в пятистенном…
Так вот… На нижнем лесном складе я работал. Тяжело, конечно, кряжи ворочать, зато карман отторбучивался. Да-а. Развязалась пачка кругляка, бревенешки-то и покатилися. Мужики успели увернуться, а у меня на валенках галоши были. Посклизнулся на снегу, и приласкало в крестец. Валенки, дурак, берег, – хмыкает Николай, – новые были… Да и не в валенках дело. Видно, кому как на роду написано. Троих за сезон помяло, меня миновало, а потом, значит, и мой черед подошел.
– Да что ты смолишь-то одну за одной, – останавливает его Таня. – Себя не бережешь, так людей пожалей.
Николай мимо ушей пропустил.
– Очухался, лежу, где положило, а перед моим носом, вижу, черные ботиночки на белом снежку – главный инженер прибежал. Что да как спрашивает, участливо спрашивает. Потом-то я допетрил: не за меня, калеку, он дрожал, а за свою креслу. Уговори-ил!.. Бумагу я подписал, что, мол, по своей халатности под бревенышко-то попал.
– Правильно и сделал, что подписал, – смягчает Таня. – Чего злобиться-то. У него, у инженера, и без того забот полон рот.
– Ну, да черт с ним, с инженером. Обо мне теперь так и так государство заботится. В санаторию вот еду, на станции, где вылезать, «скорая» уже наготове. Да-а-а… Только вот заноза какая: припоздали маленько с заботой-то. Был здоров, работящ, никто про здоровье мое иль там про семью не заикался. Сезонник, правда, он как чужак. А когда без ног остался, ни для какой пользы непригоден стал, тогда любовная канитель началась. Будто без ног-то я теперь сто сот стою. Припоздали маленько… – Николай уткнулся лицом в переборку. – Эх, мать моя… Когда зубов не стало, тогда и орехов принесли.
– Мели, Емеля – твоя неделя, – возражает жена. – Лечат же, чтоб на ноги поставить, а не глаза отвести.
– Лечат-лечат. Два года лечат, а толку-то… Совесть свою лечат. Вязали бы пачки, как следовало вязать… Налей, стакашик! – не просит, а требует Николай.
Таня наливает. Николай пьет так, что кадык бьется от груди к подбородку. Стало тихо, только часто-часто застучали под вагоном колеса.
Отвяжись худая жизнь,
Привяжись хорошая… —
неожиданно, на весь вагон, пропел Николай, будто и не оплакивал только что свою занозу, будто собрался сейчас, как только допоет первый куплет, вскочить на ноги, топнуть в бегущий над стрелами-рельсами пол и под вступительную дробь каблуков почать второй куплет. Но сразу же смолк, потом с зубовным скрежетом, но тихо проговорил только что спетое.
Дальше слов он, наверно, не знал, но и этих было ему за глаза…
Соседи улеглись, притихли: то ли уснули так быстро после того, как подсмотрели чужую беду, то ли делали вид, что спят, стараясь не мешать супругам. Не спалось и мне.
Таня с Николаем зашептались. Шепот был с видимым стараньем не шуметь – да где там! – в этих краях, как и в наших, шепчутся с уха на ухо, а слышно с угла на угол.
– Коля, на ночь-то, а… Давай-ка по малой…
– Не, Таня, дай последний стакашик, тогда уж заодно.
Выпросил.
Таня зашуршала полиэтиленовым пакетом, склонилась над Николаем…
Стали и они укладываться. Таня проворно подогнула матрац, подтащила Николая ближе к изголовью, поворочала его с боку на бок, подкладывая подушки, подтыкая одеяло и пронзительным от старанья не тревожить соседей шепотом выспрашивая, не беспокоит ли Николая что, удобно ли, заснет ли так…
Затихли. Таня, усталая, сразу же уснула на верхней полке. Николай сопел, но не сонно, а, скорее, сердито и обиженно. Не по нутру ему совсем, что Таня не замечает его беспокойства. Потом вдруг заскрипел зубами, забормотал, заругался.
Таня – как сна ни в одном глазу – свесила голову:
– Что, Коля? Плохо?
– Да не, хорошо… – шипит снизу Николай.
– Может, надо чего?
Молчит Николай…
Таня снова забралась на полку и едва успела голову донести до подушки.
Николай охает.
Таня как тут и была. Заботливо поворачивает мужнино тело, охлопывает подушки, снова укладывает его так, чтобы ни одна косточка, ни одна жилочка Николаевой спины не чувствовали ложа.
Николай замолкает, ждет, когда Таня ляжет на свою полку и забудется, чтобы сразу потом оторвать ее ото сна и минутного покоя. А Таня по-прежнему ровна и заботлива. И это еще больше злит Николая.
В какой уж раз Таня свешивается с полки.
– Ничего… скоро освободишься от калеки. В санаторию выбрасываешь… Рада небось!
– Что ты мелешь, дурачок? Сам же и рвался туда, – спокойно урезонивает мужа Таня.
– Мелешь… – хмыкает Николай. – А то не знаю, чего тебе охота. Молодая еще… Погуляй, погуляй, а то я обезножил… совсем, без надобности теперь…
Таня укладывает мужа, молчит, опасаясь словом обиды своей еще больше разозлить Николая…
– Далеко ехать-то, деушка? – скрипнул спросонья старушечий голос.
– К утру выйдем, – ответила Таня, присевшая в ногах мужа. – Вы уж извиняйте нас, колготных.
– Да я не к тому, – говорит старушка. – Кому надо, тот спит. А я давеча большую упряжку выспала. Ты уж не ложись. Однова спать не даст… Не сладко тебе, деушка.
Таня отвечает не сразу – не хочет принимать чужих сочувствий.
– Сладко, солоно… Все мое. Ему ведь и того солоней. Я здорова – я стерплю. Привыкла. А каково ему-то привыкать… На все гож был: и руки золото, и сам веселый, и лаской меня не обходил. А, бывало, на гулянке всех переплясывал. Мужики-то нынче как: выпьют, наколобродят – наутро глаз от земли не оторвать. Коля у меня, как красна девка…
– Ну дак я-то чего… Я-то вижу, как ты за им ходишь. Вот и молодец.
– Молодец не молодец, а знаю и жду: справится со своим горем и он. А не справится, так я и виноватая буду.
– Вот я ведь то же и говорю, – вставляет старушка. – То же и говорю. Хорошая баба, как мать-земля. Режут ее, топчут, а она – хлебушко родит. У хорошей бабы душа умная. Вот… Дай тебе бог, деушка…
Старушка не договорила – снова застонал Николай.
Утром две эти беспокойные полки оказались пусты. Никто, пожалуй, кроме старушки да меня, и не заметил, как на какой-то станции вошли в вагон санитары, привычно, без шума подхватили неудобное и тяжелое Николаево тело. Таня тоже сошла, чтобы ехать обратно, или, скорее всего, проводить мужа до места.
Старушка, чистенькая, светленькая вся, как только что от причастья, сидела уже за столиком, посматривала в окошечко. Ни морщинки лишней, ни тени на ее лице – не было для нее бессонной ночи, Таниного горя. Вроде бы не было.
А за окном плыл прозрачный полог березника.
– Вот оглобли-то! Вот так оглобли, – тихо радуется она. – Сок пойдет – ошкури да брось на солнопек. Осенью забирай – звон, а не оглобли.
– Ишь, бабка! – свешивается со второй полки молодой заспанный парень с колтуном на голове. – Наверно, и дровни вязать знает как…
– А чего ж не знать? Знаю. Дедко был жив – вязывал.
– Дровни вязывал да бабку поколачивал…
– Всяко бывало, – опять легка на ответ старушка. – Полоз в станке лопнет – обходи за версту, быть виноватой. У вас, у мужиков, кто ближе, тот и обвиновачен.
– Во дает бабка, во дает, – смеется парень, спрыгивая с полки. – Небось, пускай бы бил, да только чтоб живой был?
Старушка, глянув на парня и недовольно пожевав губами, отвернулась к окну.
За поредевшим березником неслось, не разбирая дороги, красное солнце, подпрыгивало над низинами, кололось об острозубую пилу дальнего ельника, торопилось, видно, старалось не отстать от поезда. Здесь оно мчалось, над моей деревней вываливалось из-за розового бугра, где-то выплывало из дымов – одно на всех и для каждого отдельно.
– Жисть-то, добрый человек, не одни потычины, – сказала старушка.
Парень тоже уставился в окно.
– Шпарит-то как! Во все лопатки. А ведь успеет, подлец!.. – кричит он.
– Что – успеет?
– Да в Подберезье в вагон вскочить. А мы его хвать, безбилетника…
Парень хохочет, да и старушка маленько подребезжала.
Потом бабушка Иринья, Игорек и я пьем утренний жиденький чаек. Одинаково дуем на стаканы, одинаково щуримся от взлетевшего в небеса солнца. У нас одна и, кажется, старая компания, хотя познакомились-то мы с полчаса назад.
Мы говорим о пустяках, нарочно о пустяках, а думаем-то совсем о другом и все об одном и том же. Конечно, по-разному думаем, потому что мы сами разные во всем.
Игорьку проще забыть Николая с Таней. У него возраст да и характер такой – глаза повернуты только к солнцу, и тень не спереди, а за спиной. Не знаю, как думает бабушка Иринья, могу только гадать. Но, в случае чего, у меня найдутся для нее утешительные слова. У нее, в жизни своей, не было Таниного горя и теперь уж, слава богу, не будет. Я же, как примерил на себя Николаеву судьбу, так похолодел – каково будет Лизе моей!..









