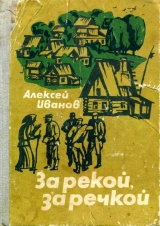
Текст книги "За рекой, за речкой"
Автор книги: Алексей Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
В гостинице
Смагину и мне опять повезло. Утром из узкого и тесного тамбура мы переселились в просторную комнату с широким окном и тремя настоящими железными кроватями. Сегодняшняя наша радость была сродни вчерашней: вчера нам удалось-таки проникнуть в эту гостиницу – длинный бревенчатый дом, срубленный в охряпку. После сезона мытарств с тяжелым рюкзаком на спине, как здесь говорят – загорбником, на таежных, но не пустынных сейчас дорогах и тропках, когда от усталости и бесприютности чувствуешь себя сиротой, и маленькая бытовая радость может сделать тебя счастливейшим из людей. Вообще иногда необходимо пострадать, чтобы почувствовать прелесть твоей, обыкновенной приевшейся жизни. Но вчера мы не успели понянчить свое счастье – мгновенно, как убитые, рухнули на раскладушки. Сегодня же, валяясь на белых простынях, выспавшиеся, с затихающим и потому приятным гудом в исхоженных по валуннику и бурелому ногах, мы вполне были готовы повторять безмолвно и бесконечно: «Как мы счастливы! Как мы счастливы!»
А радость в душе почему-то не засиделась, ушла, оставив вместо себя неопределенную немоту. Мы уже начинали пугаться новых, предстоящих мытарств и потому робко стали надеяться на радости внеочередные. Капризен и неблагодарен судьбе человек, когда он сыт.
Стукнула в коридоре дверь.
– Вот раскладушечка. Располагайтесь, – послышался молодой женский голос с интонацией радушной хозяйки дома. – Поселила бы в эту комнату, – дежурная, видимо, показала на нашу дверь, – есть там свободная коечка. Да бронь, знаете… Скандалу потом не оберешься.
– Ничего! – прогудел простуженный мужской голос. – Мне хоть где… Лишь бы отоспаться. А там – самолет.
– Пока здесь. Вечером не явится бронированный – койка ваша, – обнадеживает новичка, и без того довольного местом, дежурная по гостинице Марина.
Да, ее зовут Мариной. Это мы узнали утром, при переселении, и даже хорошо ее разглядели. Она, высокая и довольно плотная девушка, была, как подросток, нерасчетливо-неуверенна в своих движениях и очень заметно стеснялась своих грудей, тяжелыми ядрами подпрыгивающих при ходьбе. Марина словно только сейчас, с запозданием в несколько лет, обнаружила вдруг их откровенное присутствие под кофточкой и надолго застыдилась. Да и как тут не обнаружить, если в гостинице сплошь мужичье, одни – в командировку, другие – из тайги.
– Дежурная! – притворно требовательно зовет Смагин и подмигивает мне. – Что за порядки в твоем отеле?!
В полуоткрытой двери показывается круглое, несмотря на написанную на нем внезапную тревогу, Маринино лицо.
– Чо? Чо такое?
– Только уснешь, опять пятками стучишь – ведешь кого-то.
– Та каки ж таки пятки, колы каблуки!
Тревога на ее лице как вспыхнула, так и погасла, дав место досаде на то, что напугалась из-за пустяка.
– Каблуки – это искусственное продолжение пяток. Следовательно, тоже пятки, – нахмурив брови, рассудил Смагин. – Шумишь, спать не даешь.
– А ты почаще к нам приезжай, тогда привыкнешь. – «Ты» у Марины выскочило нечаянно. Она мгновенно зарделась, а почувствовав, что уши и щеки стали горячими, увидев, что и мы это заметили, сконфузилась еще больше. У нее и в мыслях не было поставить Смагина на место, просто легкая развязность в ее тоне и словах, произнесенных после «ты», появились от излишней застенчивости.
– Чья бы коровушка мычала… – с грубоватым добродушием ответил Смагин.
– А чо?
– Я тут побольше твоего.
– Гм, сказал… – хмыкнула Марина, решив, что конфузилась зря, что тон выбран верно. – Не ты ли мне вчера паспортом в нос тыкал: «Пусти переночевать! Пусти переночевать!..»
Марина передразнила Смагина так ловко, что тот рассмеялся.
– Ну, я. Так что из этого? Я тут паспортом каждый месяц тычу. А тебя, голубушка, раньше не видел… Сама-то сколько здесь?
– Да уж месяц скоро…
Смагин с закрытыми глазами слушает, как удаляются по коридору, затихая, крупные Маринины шаги. Он ждет ее прихода. Но сама она вряд ли скоро появится, а ему не подвертывается под руку предлог позвать ее.
Через некоторое время в коридоре вновь слышатся Маринины шаги, на этот раз частые и озабоченные. Смагин ждет, когда она поравняется с нашей полуоткрытой дверью, и зовет:
– Дежурная!
– Чо тебе?
– Чайку бы.
– А бифштексов не подать? – в дверном проеме появляется и исчезает смеющееся Маринино лицо.
– Сюда-сюда, – слышится ее голос. – Комната направо.
– Да тут темно. Номеров не видно, – ворчит мужской голос.
– Что поделаешь! – сокрушается Марина. – Лампочки-то в Москве – дефицит, а у нас тут и подавно.
– Ах ты господи! Опять на самолет не попали? – ахает она уже в другом конце коридора, принимаясь вновь устраивать незадачливых пассажиров.
Смагин светлеет лицом, слыша эти хлопоты, и уже, наверное, готов забыть, что он не дома, а здесь, у черта на куличках.
– Кому чай, а кому – в нос получай. Так, что ли? – слышим сердитый голос. – Блатных уже завела?
– Кто как просит… Кто с матом, тому и ходить… косматым, – неожиданно и весело срифмовала на ходу Марина и засмеялась довольная, что не осталась в долгу у сердитого дядьки.
Она входит к нам с парящим чайником в одной руке и тремя кружками – в другой.
– Садись, Марина, – Смагин показывает на свободную койку. – Вместе почаевничаем.
– Та недосуг мне, – отмахивается Марина и тотчас садится и, чтобы замять смущение от своей поспешности, сразу заговорила: – А я-то, дура, не знала, куда одного дядечку поселить. Зажилили, выходит, коечку-то…
– Для тебя и зажилили. Будешь к нам приходить и сидеть на ней. Стульев ведь в твоем отеле нету.
– Тут бы хоть раскладушек-то напастись…
Втроем попиваем чаек, балагурим. Вернее, балагурят они: Смагин, чтобы скоротать время – грубовато и с подтекстом, Марина – на всем серьезе своей непосредственности, прикрытой легким туманцем девичьего лукавства. В ее словах иногда слышался шелест крыльев мотылька, вьющегося вокруг открытого огня, и я чувствую, что я здесь лишний.
– Тебе здесь нравится?
– Очень! Правда, когда я сюда ехала, думала, что на завод устроюсь.
– Вот те раз! Какой же здесь завод? Тут еще далеко до заводов.
– Ну, на какой-нибудь, – настаивает Марина, будто пытается доказать неопределенность своих планов.
– Глупости это – завод. На нем работать там… – Смагин неопределенно махнул рукой. – А откуда приехала?
– С Чернигова.
– Ну, вот. Из Тулы в Магадан – чаю попить.
– Прям…
– Не завод тебе нужен. Не-е-ет. Зачем приехала-то сюда?
– «Зачем-зачем»… Сказала ведь…
– Да чего ты сказала-то? Ничего пока и не сказала. Заводом только посмешила серьезных людей.
– Прям, посмешила. Для кого смех, а для кого…
– Ну-ну, – перебил Смагин. – Какой же грех?
– Та не грех, а слезы.
– Марина! Тебе-то да плакать. Вот еще один завод сочинила. Так что в эти края потянуло?
– Та посмотреть, как люди на краю света живут…
– И всего-то? – снова перебил Смагин.
– Та-а-а, – неопределенно тянет, краснея, Марина. – А то помрешь и не увидишь.
– Ай-я-яй. О смерти уже задумалась.
– Жизнь такая… Мелькнет – и нету.
– Сколько ж тебе?
– Чо – сколько?
– Лет сколько?
– У девушек не спрашивают.
– Глупости. Это лицемеры понавыдумывали разных там условностей. Так сколько?
– Сколько дашь – все мои.
– Года эдак… двадцать… двадцать один…
– Ну уж…
– Девятнадцать?
– Прям… Двадцать три уже дуре.
– Ни завод, ни край света ни при чем. Замуж надо выходить.
– Та ведь не поймешь тут, кто холостяк, кто женатик. На лбу штамп не ставят, – серьезно и печально сетует Марина. – Вас спросить, так все холостяки.
– А ты паспорт смотри.
– Недосуг смотреть-то. Вас ведь вона сколько! Успевай только фамилии записывать.
– Не торопись – подождут.
– Та-а-а… В Чернигове не торопилась, вот и холостая осталась.
– Ну, здесь наверняка, – серьезно говорит Смагин. – Нас, старичков, – он да я. Все остальные – молодежь…
Марина хотела что-то возразить, но из коридора донесся сердитый голос:
– Дежурная! Вечно ее на месте нет.
После этого недоконченного разговора Марина стала заглядывать к нам часто и запросто.
Предлог, правда, сочинялся ею неумело: то чайник взять, но «забыть» кружки, чтобы прийти за ними потом и сказать себе в оправдание: «Какая же я полоротая!»; то промолвить в глубокой задумчивости: «Сколько же у нас с вами свободных мест?» и пересчитать пустые койки: «Там – пять, с этим, значит, шесть»; то поправить пустовавшую пока кровать, на которой Марина недавно сидела, со словами: «Я ведь знаю, в гостиницах, чтоб кроватка новому жильцу как по линеечке»…
Но предлога остаться и посидеть с нами у нее не находилось. А сердцевед Смагин, кажется, заснул с печатью на лице: флирта на этот раз не будет.
Марина как-то незаметно изменилась за это время: сгладилась порывистость, перестали ее смущать колыхания под кофточкой. Да, собственно, кофточки уже и не было, а была белая тугая майка с коротким рукавом. Конечно, мы поняли, что «какой-нибудь завод» для Марины не более как ширма, за которой спрятана от чужих глаз истинная цель дальней ее дороги. Смагин помог ей хоть на минуту, хоть на вечерок освободиться от бремени тайны. И Марина, боявшаяся признаться даже себе, чтоб не сглазить, в своем заветном, в открытую помечтала о нем, таком уж, может быть, совсем близком.
А завтра с утра нам предстояла толкотня в аэропорту – таком же, как и гостиница, бревенчатом доме, тоже недавней, чуть ли не прошлогодней постройки.
III
БЫВАЛЬЩИНЫ ОГАРЫША
Посошок в дорогу
Прошлым летом угораздило меня согласиться на круглосуточную работу. Днем свою главную справляю: транспортеры на ферме чиню, вакуумную установку холю, навоз на тракторе вывожу, а как придет ночь – меховую куртку на плечи да термос с крепким чайком под мышку, и снова на ферму – подменять захворавшего сторожа. Службишка не в тягость, выспаться только недосуг.
А тут повадился ко мне по ночам дачник один: культурный, речистый, но не из таких, кто слова не даст сказать, а наоборот, кто на разговор вызывает.
– Я, – говорит, – много наслышан о вас, Александр Иванович, как об устном деревенском летописце. О вас хорошая молва идет.
– Ну, что ж, – говорю. – В каждой деревне свой дурак.
Он завозражал и до того хорошо, что мне как маслом по сердцу, но потом, когда я очнулся маленько от лести, и не рад уж был, что про дурака сказал.
Просит он меня бывальщин порассказывать и все подталкивает-подталкивает ласково словами, так что на другую ночь я вконец растаял.
– Так и быть, – говорю. – Дело прошлое, ночи долгие – можно будет и повспоминать хорошенько.
Уж и не скажу теперь, сколько ночей он со мной скотину отсторожил, с месяц-то, наверно, выходил.
Слушать он, конечно, мастак из мастаков, не в пример моим однодеревенцам, особенно в какую-нибудь застолицу.
Извинится, бывало, что перебил, попросит словцо повторить, языком пощелкает, иной раз засмеется тихо и вежливо, а то и чуть ли не прослезится в каком-нибудь месте.
Но вот подошла последняя ночь. Может, она б и не последняя была, да так вышло. То ли тихий ангел пролетел, то есть ни с того ни с сего оба замолчали, то ли за окном кто-то завозился, и мы прислушались, – не помню уж сейчас этого с точностью.
Только слышу вдруг, что-то погуживает у него в сумке под столом. Наклонился я, вижу, из кармашка какая-то штуковинка торчит. Присмотрелся – микрофон.
– Извините, – говорит, – что не предупредил вас. Кто знает, что его на магнитофон записывают, теряет дар речи.
И начал припоминать, когда и где у него из-за этого промашки вышли.
Может, он по-своему и прав, только мне на самом деле вовсе расхотелось перед ним распинаться.
– А для чего, – спрашиваю, – вам мои россказни?
– Книжку, – говорит, – хочу напечатать.
Не знал я, что книжки так легко достаются, а то б, подумал спроста, и сам бы попробовал написать.
Потом, зимой уж дело было, почтариха мне бандероль приносит. Журнал, оказывается, с моими побасенками. Если б не портрет дачника над заглавием, так я б и не признал своего, до того оно… даже не знаю, как сказать… Представить если, что мужиков корноруких, которые в городах деревья стригут, запустили с ножницами в наш березник у Барского лога да пообещали им платить не повременно, а с выработки, и пошли они кромсать. Веников – козьему стаду на зиму, от березника – рожки да ножки. Так и с моими побасенками обошлись.
Ладно, думаю, приедешь на будущее лето, я хоть в глаза тебе погляжу.
А журнал я спрятал от греха подальше, – не дай бог, однодеревенцы узнают, позора не оберешься.
Да зря прятал. Обнаружилось, что этот журнал выписывает Савося.
Он-то и разболтал по деревне.
Обозвали груздем – полезай в кузов. Решил сам себя записывать, благо что до посевной далеконько и по ночам спать поотвык. Дело это, оказывается, потяжельше бригадирства, но креплюсь, потому что знаю из прежнего своего опыта: любое новое ремесло не сразу к рукам льнет.
А что касается самой писанины моей, то утешаю себя: коряво, да мое, не дядино, и вранья в ней нету.
Мое прозвище
Иной раз снизойдет пресвятая минута, и подумаю: вот пойду я в сельсовет, попрошу, чтоб мне фамилию переменили. То есть прозвище сделали фамилией, а фамилию – прозвищем. Хотя последнее-то вовсе не сельсоветское дело. Тут уж как деревня заглазно решит.
Но сомненье берет. Скажут, что не положено колхозникам такой привилегии. А если и не откажут, то все равно волок больно долог – бумажки писать, в район ездить да объяснять каждому раз по сто, какая муха меня укусила.
Огарыш – мое прозвище, унаследованное от деда, чем я горжусь, но в самом деле жалею иногда, что прозвище не доросло до фамилии. Хотя и она от деда, от его имени.
Однако имя и есть имя – немое случайное названье, особенно в прежнее время, когда поп крестил: на Николин день отрок рожден – Николай, значит, будет, на Александров день – Александр и так и далее.
А в прозвище – дедова судьба и моя тоже.
Горько жалею, что не помню деда, не услышало ухо его голоса, не увидел глаз его обличья, не почувствовало тело ни одного шлепка черствой его ладони.
Знаю: не от большого ума тяга моя к тому, чего никогда уж не будет. А тянет. Да и не в уме дело. Душа моя осталась недоласканной дедовой и отцовой, мужицкой, лаской.
Если б помнил хорошо отца, меньше б жалел о деде. Но ведь и отец был со мной только в раннем моем детстве. Его, сына-первенца дедова, и еще двух его братьев (все трое погодки) унесла на своих черных крылах война, уготовила им могилы в чужой земле.
А всего у деда было восемь дочерей и три сына. И теток своих не всех помню. Все они, даже те, кого знал, с кем роднился, – в могилах, правда, почти все на одном кладбище, нашем, в Левоче. Хоть в этом-то им, в отличие от мужчин, повезло, если считать такое дело везеньем. Кто покоится под березой с корявым уже стволом, кто – под молодой, но по-кладбищенски быстро растущей рябиной, кто – под деревянной с необлупившейся еще краской тумбочкой с жестяной поющей на ветру звездой. То есть помирали они все в разное время, не придерживаясь старшинства (хотя кто в этом деле, последнем на земле, соблюдает порядок?!). И все по-разному уходили в Левочу: кто по старости лет, кто до срока – череда семейных невзгод да немеряная крестьянская работа укоротили век.
«Дед! А дед! – шептал я, бывало, в бессонную ночь. – Отзовись, дед. Научи внука, как совладать с жизнью».
Напрасно звал. Ответа не было. И не будет ответа.
Только судьба его, рассказанная матерью да стариками однодеревенцами, служит мне уроком и заветом.
Несчастен и упрям был дед мой Огарыш. Несчастье упрямо, а он еще упрямей. Чем больше его гнула слепая неминучая, тем прямее он становился. Четыре раза горел, хотя бабка Ильюшиха до сих пор уверяет, что восемь. Восемь раз?! Ни за что не поверю – слишком много для одного человека, даже если ему свыше завещено горе мыкать. Конечно, не сам горел, а изба его и подворье. Отстраивался сызнова и опять горел, и опять рядом с пепелищем ставил новый сруб.
Пожары перемежались рожденьем детей – как пожар, так девочка. А по тогдашним крестьянским понятиям рожденье девочки – не наследника, не работника – приравнивалось к пожару. Так что Ильюшиха, пожалуй, была права, когда удваивала число несчастий моего деда.
Ума не приложу: отчего шла такая жестокая очередность? По какой причине случался пожар? Злой умысел тому виной, вражья месть? На этом в воспоминаньях никто не настаивал. Напротив, говорили даже, и не раз притом, что дед со всеми жил в ладу, что он комара не обидит, до того добродушен, и ссориться, тем паче наживать себе врагов, не умел совершенно. В это я охотно верю, потому что был он дюжей силы, а здоровые мужики, медведи, как он, в самом деле добродушны. Об его силе, кстати, рассказывали всякие штуковины. Хотя б вот такую.
Дед в первый, иль в какой там раз – неизвестно, рубил новую избу. А строевой лес по великой нужде приворовывал в угодьях помещика Закоржевского. И приворовывал так хитроумно, что ни лесник, ни сам помещик долго не могли обнаружить порубки. Когда же, в конце концов, обнаружили, то у обоих ум за разум зашел. В самой чащобе, куда ни лошади не пройти, ни телеге не проехать, стоят пни со свежим срубом, лапником сверху прикрыты. А куда и как бревна подевались? Сейчас-то мы б быстро смикитили – по воздуху, дескать, вертолетом, и махнули б рукой. Тогда вертолетов, известно, не было. Ломали-ломали головы лесник с помещиком, решили проверить по деревням всех застройщиков.
Дошла очередь и до деда.
– Лес воровал?
– Нет, покупал.
– Сколько дерев?
– Столько-то.
– Покажи бумаги.
Показал. Не сошлось – к покупному добавлено приворованного.
Сознался дед. Его и спрашивают:
– Как же ты трелевал? Ни дороги, ни тропки. И следов никаких нету.
– Так и трелевал.
– Да как – так?
– Мое, – говорит, – дело. Голь на выдумки хитра.
Помещик от любопытства помирает, пристает к деду: покажи да покажи.
– Покажу, – согласился дед, – так и быть, только просьбишка есть.
– Какая?
– Прежний грех простить да еще уступить леску на три верхних венца.
Стукнули по рукам – пошли в лес. Срубил дед сосну, отмерил от комля десять аршин, по метке верхушку отсек, цопнул на плечо готовое бревно и к дороге понес. А там его лошадка с тележным передком ждет.
Подивился помещик дедовой силе, но слово свое сдержал – разрешил срубить дюжину сосен.
И еще думаю: с чего начались несчастья? С первой девчонки или с первого пепелища?
Некого теперь порасспрашивать – старинных стариков уже нет, а нынешние родились после пожаров. Но когда еще это меня не грызло, слыхивал я разные разговоры, вплоть до такого, причем самого хожалого, что, мол, сам Огарыш и поджигал себя, когда нарождалась дочь.
И верю в это и не верю. Верю, потому что с отчаянья и на преступленье пойдешь, хотя преступники далеко не все отчаянные люди. Но представить себе то, что дед четырежды одно и то же над собой учинял, не могу. Кому ни рассказывал такое – не верят, побасенки, говорят. Конечно, у нас уже и воображенья не хватает. Мы уже не те, хитрей стали, осторожнее, трусливей, что ли. Возлюбили сытый сегодняшний день, и держимся за него до судорог обеими руками. А когда сыт, о будущей еде не думаешь. Научились все с оглядкой делать, оттого поокривели маленько, лицо вроде и вперед повернуто, а глаза-то вбок смотрят. Тут не то что повторить дедово, поверить уже нельзя.
Дед смотрел прямо и ясноглазо, наперед думал, что будет с его крестьянским делом через двадцать, а то и через полсотни лет. Парней ждал, а шли девки. Как тут не пуститься во все тяжкие!
Бабушке моей знахарки нашептывали на каком-то снадобье, она пила его и ждала мальчика. Дедушке мужики не раз говаривали, что если фуражку на голову, а топор за пояс, когда ложиться с бабой, – то быть мальчику.
В новую избу бабушка входила потяжелевшей. Но не помогали ни зелье, ни топор с фуражкой – сызнова появлялась на свет божий разорительница.
Если уж окончательно допустить, что не кто иной, как сам дед на свою избу красного петуха напускал, то все равно сомненье берет. Только ли отчаянье тут причиной? Может, зарок себе дал, может, у бога милости так просил, или верил в какую-то примету. Мне этого теперь не дано знать, о чем я жалею несказанно.
Так у нас и ведется: что имеем – не храним, потерявши – плачем. Был молод – был глуп, глупее себя, нынешнего; мог бы еще лет двадцать назад вызнать все о деде, не только разные случаи из его жизни, но и то, о чем он думал, считал ли себя счастливым. Да не хотел, не интересовался, жил сегодняшним днем, как божья птаха. Теперь вот одни кусочки, а целой картины нет и не будет.
К примеру, не могу я сказать наверняка, с каких пор за ним кличка пошла – или с пожаров, или уж позже, когда дед переехал на новое место жительства. Даже не знаю с точностью, почему он решил переехать, могу только гадать. А ведь на это надо было решиться: бросить деревню, пашню, которая кормила и стольких трудов стоила, собрать деньжонок на покупку нового участка иль в долги залезть, погрузить в телегу скарбишко, жену с четырьмя девками и – в дорогу, колдобистую да пнистую, проложенную по лесу в тот же год топором.
А дальше – все сызнова, будто не было прожитого. Но оно, никуда не денешься, было, и переживать его вдвойне тяжелей: силы короче, хвосты длинней и на душе груз горького опыта.
В наших краях в те времена было не то что нынче. Нынче ведь как?! Надо расширить запашку – вспомнили о запущенных землях, которые в отцовских руках хлеб родили да в сыновних шелепнягом поросли. Нагнали бульдозеров, поломали, повыдергивали кустарник, в придачу спланировали площадь, плуг по ней пустили. Все – принимай, колхоз, на баланс, целину подняли. Только одно невдомек, что не целина это, совсем не целина, а дедовская земля наша, одичавшая от нашей же косорукости.
На будущих своих нивах дед рубил дремучий лес, строевой пускал на жилье, чернолесье – на дрова, корчевал пни, жег суковье, золой и пеплом удобряя наши с рожденья небогатые супеси да суглинки.
Думаю, что потянула его в новые места несломленная-таки надежда на будущих наследников. Иначе зачем огород городить? Она-то ему и силы давала. Без дедовой надежды ничего бы не было: ни первой нивы, ни хутора, который со временем вырос в деревню под названьем Огарково – по дедовой, надо понимать, кличке, а кличка, если не от прежних пожаров пошла, то родилась от занятий деда на новом месте – выжиганья леса под пашню.
На хуторе Огарково дед с бабушкой произвели на свет еще четырех дочерей, но, слава богу, без пожаров. Дочь родится, изба цела – это уже не беда, а полбеды. Тут-то как раз еще одно темное место для меня – Ивана, не помнящего родства. Как все-таки одно несчастье отстало от другого? То ли понял дед, что пожаром делу не поможешь, то ли спички все на своих лесных нивах поистратил, то ли новое место уберегло от отчаянного действа? Остается гадать да сокрушаться от своего незнанья.
Но, наконец-то, сжалилась судьба и послала деду первого наследника. Сын родился, когда бабушке было уже далеконько за тридцать. Видно, к тому времени поостыла ее кровь и на этот раз, как и на последующие, не смогла перебороть дедушкину.
С тех пор дед стал чудить – запоздалое счастье с ума свело. Был он труженик из тружеников, завзятый трезвенник, как говорили старухи, заутрени не просыпал, обедни не прогуливал, вечерни не пропивал, то есть, конечно, не в церкви толокся (до церкви-то от Огаркова больше десятка верст), а на пашне да на скотном дворе в несчетных и без конца-края крестьянских своих заботишках пропадал.
А как родился Иван, отец мой, загулял дед, забражничал. Свалился однажды под застреху, а тут дождь припусти. Вымочил он деда до нитки, да заодно и отрезвил. Просыпается в луже и давай жалиться бабушке, своей Федосье:
– Фенька! А Фенька! У задницы мокренько…
Уверяли старухи, та же Ильюшиха, что, дескать, это чистейшая, как слеза, правда, что именно так, складно, и сказал. Эк его спьяну-то! Больше того, божились: мол, с того случая он и переродился, то есть сказки какие-то диковинные да складные стал рассказывать, на самодельных гуслях выучился играть, рожок с берестяным раструбом завел.
Бывало, лежит зимой на печи, вокруг него – детва, рты разинуты, а он сказки бает да струны пощипывает. А иной раз как заиграет в рог, так коровы в хлевах примутся мычать, досрочно на охожу рваться – померещится им вдруг, что середь зимы наступил святой Егорий.
Враки, сказал бы я и не стал бы такого поминать, если б сам в этом не убедился. Гусли-то его до сих пор живы, и берегу я их – единственное вещественное наследство. Хотя по деревне на чердаках много их валялось. У деда такая мода была: что ни год, то гоношить новый инструмент, а старый дарить кому-нибудь. Играть я на них не выучился, врать не стану. Не гитара ведь, совсем не знакомый для меня инструмент: десятиструнный без ладов, долбленый из цельного куска дерева, по-моему, из липы. Липа, конечно, мягка в обработке, но она глушит звук. Тут дед маленько дал маху. Потом ведь и время свое дело сделало: колки рассохлись, струны поржавели.
А отец мой умел на гуслях играть, тренькал, бывало, по праздникам. От деда отцу кое-какие сказки остались, от отца же и мне чуть-чуть перепало. Но был я мал тогда и многое не упомнил.
Конечно, не верю я в то, что с дедом могло случиться такое вдруг, в одночасье. Просто придерживал он до поры до времени все это, по крестьянским понятиям, баловство. Оно, видно, сидело в нем с рожденья, только ждало своего часа.
Ведь и ружьишко у него было, постреливал птицу и зверя еще в молодости, но опять-таки до поры до времени не давал ходу своей страсти. Зато уж с рожденьем сыновей заядлей охотника, чем Огарыш, не сыскали б во всей округе. Охота для него сделалась, как запоздалая любовь, от которой и седые головы теряют. Снег с полей долой – плуг в борозду, а Огарыш берданку на плечо и – на тетеревиные тока. Тут уж бабушка Федосья ничего поделать с ним не могла, не находилось на деда никакой оброти, из-под замка, бывало, убегал. Благо, что девки к тому времени за плуг держаться уже умели, да и пацаны помощниками росли. Такой же битвиной была для бабушки и дедова рыбалка. Бабушка и рыбы-то специально не ела, хотя дед приучал ее всячески, вплоть до того, что мелкую рыбу, жареную иль из ухи, поедал вместе с костями, отчего бабушка еще больше сердилась.
Сдается мне, что дед новое место жительства выбирал еще и с тем условием, чтоб все было рядом для охотничьего и рыболовного баловства. Конечно, выбрал как нельзя лучше. В ста шагах от Огаркова – тихая речка с утиными заводями и щучьими да окуневыми омутами. По левую руку от избы – березники да смешанный лес, в котором первейшая охота на зайцев по чернотропу, а весной – глухариные и тетеревиные тока, вальдшнеповые тяги, по правую – бор, где в прежние времена белки на ружейный ствол прыгали, дальше – болотце, тоже полнехонько всякой живности.
Рассказывали даже, что дед медвежат держал на откорме, во что я неохотно верю, хотя однажды на самом деле жил медвежонок в телячьей загородке. Деду угораздило подвалить медведицу и одного ее маленького отпрыска, а второй ни за что не хотел покидать убитую мамашу. Куда его потом, подросшего, подевали, об этом говорят по-разному, кто во что горазд, вплоть до того, что дед за тысячу рублей отдал цыганам.
С каждой новой избой отодвигался лес от Огаркова, шире становились поля, накатывались дороги в соседние деревни, в село Левочу: к женихам для моих теток, в магазин за мануфактурой, в церковь для венчанья молодых, крещенья первых дедовых внучат. А потом – на кладбище…
Деревня Огарково пережила деда Огарыша всего лишь на тридцать лет – попала под укрупненье.
Теперь мы живем а Сухолжине. Жить, конечно, стало сытней, но ленивей: газ вместо русских печей, холодильники вместо погребов, телевизоры вместо гуслей и так и далее. Но ведь и в Огаркове все б это было. А что было в Огаркове, того никогда не будет в Сухолжине.
Поля – в раме лесов, среди полей – печальный пустырь с одичалыми палисадниками и забурьяненными пепелищами. Это все, что осталось от Огаркова. Рядом с моим родовым пепелищем по осени запоздалым, огарковским пожаром пламенеет рябина. Однажды я согнал с нее незнакомого парнишку. Он не гроздья рвал – обламывал ветки, чтоб быстрей до дела.
– Дяденька! Да ведь ничейная она теперь, – слышу до сих пор его голос.
Может, и правда, ничейная она теперь?..








