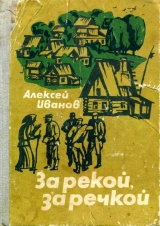
Текст книги "За рекой, за речкой"
Автор книги: Алексей Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Коряга
– Степа! Дай отгул – поросенка заколоть, – говорю недавно нашему новому бригадиру Степану Коряге. Вообще-то фамилия у него Кондратьев. Коряга – кличка. Но фамилия в ходу только в ведомости на зарплату, а так все Коряга да Коряга. И что интересно: никто, даже те, у кого язык без костей, первым его не обзывал. Сам себя Степа наградил.
А чтоб понятно всем это было, есть нуждишка начать издали, потому что, как говорится, издали и так и сяк, а вблизи – ни то ни се.
Не помню с точностью когда, помню только, что молодыми были мы еще, своим домом начинали жить, вот тогда-то и задурил Степка. Не буду, говорит, в вашем драном колхозе за палочки горб гнуть, хватит, ищите дураков.
Тогда строго было, трудно очень из колхоза уйти, до суда в иных случаях дело доходило. Однако строго не строго, а валом народ из деревни валил. Если б да кабы – ни одна б деревня не погибла. Ну, каким-то макаром и Степка устроил себе Юрьев день. Да и понятно было: детишки у него пошли один за другим, как после дождичка августовские грибы, с той лишь разницей, что грибы на сковородку да в рот, а детву кормить, одевать надо. Попробуй прокорми, если еще с постройки избы в долгах, как в шелках, а на трудодень, помню, в тот год вышло по фунту зерна. Ломил-ломил эту чертову работу, расчет подошел – отвалил тебе колхоз за годовые труды четыре мешка ржи да котомку льносемени. Хочешь – на базар излишки неси, хочешь – хлебы пеки, растягивай до новины. А тем не подспоришь, что пожиже квашню растворишь.
Куда деваться бедному Степану?
Нанялся он в Боровом, нашем райцентре, в депо, – чистить паровозные котлы.
Но из деревни не уехал. Как да куда с таким выводком? В общежитие? На столовские харчи? А тут все-таки и крыша над головой, и не какая-нибудь, а собственными руками состряпанная, и коровенка, и огородишко.
Так и остался на долгие годы Степан раскорякой: одна нога в деревне, другая – за сорок верст, вроде как в городе.
Я всегда, в особенности когда помоложе был, необтертый еще вокзалами, диву давался: как это Степан выучился каждый день такой длинный путь покрывать. Родился он, что ли, с этой выучкой?
Нам, деревенским, пуще всего в прежнее время, чтобы выбраться в Боровое, беспременно надо было с недельку-другую попереживать, а кому и пострадать душой до извода, чтоб решиться на такое важное путешествие да подготовиться к нему загодя. Для многих из нас оно было заботней, чем для какого-нибудь нынешнего дипломата перелететь океан. А и надо-то в Боровом гвоздья купить иль зуб выдернуть.
Разболелся, помню, у моей соседки, бабки Сергушихи, последний зуб. Все вывалились, и не заметила как, а этот, как дьявол наказал, болит – терпенья нет. Всей деревней уговаривали, поезжай да поезжай, бабка, в Боровскую поликлинику – враз спасут. Она – ни в какую.
А боль донимает. Что только она ни делала: и ниткой норовила выдернуть, и на святую воду нашептывала, и куриный помет клала, – все без пользы.
– Поезжай, бабка! – твердит деревня.
– Рожать таку даль не езживала, не то что…
Стала все-таки собираться. Напекла картовных колобушек, баню истопила, вымылась, во все чистое оделась, как перед смертью, деньги в носовик завязала. И угомонилась до сумерек – вставать завтра чуть свет.
– Да что ж ты не уехала-то? – спрашиваю утром.
– Проспала, кормилец.
– Во сколько ж ты встала?
– А вторые петухи уж пропели. В два часа ночи, значит.
– Так успела бы. Поезд-то в полседьмого, а до станции ходу – час-полтора.
– Да вот опоздала б…
Села она завтракать да с колобушкой вместе и зуб свой проглотила.
Зуб не работа, не каждый день болит. Каково же Степке-то было привыкать! Вставал он по деревенской нашей ответственности тоже загодя, в четыре. В шестом он уже на вокзале – самый первый пассажир. А зимы тогда были трескучие да вьюжные. Иной раз так заметет, что дороги днем с огнем не разглядишь, не то что ночью. Трактор со снегоочистителем от деревни до станции пускали по Степановым следам. Ввалится в вокзал, стряхнет с себя ледяную коросту да к печке – портянки сушить.
Смикитила вокзальная уборщица что к чему, говорит ему как-то:
– Степа! Ты бы сам и затоплял. Чего мне из-за тебя такую рань вставать? Все равно ведь сидишь, раньше поезда не уедешь.
– Ладно, тетка Маша.
– Степка! Дровец-то сам бы носил. Сарайчик ведь рядом.
– Ладно, тетка Маша. Только бересты на растопку припаси.
– Да где ж ее взять-то? Тут станция, лесу нету.
Делать нечего, ставит Степан в сумку молоко на обед, рядом цевку бересты сует.
Печку протопил, обсушился – в поезд сел, в восемь котлы чистить.
Отбухал смену, подождал поезда, в поезде – час, от станции до деревни – час, в семь дома. Отмылся от сажи, посумерничал да спать завалился – завтра вставать рано.
Мужики в деревне пошучивают.
– Вера! – теребят жену Степанову. – Успевает хоть Степка шевелить-то тебя?
Вера показывает на выводок.
– Так это ранние, колхозные еще.
– А все одно – наши, не соседовы.
За Степана брались, но с него тоже взятки гладки.
– Коряги вы все, – говорит. – Понятия о культурной жизни в вас нету.
– Как так – нету?
– Роетесь в навозе, как жуки, неба не видите.
И похвалялся:
– Я вот восемь часиков отработал – гудок. Выходные – мои, никто их у меня не возьмет. Жалованье твердое, не раз в год, а два раза в месяц, восьмого и двадцать второго числа. Производ-ство-о! – объяснял Степан и подымал к небу закопченный палец.
Тут мужики призадумывались: производство и есть производство, не то что колхоз. А Степан точку ставит:
– Не понимаете вы своей выгоды. Коряги.
Никто не обижался: ни он, ни мы. У нас в деревне среди мужиков и не принято обид. Ссор, ругани между мужиками не услышишь. Разве что на праздник, и то не ссора, а драка. Да какая такая драка, если опохмелка уже совместная, как ни в чем не бывало.
Но кличка с тех пор к Степану прилипла.
Тут и в колхозе дела пошли на поправку. Техникой всякой разживаться стали, закупочные цены подняли маленько, севооборот вроде снова зауважали после того, как поизгалялись над ним, то есть лен опять по клеверищу пошел. Деньги вместо натуроплаты начали получать.
И работать научились с прохладцей. Не беру зимнюю спячку, возьму к примеру сенокосную страду. Степан уже к Боровому подъезжает, а на деревне еще стукоток стоит – косы отбивают, ждут колхознички, когда роса спадет. Вечером Степан еще в поезде за картишками время коротает – косари уже дома, как и на сенокосе не бывали.
Давно уж Степан не похваляется, потому что у нас теперь и «прохладные люди» получают не меньше. Но – привык вроде, живет в колхозе неколхозником, так и торит по ночам дорогу на вокзал в снежный целик, в водополицу, в грязь, в темь, стужу.
А потом – обида: отрезали у Степана половину огорода.
– По какому праву? – возмущается Степан.
Бумажку ему показали, в которой написано, что производственнику и половины много.
– Чем засевать будете? – спрашивает Степан.
– Поглядим, – отвечают.
Лебедой засеяли. Пол-огорода – картошка, пол-огорода – лебеда.
– А косить-то можно?
– Нельзя.
На племя решили оставить.
Осыпалась по осени лебеда, на следующий год принялась глушить половинный Степанов картовник.
До этого случая помани Степана пальцем – вступил бы опять в колхоз. Как-никак коренной крестьянин, земле не враг да и труженик, и мастер на все руки. Степану б хорошо, колхозу б нехудо. Да лебеда виновата – заглушила его дорогу назад, к земле, в душе проросла обидой.
Дальше – больше. С покосом производственников стали зажимать. По закрайкам да по лесным полянам некошеная трава под снег уходит, а косить нельзя – чужой человек. Картошки не густо, сена – и того меньше. Нарушил Степан корову, сделался горожанином в деревне.
Чудить начал.
Иду однажды по деревне с нарядом (бригадиром я был в ту пору), смотрю: Степан на коньке хлева верхом, полкрыши уже распластал.
– Степа! Ты чего это?
– Корову сдавал – не спрашивали… А теперь любопытно стало?
– Да зачем хлев-то ломать?
– Куда он мне пустой? Возьмешь, – говорит, – под колхозный музей – слезу, так и быть.
– Тогда не слезай, – говорю. – У нас и без твоей развалюх за глаза и за уши.
Через день иду опять мимо, глядь – вместо крыши на Корягином хлеву остов колокольни стоит. Снова любопытствую.
– Да церкву хочу… Чтоб утром встал, перекрестился на маковку и – греши на здоровье.
– Степа, – говорю, – у нас – деревня, не село. Церковь не положена.
– У вас все не положено…
Вижу: с шандарахом мужик.
И чтоб вы думали – голубятню Коряга отгрохал, голубей завел. А этой птицы в нашей деревне отродясь не бывало.
Сызнова как-то мимо иду.
– Здорово, – говорю, – голубятник.
– Здоров, старушечий начальник.
– А за это, – говорю, – ответишь.
– Как?
– Наряд на сенокос дам.
– Дудки! – говорит. – Мои голуби сена не едят.
Выпустил он своих птиц, забежал в избу, вынес оттуда таз с водой и поставил его посередь двора.
– Смотри, – говорит.
– Куда смотреть?
– В таз.
– Степка! – говорю. – Ты никак и правда с прибабахом.
Степан в таз уставился, а прямо сидеть не может, то в одну сторону его скорежит, то в другую – что-то там высматривал.
– Гляди-гляди! – тянет меня за рукав. – Да не отсюда… Вот откуда!
Любопытство меня разобрало – глянул, откуда было приказано. В воде отражалось небо, а посередь его голубого кружочка трепетала крылышками маленькая птюшка.
– Никак жаворонок, – говорю.
– Сам ты жаворонок. Голубь! Мой турман!
– Да зачем же в таз-то смотреть? В небо приятней.
– Теперь глянь в небо. Увидишь его? Задрал я голову. От солнца да от напряженья – слезы из глаз, а ничего не увидел. Уставился в таз – точно, голубь в поднебесье. Эка штука!
Стоим мы со Степой на коленках, голова к голове – ни дать ни взять два дурака.
– Степка! – говорю. – Брось дурью маяться. Про наряд-то я ведь не шутя говорил. Работать в колхозе некому, а ты в своем отпуску баклуши бьешь. Помоги. Денег, сена заработаешь. По закрайкам потом еще подкосишь центнеров десять. А осенью стельную телочку с колхозного двора тебе продадим…
Я уж не за голубем, а за Степкиным отраженьем в тазу наблюдаю. Вроде бы дернулась у него физиономия.
– Это что ж, – говорит, – на поклон мне к вам идти, значит?
– Не лезь, Степа, в пузырь. Сам видишь, что я к тебе на поклон пришел, а не ты ко мне. Видишь, на коленях тебя прошу.
Тут мы и захохотали вместе над тазом-то, по воде рябь пошла. Мы ж в самом деле на коленях друг перед дружкой стоим.
– От шельма!.. От шельма… – икает Степка. – Да когда ты такой лисой сделался!..
– Побригадирь, – говорю, – за меня – враз выучишься.
Слышим, стучит кто-то по нашим горбам. Оторвались от таза – мать честная! – Вера откуда ни возьмись, растаскивать нас принялась.
– Очумела ты, что ли?.. – очнулся Степан.
Теперь Вера смехом залилась.
– Ну, Мишка… Вот окаянный-то…
– Какой Мишка?..
Выяснилось, что Мишка, соседский пацаненок, прибежал на речку, где на лавинках Вера полоскала белье. И затараторил, перепуганный: тетя Вера, беги, мол, скорей домой, там дядя Степан и дядя Саша Огарыш пьяные на коленях по двору ползают, сейчас драться начнут. Ну, Вера белье бросила да бегом разнимать…
Степан пошел голубей свистать, а я – быка за рога.
– Вера! – говорю. – Степан с завтрашнего утра на покос поедет. Согласие дал.
– Ну и слава те господи, – говорит. – Давно бы так.
– Но ты, – говорю, – потолкуй еще с ним. Он для виду упираться будет. Скажи еще, что колхозники тоже просили.
И про закрайки, и про телку, и про восстановленье огорода я ей сказал да быстрехонько смылся. Лишние слова – палки в колеса.
Тем временем у меня канитель идет – с бригадиров увольняюсь.
Председатель на одном правленье и говорит:
– Найдете, Александр Иванович, замену подходящую – отпустим. Нет – на нет и суда нет.
– Найду замену! – говорю.
– Кого же?
– Только, – говорю, – по секрету. Степана Кондратьева, то есть Корягу.
Председатель карандаш на стол выронил, загремел он на полировке.
– Вот так, – говорит, – у нас и ведется: на княжество приглашаем из варягов. Своих князей нету.
– Да какой, – говорю, – он варяг?! Он наш, крестьянин. А из колхоза ушел от горя. И вернуться готов почти что.
– Поживем – увидим. Работайте, Александр Иванович, – сказал мне председатель.
Ну, а как я Степана уговорил – это уж мой секрет. Скажу только, что после того правленья перед тем, как на переговоры к Степану идти, я в магазин завернул да взял там товару повседневного спроса. За ним легче по душам говорить, а тут – или по душам, или вообще никак.
Осенью уже на первом бригадном собрании Степан переволновался и сказал:
– А кто меня Корягой назовет, того буду штрафовать. Как за потраву общественных угодий.
Вся бригада – впокатущую.
Напрасно сказал – только масла в огонь подлил. По мне так пускай бы звали: Коряга ли, Огарыш – чем плохо-то? Я уж и расписываться прозвищем готов, до того привык – фамилии не надо…
…Так вот, говорю Коряге:
– Степа! Дай отгул – поросенка заколоть.
Поговорили мы с ним, поговорили, а отгула не дал. И я совсем уж согласился, что поросенок до воскресенья подождет, только вот с резчиком, Борисом Ивановичем, сызнова надо договариваться. Ну да ничего, Степан сказал, что так для бригады будет лучше.
А что ни говори – хороший мужик Степан и не в пример мне на своем месте. Только вот беда какая: не землю слушает, а телефонные гудки. Видно, еще из него производство не выветрилось.
За Чертовым садом – березовый полдень
Позапрошлым летом подфартило мне на дальнем покосе одному пожить. Не было бы счастья, да несчастье помогло, то есть ссора с председателем. Перекинулся я с ним на тему гибели наших колхозных угодий. Он говорит: нам бы хоть клевера выкосить успеть. А я говорю, что и естественные покосы забывать нельзя – там не сеяно, само родило, только приди и возьми. Это начало.
А конец тот, что он меня, мягко говоря, норовистой пристяжной обозвал, я его – подслеповатым мерином-коренником.
Когда оба поостыли маленько, он мне и говорит:
– Слова круглые, дела – квадратные. Слова-то мы все умеем катать.
– А я, – говорю, – и дело катывал. Давай Кривое колено выкошу, пока оно совсем шелепнягом не заросло. На том покосе бабушка моего батьку родила. И меня туда в люльке носили – не с кем было дома оставить.
– Раз, – говорит, – там и роддом, и ясли твои – коси. Исполу! Половина сена – колхозу, другая – твоя. Только подмоги не жди.
– Перебьюсь, – отвечаю. А сам рад-радешенек – надо, думаю, этому варягу доказать, что я вовсе не пристяжная кобыла, а если и пристяжная, то дорогу-то, один черт, знаю не хуже коренника.
Пока шел от правления домой, голову ломал: как добираться до Кривого колена. На мотоцикле не проедешь, потому что на полпути к покосу есть гиблое место – Чертов сад. Пешком ходить? Десять с гаком верст туда да столько же обратно. И ноги по колено сносишь, и росу прозеваешь. А мотоцикл туда обязательно переправить надо – копны к остожью возить.
«Урал» – мотоцикл чертоломный, мы на нем с Сережкой огород пашем. Сережка – за рулем, я, – за плугом вдогонку. Думал я еще, грешным делом, косилку к нему привесить, да канители много – вал отбора мощности подавай. Так что это дело оставил на будущие времена.
И вдруг меня осенило: взять на покос мотоцикл вместе с гаражом! А что! Гараж у меня аккуратный, размером два с половиной метра на три с половиной. Костьё, то есть каркас, из деревянного бруса, сверху и снизу поставлено в шип, везде в распорках, обшито широченным тесом внакрой, потолок – байдак, пол – байдак, крыша шиферная двускатная, дверь внешняя двустворчатая и внутренняя – сетка от комаров, окошко хоть и не итальянское, но распашное. А внутри по стенам стеллажи для инструмента и запчастей, верстачок имеется с тисочками и наковаленкой, у торцевой стены – откидной топчан на случай домашнего скандала. Правда, пользоваться им ни разу не пришлось, ну да ведь не жалеть же об этом. Зато сейчас очень даже пригодится.
Наново и, как всегда, втихомолку погордился я своим рукомеслом да принялся за дело. Вывесил гараж, трактором подвел под него зимние сани с толстенными бревнами вместо полозьев, опустил на них свою постройку и скобами закрепил.
Пока Лиза, жена моя, брюзжала на мою затею да между этим делом собирала харчи, я уже и сенокосный инструмент приготовил.
Права, конечно, Лиза отчасти: блажь какая-то на меня нашла. Бабы ведь трезвее нашего на все смотрят. Зачем, дескать, тебе этот заброшенный покос? Пуп надорвешь, а сена не возьмешь. Да и что это за сумасбродство – гараж куда-то тащить, последняя собака и та смеяться будет.
– Это, – говорю, – мой родовой покос. Как понять не можешь?!
– Сережка наш в больнице родился, да ведь не больно-то тебя тянет туда. Разве что когда радикулит согнет.
– Больница – не покос, – говорю. – Там все теперь родятся.
– Вот дам с собой одной картошки – быстро слиняешь.
А сам вижу, что в мешке уже и лучок, и сальце, и консервы, и прочий продукт.
Блажь блажью, а давно у меня так дело не спорилось и такие придумки в башке не жили. Все решилось и сделалось в полдня. Пообедал дома, а чай оставил на дорогу.
Подцепил меня Колушкин своим гусеничным трактором, кивает мне: иди, мол, в кабину.
– Нет, – говорю, – мне и в гараже нехудо.
– Развалится на первом нырке да тебя придавит.
– Развалится – туда и дорога. Значит, никудышный я плотник.
Сначала-то я – трусцой за караваном, смотрел, как и что. Покряхтел гараж маленько на повороте, похрустел суставами в яме за колхозным двором, а так ничего идет, только дымок из-под полозьев от большого трения да куделя горячей дресвы на встречных камушках.
Запрыгнул я в свой походный домишко. Стал чаек попивать да в окошко, как в телевизор, поглядывать. Только разве сравнишь с телевизором то, что плывет за окном?! За окном – бор: горячие медные струи текут из нависших зеленых туч, ударяют о землю, озаряют медным светом голые застланные иголками бугры, уходят в белые ломкие мхи, растекаясь и застывая в подземелье густым узорочьем корней. То тут, то там средь сосняка замерли зеленые взрывы кустов можжевельника, изредка за истончившейся стеной бора сквозили дальние поля и березники, курчавые ивняки пожен – где-то вилась речка.
Дальше пошли низинные влажно-зеленые мхи, к сосняку кое-где присоседились корявые березки, а потом, сразу за высохшим ручьем, укрытым по всей пойме густым папоротником, вытянулись березники и только кое-где темными латками на белом полотне выделялись случайно прижившиеся сосенки.
Еду в своей избе по лесу, смотрю в окошко и сам удивляюсь своей блаженности. Будто я глаза разул и в первый раз увидел все это, хотя ездил и ходил этими местами десятки раз и хвалился даже кому-нибудь, что вот, дескать, в Житном бору корзинку белых наломал или что в Завражном березнике надрал лыка на дюжину лукошек.
А потом потемнело в избе, как в сумерки, – над дорогой навис с двух сторон и сомкнулся еловый лапник, санный след заглянцевел проутюженной жирной грязью. Картина тут диковатая, даже страшная для непривычного человека. На живых деревьях висят дряхлеющие сухостоины, убитые грозой иль жучком-короедом. А ветролома, валежника! Толстенные ели, наваленные друг на друга, поднятые вывороченными корнями глыбы земли в ошметках сгнившего мха, кругом глупый, жадный до сырости олешник, изголодавшийся по солнцу, гниющий на корню…
Чертов сад – другого названия нету.
На первой передаче, но на полном газу миновали мы топкое место, а там снова разъяснело – вернулся березовый полдень. Так и светил он мне все время, которое я пробыл на покосе.
В тот же вечер обошел я все Кривое колено. Трава была высокой, густой. Косить такую – подавай бог косарю силенку, да еще будет цепляться за косу трава прошлых лет. Ее не косили, она сохла на корню, гнила, но еще держалась за землю, прячась в молодой траве. Поляны заметно сузились, со всех сторон, от леса и даже от реки, на них нахальной стеной шел густой подшерсток ивняка и олешника, кое-где взбухли кусты и на самих полянах. Года три назад не стоило труда смахнуть их косой, но коса в колхозе стала ленивой, теперь в пору размахивать топором. Да и топор разучились в руках держать – ждут, видно, сразу бульдозера.
Мне можно было пройти напрямик, туда и обратно, так вышло б быстрее, да и травы меньше б помял. А ноги мои все чего-то искали, топтались, носили меня то туда, то сюда, поперек маршруту, и я сначала вроде бы и не задумывался, отчего это, дескать, меня нелегкая носит. А потом, когда сказал сам себе, что вот здесь где-то были две старые кротовьи кучи, не кучи уже, а два утоптанных пятачка голой земли, и что трава вокруг них выкашивалась не так плотно, как на ровном месте, потому что боялись затупить косу о землю, я с запозданьем понял: я ищу тропу, которая вилась вдоль всего покоса и которую, может, еще дед мой натаптывал. Дошло до меня как-то вдруг, неожиданно совсем, что мне нужна вовсе не та тропа, по которой угол можно срезать, мне нужна тропа-воспоминание. И как только это дошло до меня, так наступило объяснение всему нынешнему моему дню.
Был еще длинный вечер с ясным закатом, пообещавшим назавтра вёдро, с туманом над рекой и в низинных пожнях. Потом пришли сумерки – июньский сторож от заката и до рассвета.
Вставать завтра вместе с солнышком, а сна – ни в одном глазу. Пощипывало в носу от запаха бензина – я поднялся и выкатил из избушки мотоцикл. Пока выкатывал, напустил комаров и пришлось бороться с ними до тех пор, как не ухлопал последнего.
Но не спалось по-прежнему. Насильно закрывал глаза и, теперь уж помимо воли, разглядывал во тьме под веками разную чертовщину, виденную наяву часом-двумя раньше. То видел, как по дверной сетке вверх муравей прет мертвого слепня. Муравей радехонек, что такой добычливый, что силы еще молодые (и не такие, мол, ноши на́шивал) и что в сетку – не в стекло, слава богу, – удобно упираться лапами. Он видит волю за сеткой: траву, как лес, дорожки в траве, на них – братьев и всякую свою родню, может, слышит даже их топот, ног-то у них – батюшки святы! Он надеется там, вверху, где кончается сетка, найти выход на волю, к своему муравейнику. Но выхода нет, потому что сетка натянута на рамку, а рамка плотно прилажена к дверным косякам. Муравей не знает об этом и, конечно, счастлив и надеется на скорую похвалу главного муравья…
То видел себя со стороны, как я сумерничал у костра и удивлялся ярости огня. Сколько света, жара, шума! А от чего? От какой-то маленькой спички-замухрышки, слабенького язычка пламени. От чего пламя у спички, до меня еще доходит: трение, резкое нагревание и – вспышка. А что такое огонь в костре: пламя в метр, треск, жара, – убей бог, не пойму. Со школы еще помню: горение – это процесс окисления. Тогда было понятно, не удивлялся. Повзрослел – стал дураком.
А завтра – косьба. Поднажму, думаю, дня три и, если погода даст, загребу кошенину в валки, в валках повялится часа три-четыре – сложу в копны. Вечером сбегаю в деревню. Сережку прихвачу с собой, он к тому времени из пионерлагеря вернется. Хоть и невелика еще от него помощь, но на стогу стоять – гож, да и на мотоцикле пускай потрясется, копны повозит – это ему в охотку.
Поскребывали еще в голове всякие мысли-загогулинки насчет того, как прицеплять к мотоциклу волокуши, чтоб трелевать сено на малом газу… Потом представилась мне копна духмяной кошенины, ползущая за мотоциклом, я видел, как подкрадываюсь к ней, падаю в зеленую шуршащую благодать, долго падаю и до самого дна, пока не напоторчился на острый сучок волокуши. Тут я вскрикиваю и разжмуриваю глаза: будто бы вижу за столом на веранде трех здоровенных парней. Лиза ставит на стол кастрюлю тушеной картошки. От картошки такой пар по всей веранде, что я его спервоначалу принял за туман.
– А это, – спрашиваю Лизу на ухо, – что за гости?
– Совсем мужик спятил, – громко говорит Лиза. – Сыновей своих гостями звать стал.
Мне хоть сквозь землю провалиться – до того стыдно перед этими парнями: вдруг и правда мои сыновья, а я их не признал. Не допускал я еще такой оплошки.
Но – сомненье берет.
– Лизавета! – строго говорю ей. – Они что? Скрытое приданое твое?
– Если б приданое, так на тебя б, дурака, не смахивали.
Пригляделся – точно! Все черти шляпоносые. Мои, значит.
Да когда же они могли появиться-то? Есть у нас один, Сережка, сопляк еще, так я его уже пятнадцать лет знаю. Этим лбам не меньше двадцати каждому, а первый раз вижу. Отчего же Лиза-то скрывала?!
А тут смотрю – три руки ко мне с рюмками тянутся и говорят парни в один голос:
– Давай, отец, выпьем за новый трактор.
Отцом назвали, значит, взаболь сыновья – не подделка.
– Мы, – говорю на всякий случай, – еще и старый не обмывали. Что за трактор-то? Чей?..
По-моему, мы и не выпили, и картошки не попробовали. Зря Лиза старалась.
Сидим будто уже на каком-то высоченном балконе, я головой верчу, глазам своим не верю. Внизу, под нами, – поля, похоже, что огарковские, но до того аккуратные, будто нарисованы. Разлинеены они тропками или канавками на одинаковые делянки, по три-четыре гектара каждая. На одной делянке красный цвет по зеленому полю – клевер цветет, другая – голубая и зеленая, словно небо рассыпалось по полю, – лен, значит. На третьей – жито, дальше – картошка, еще дальше – чистые пары́, по другую сторону – охожа, и гуляют по ней гладкие чистые коровы.
Ничего подобного в жизни своей не видывал!
Вдруг выскакивает к охоже красный тракторенок, маленький, юркий, со стеклянным колпаком вместо кабины. Бурит ямку, захватывает клещами столб, опускает в яму, пришлепывает еще его сверху железной культей. Ставит второй, третий, десятый столб. Глядь – уж на столбах проволока-«пастух» натянута. Коровы и заметить не успели, как очутились на огороженном выпасе.
Тут от тракторенка сам по себе отцепляется ямобур, навешивается косилка и – пошел клевер косить.
– Стой, – кричу. – Стой! Это семенной клевер. Не губи!
– Да что ты как блажной! – одергивает меня Лиза. – Глянь на поле-то…
Глянул: поле уже бурое. Когда только головки дозреть успели?!
А тракторенок тем временем успел косилку на жатку сменить и уже поле жита ополовинил.
Тут я смолчал: все равно ведь зерно не на семена – фураж. Так что и недозрелое пойдет в ход.
А дальше и во сне такое не всякий увидит. Как могло только мне присниться?! Тракторенок снопы вяжет, суслоны ставит. Потом взялся за лен. И тоже – не расстил на голую землю, а снопы и суслоны!
– Универсальный, – говорят сыновья. – Сорок навесных орудий. Все умеет делать.
– Ну, – говорю, – подфартило колхозу.
– А он, – отвечают, – не колхозный вовсе.
– Чей же?
– Наш.
– А поля чьи же?
– Наши. Аренда у колхоза на пятьдесят лет. А там твои внуки продлят срок.
– Ох, ребята, раскулачат нас.
– За что? – удивляются они.
– За все!
– Мы своим трудом живем, – и руки мне показывают.
Ничего, думаю, руки – наши, крестьянские.
– Будете, – говорю, – жениться, каждый свою долю запросит. Что тогда?
– Мы домой приведем, – отвечают единым голосом. – Места всем хватит.
Оглядел я постройку – хоро́м таких отродясь не видал.
– Страшно, – говорю, – ребята. Откуда вы взялись только?
– Да мы ж дети твои! – рявкнули они так, то у меня искры из глаз. Я зажмурился еще сильнее…
И проснулся от яркого света.
Солнышко сквозь окно светило мне прямо в глаза. Я вскочил, как ошпаренный, – проспал ведь самолучшую зоревую росу.
А пока я косил утреннюю упряжку, сон этот меня никак не хотел отпускать. Жалел я очень, что не успел ребят толком расспросить, как и что. Жалел и о том, что не все запомнил, что сон так быстро снился. А еще мне жалковато стало и самих ребят. Ведь попивают, видно, ребята, если трактор хотели обмыть, а у них таких обнов много было: и дом, и элитные семена, и налаженный севооборот, и породистые коровы, и всякая другая всячина, не говорю уж о начальном – о договоре с колхозом. Одному председателю сколько водки надо было перепоить, да и сами, пожалуй, были не в стороне. Так и спиться недолго.
Потом еще больше на меня волнение навалилось. Три сына – хорошо, конечно, и уж совсем неплохо, что все уже взрослые, работники, рассудительные ребята и хозяева. Но ведь сон это, всего-навсего сон…
И вдруг вспомнил я, что сегодня четверг и что сны на четверг сбываются. Тут и коса выпала из рук. До работы ль сейчас, когда такие события в твоей личной жизни!
Маханул я домой. Допрошу, думаю, Лизу, может, правда решилась она и понесла на сороковом своем годке.
Да зря бегал. Сон, хоть и на четверг, оказался не вещим…
А Кривое колено я подвалил за четыре дня. На третий четверг мы с Сережкой сметали последний, седьмой стог.
Осенью на общеколхозном собрании председатель дал мне конверт с премией, и я решил-таки на эти деньжонки приспособить к своему «Уралу» вал отбора мощности.








