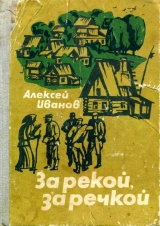
Текст книги "За рекой, за речкой"
Автор книги: Алексей Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
Митька
Сплю на веранде, вдруг – хрясь, звень, и стекла на одеяло посыпались. Выскочил на улицу, хвать-похвать – никого. Только на тропке что-то под луной блестит. Подошел, нагнулся – вельветовый полуботинок с железной застежкой. Потерял его бедолага налетчик, да где уж тут искать – скорей пятки смазывать. Знакомая обувь, но чья именно, попробуй определи, коль полдеревни в таких вельветках ходит.
Ладно, думаю, сердчишко уймешь, вернешься за потерей – какая ни есть, а улика.
Прошел я подальше от избы по тропочке, притаился за кустом, жду. Точно: кто-то крадется вдоль забора. Остановился в трех шагах от меня, я его вижу, он меня – нет. Левая нога в одном носке, а трезвый.
– Митька! Зачем по росе босиком ходишь? На – обуйся, – и полуботинок ему протянул.
Он как порскнет от меня, только пыль столбом.
Это внук Бориса Ивановича непутевый отомстил мне за то, что я своего теленка Митькой назвал. Чует кошка, чье мясо съела.
Воспитателей у Митьки!.. Своих только, кровных: дедко, бабка, матка, батько да теперь еще и собственная его жена. Ну, у семи нянек дитя без глазу – так оно и вышло.
– Димочка! – говорили ему няньки после свадьбы. – Теперь ты своим домом жить будешь, сам себе хозяин, так что мы тебе больше не помощники.
Да пьяному, наверно, говорили. В первую весну Митька и картошки не посадил, огород – тридцать соток. – под паром гулял. Осенью увез от стариков машину дармовой бульбы да поморозил ее в своем подвале, видно, избу топить некогда было. На второй год зацвела лебеда в Митькином огороде. Не выдержал Борис Иванович, побежал к молодым. А внук посередь избы пьяненьким лежит.
– Ты почему на работу не ходишь?
– Женка декретные получила.
– Картошку кто за тебя сажать будет?
– Семян нету.
Запряг Борис Иванович лошадку да огород внуков вспахал. Налетели следом бабка, матка, батько с корзинами семенной картошки и засадили чадушкин огород.
Кончились декретные – сотворил что-то Митька, задал и милиционеру работы. Бегал куда-то Борис Иванович с мешком на горбе – спас-таки внука, да на свою опять сивую голову.
Помню: Димочка маленьким еще совсем был, волоски, как ленок, до того мягкие, что рука сама тянулась погладить их. Погладил как-то да конфетку дал. Он зажал ее в кулачишке, набычился ни с того ни с сего и сказал хриплым басенком:
– Мне мно-ого на-адо.
Смешно тогда было, но и только; теперь вот удивляйся Митькиным аппетитам.
А теленком моя корова Верба разрешилась поздним, майским, когда стадо уже на охоже паслось. И был он без хвоста. Не так, чтобы напрочь без хвоста, – лягался сзади маленький обрубочек со средний палец длиной. Но это ж разве хвост! Он ведь и не вырос нисколько.
У меня и сейчас ум враскорячку. Пятый червонец разменял – все в деревне, без вылаза почти что, со скотиной какой год дело имею, но такого чуда не видывал.
Лизе, жене моей, надоел расспросами.
– Может, – говорю, – оторвали его?
– Да что ты мелешь! – так Лиза сердится у меня всегда.
– А что! При отеле все ведь может быть в спешке-то – лишь бы корове помочь, чтоб скорей облегченье.
– Что я, слепая! Не вижу за что тащить? Дурень. Он головкой вперед идет.
Значит, не инвалид. Таким уродился.
И назвал я его Митькой.
Не знаю как где, а у нас из домашних животных только птица кличками обойдена. Ярочек, телят, козлят, поросяток, – всех поименно зовем с самого рожденья. Так что ничего тут особенного нет – теленка Митькой нарек. Мог бы и Васькой, к примеру, назвать, это ж не значит, что Васьки со всей деревни должны сбежаться стекла бить.
Да и черт с ними, со стеклами. Митька сам себя на смех поднял – хуже позора нету. Мне это не в убыток. Митька-теленок мне куда как больше задал мороки.
Первые дни мы Вербу одну на охожу выпускали. Жалко было Митьку – мал да несмышлен, боднут или лягнут невзначай, много ль ему, сопливому, надо. Гольное молоко ему в ведре носим, утрами я с косой по закрайкам бегаю, траву послаще гуменной корзиной ношу – позднышок как-никак, поберечь надо. А он недоволен, орет в хлеве благим матом – по матери, видно, скучает. И Верба невеселая на охоже.
Делать нечего, отпросился я с работы на три дня, стал Митьку к стаду приучать.
Битвина одна – не пастушня. Отстанет от матери, лезет к другой корове, думает, что все тут для него матки. А та махнет рогом, он с копыт долой. Ревет, бывало, слезы градинами из глаз катятся. Прямо хоть на руки его бери.
Но шкодлив, паразит. Только отвернулся – он уже Вербу сосет. Не отгонишь, так опорожнит вымя в минуту.
Три дня прошло – толку никакого.
Решил я рогатку ему на морду повесить. Вырезал кусок из велосипедной покрышки, навтыкал в него гвоздья-пятидесятки, завернул колесом и концы прошил. Надел я это колесо, шипами наружу, на Митькину морду, а чтобы не сваливалось, ремешками к ушам привязал. Вид, конечно, у него страхолюдным сделался теперь не только сзади, но и спереди. А не в том горе. Вернулись с охожи Верба с Митькой – оба инвалиды. У нее вымя в крови, он хромает.
Пришлось гвоздики позатупить, чтобы снова Вербу не поранил. Сосать, паразит, стал. Я снова позаточил. А он и вовсе рогатку скинул со своей блудливой морды. Пастухи рассказывали: выискал дерево с обломанным коротким суком, зацепил за него ремешок и головой мотнул что есть силы. Рогатка на одном ухе повисла, он взлягнул задом на радостях и сразу под Вербу.
Рогаток этих штук пять за лето переделал, каждый раз новой конструкции. Последняя-то вроде бы доконала Митьку, отвык-таки блудить. Поверил я, дурачок, ему, освободил от намордника, а он, бугаина, только этого и ждал – возьми да опять Вербу высоси.
Тут, слава богу, и лету конец. Отмучились мы с бесхвостым, решили государству на мясо сдать.
Ну и повели мы его на приемный пункт. Я – за веревку, Сережка, сын, – с ведерком пойла для приманки. Все вперед Митька бежал, пока питье было. А как ведро опорожнил, да поезд вдруг на станции укнул – подкинул Митька свой бесхвостый зад, взмыкнул – и к дому со всей своей дармовой силы. Тащит он меня на веревке – не поймешь, кто кого на убой приготовил, – да так раскочегарил, что я уж и ноги переставлять не успеваю. Как назло, корень чертов на дороге вывернул, я запнулся за него да и грохнулся наземь со всего лету. Митька меня волоком-волоком, за мной вспаханная борозда пошла, плечо и бок от тренья раскалились, жжет – спасу нет. И от людей стыдоба, опозорил на всю окружность. Так бы до дома и доволок мое тело, если б не сосна на нашем маршруте. Захлестнул я обрывок на стволе, тут и дух перевел. Смотрит Митька на меня бесстыжими глазами да мычит на всю дурягу, дескать, пойла за работу давай. Отстегал бы его всласть, но побоялся – тогда совсем выйдет из управленья.
Насилу доволокли мы его до приемного пункта. А тут опять загвоздка.
– Бракованный, – сказал приемщик, когда глянул на Митькино заднее место.
– Да как так – бракованный! – удивляюсь. – Просто хвост маленько покороче.
– Это, – говорит, – я и имел в виду.
– В нем, – говорю, – живого весу меньше, зато убойного больше. Хвост-то уже не надо отрезать да выбрасывать.
– Бракованный! – уперся приемщик.
И я не сдаюсь.
– Гражданин! Ослободите территорию от своего инвалида.
Вот так раз – гражданином уже стал, будто не знает, как меня зовут.
Пришлось бутылку приемщику ставить, – хвост Митьке приделывать. Бесхвостый он, оказывается, и государству не нужен.
Наконец-то завели Митьку в загородку, где сданные телята стоят. Он там и пошел шуровать: одного лягнул, другого рогом в бок, тот только вякнул – все никак не устроится. А сам гладкий, справный такой напротив других телят, хоть на племя пускай, не гляди, что без хвоста. И жалко мне вдруг стало Митьку – под нож ведь уготовлен. Впору забирать его назад. Да уж на попятную не пойдешь – бутылка выпита и квитанция в кармане.
За рекой, за речкой
Получил я письмо, толстенное, с приклеенной желтенькой открыткой. Почтариха заставила меня расписаться, а открытку оторвала и в сумку себе положила.
– Открытку-то тоже давай. Мне ведь пришла.
– Нет, – говорит. – Это отправителю, чтоб у него душа на месте была. Важное письмо, значит.
Ни разу такой оказии не получал. Да и почерк незнакомый, гладкий такой да круглый. Адреса, откуда пришло, тоже не знаю. А вместо фамилии прозвище мое написано: Огарышу А. И.
Бросил я колун в чураки – дрова к тому времени колол – да быстрей в избу, письмо читать.
«Здравствуй, дорогой Александр Иванович!
Никогда тебе не писывала, даже когда по молодости мы с тобой любовь крутили, все устно обходились, да вот заставила нужда.
А и писем писать некогда. Последний год на заводе тружусь, на пенсию собираюсь уходить. А чтоб пенсия побольше вышла, вкалываю, как каторжная. Станочников у нас не хватает, ну, мастер и говорит, особенно в конце месяца: поработай, мол, Капитолина Алексеевна, и во вторую, горит план синим огнем, а работать некому. Вот я и вечерую в цеху, а когда выхожу во вторую, так приезжаю пораньше, до обеда еще. Меня, правда, и просить не надо – деньги-то край как нужны, да виду не подаю, потяну с ответом-то. Конечно, косых взглядов из-за соседних станков хватает, не без этого: ей, мол, больше всех надо, через нее, мол, расценки резанут или норму повысят. А деваться мне некуда. Благо, что заработки ничего, и у начальства на хорошем счете.
А Вася у меня инженером бюро в соседнем цеху, ты, наверно, знаешь, приезжали когда, так говорили. Жалованье у него поменьше моего, но и он старается. По вечерам да в выходные он с одной компанией по новым квартирам ходит – полы паркетные умеет циклевать, двери кожей или дерматином обивать, замки врезать. Так что в общем и у него ничего выходит.
Справили мы Олежке, он второй год как женат, кооперативную квартиру, на машину ноль-одиннадцатую, это, чтоб ты знал, «Жигуленок» такой, записались. Да черт тут нам карты спутал. Очередь подходит – вдруг подорожанье. У нас и не хватает. Подумали дачу продать, да жалко стало. Она от города полчаса электричкой, под боком, можно сказать, не то что наша с тобой деревня. А уж обласкана-то она у нас, обшита, покрашена в разные цвета ацетоновой краской с лаком, под которой не то что дерево – железо даже не ржавеет, мебель хорошая, не так, как на соседних дачах старье, какое стыдно стало в квартире держать, а сад – и яблони, и вишня, вместе восемнадцать деревьев, и малина, смородина, кружовник, дорожки гравером посыпаны. Жалко, одним словом, столько в нее всего вбухано.
Вот и решили мы с Васей продать мамынькину избу, а ехать-то в деревню недосуг ни мне, ни ему, о чем я уже сообщала во первых строках своего письма. Поэтому, Александр Иванович, обращаюсь к тебе по великому делу, и Вася тебя тоже христом-богом просит – продай ты поскорее нашу избу, хоть, на худой конец, колхозу на дрова для водогрейки. Сам знаешь, что на жилье ее никто не возьмет, начни разбирать, так и рассыплется, ведь ее батько еще до войны рубил, в первый год, как они с мамынькой сошлись. А на дрова очень даже сгодится. Но ты покупателю так не говори, это между нами, говори, что изба ничего еще, крепкая, вдруг кто и купит, если решит перевезти да подрубить нижних ряда два-три. Так что если рублей 200—300 дадут, и то для нас как найдено.
На тебя, Саша, я надеюсь, как на брата родного, и прошу тебя, молодостью нашей прошедшей заклинаю и всем тем, что промеж нас тогда светлого было. Продай повыгодней, разбейся в лепешку, но продай. Ты человек с опытом в этих делах. Как и во всех прочиих.
Ты, наверно, удивишься такому нашему решенью, скажешь, небось, родной угол разоряют. Сам посуди – теперь уж он нам ни к чему. Вася с Олежкой к нему совсем не привыкшие, я полжизни в городе отжила, тоже удобства уважаю, а с мамыньки спрос невелик, голова совсем худая стала, бывает и щи посолить забудет, а то, наоборот, посолит два раза подряд. А правнучка своего, моего внучка, я ведь теперь бабушка, нянчит, так того и гляди выронит, рученьки-то совсем уж, как грабли, нету гибкости да нежности. Но обижать мы ее не обижаем. Одета-обута, с моего плеча чего только у ней не наперешивано. Пенсию ее колхозную мы не трогаем, кладет на книжку, на смертыньку свою. Правда, на машину когда собирали, она помогла нам. Ну ведь это, конечно, с отдачей. А головой, точно, плоха, все и говорит, что помирать в свой угол поеду, боится, что сожгут здесь в этом, как она говорит, климатории, а там в родну земельку положат. Сама ведь, наверно, понимает, что это старушечьи бредни, одну мы ее не отпустим, боязно, а везти ее опять же некому.
Так что не нужна нам теперь эта развалюха. А стоять ей без толку – только деревенский ваш вид портить, пускай хоть в остатний раз какой-никакой доходишко принесет.
Ну, Саша, договорились мы с тобой? Договорились!
Горячий привет от мамыньки, Васи, Олежки, супруги его и сына маленького Андрюши. Привет Елизавете Васильевне.
А помнишь, как мы тебя дразнили, когда ты еще маленьким был?
Александр Иваныч,
Скинь порточки на ночь.
Ты в рев или драться, а мы, большухи, хохотать. Что взять было с глупых?
Ну, все. Остаюсь твоя Лина.
Дай телеграмму, если что такое».
Хм, думаю, «твоя Лина». Какая Лина, когда Капка. Ишь, как заигрывает перед пенсией-то: «Что промеж нас светлого было». А что было? Ей – двадцать шесть, мне – семнадцать. Помню только, что мягкая такая вся была, не гляди, что выросла на картовных лепешках – после войны ведь дело было.
Она-то сразу все вспомнила, как нужен ей стал, одно только забыла – мою фамилию. А может, и не знала. В нашей деревне фамилии не в ходу, все больше клички да прозвища: Сергушиха там, Калиниха, Скобариха, Федиха – по именам или прозвищам мужей, а у мужиков и того пуще: Витя Неболтай, Серега Кастрюля, Сеня Трактор, Ванька Полоз.
Капку я сразу разлюбил, как она из города в первый свой отпуск приехала. Уехала-то в одной выгоревшей на горбу жакетке и с говором нашим, въедливым в язык – чово да куды, поевши да не жравши, – а вернулась через год расфуфыренная, говорит на «а», брезгливая к деревне, на нас, кто здесь на крестьянской работе остался, смотрит генеральшей. Когда поукатали годы маленько, стала помягче и поприветливей ко всему сельскому, но тут уж опять от лукавого, игра в простоту, дескать, не глядите, что я городская, а вы деревенские, я и с вами обхожденье знаю.
Удивлялся я, конечно. Ладно бы хоть большим человеком стала, высшее образованье получила, тогда уж куда ни шло. А то ведь, как и мы, недоучки да замухрышки, ломит черную работу. Мы в навозе, бывает, ходим, она в мазуте. У нас пополам, у нее надвое – вот и вся разница.
Маленько простительно было для нее то, что не она одна несла себя так высоко. Тогда ведь из деревни в город молодежь валом повалила жизнь посытней да покультурней искать: кто в няньки или в домработницы, кто в ФЗО или на стройку.
Бывало, уезжает парень в город бабьим летом – собачий треух на голове, через месяц вернулся за справкой из колхоза – в шляпе, купил ее на последние гроши, а то и в долг. А шляпа в то время о многом говорила, да если еще нос держать выше полей – не подходи, кто в куфайке…
Капке я теперь не судья. Задумала избу продать – ее дело. Мое дело – пособить, коль просит.
С тем я и к бригадиру пошел.
Прочитал Степан письмо, обрадовался.
– А я, – говорит, – голову ломаю, чем иных мужиков после уборочной занять, от пьянства оградить. Не сочинять же работу-то?! А тут на неделю троим-четверым упираться: раскатать по бревенышку, распилить, перевезти, соштабелевать. Неделей-то, пожалуй, и не управишься.
– Ишь, – говорю, – скорый какой – раскатать. Может, ее в частные руки кому продать.
Степан усмехнулся только.
Идем мы избу смотреть, мимо магазина, а там, прямо на приступочке, Савося да дед Тишка кое над чем мурлычут.
– Пошли, мужики, наряд получать.
– С вечера не принимаем. Токо с утра, – буркнул Савося и опять за свое занятье.
Обсказали мы, в чем дело.
– Помирает, значит, Матрена, – вывел дед Тишка, а сам поблек как-то весь. – Моя ровесница.
– Небось шурымурил, – хохотнул Савося. – Дедко! Бойкий на ногу был когда-то? А?
Дед Тишка мимо ушей пропустил, не отбрил Савосю, как всегда бывало.
– Да-а-а… И работящая была бабенка, не гляди, што росточком не особо вышла. «Меня, говорит, в квасном горшке поп крестил, оттого и маленькая». А в войну, было дело, коренной в плуге хаживала. Наряд даешь – у кого грызь, у кого другое. Кто в быки-коренники? Мотька. На себе ведь пахали. Все тягло фронт съел…
– Ты о деле говори, – перебил Савося. – Даешь, бригадир, аккорд? Сотню на рыло. За сколько дней раскатаем – наша забота, не твоя.
– Золотые дрова станут, – сказал Степан.
Правильно сказал, надо ведь еще и хозяевам рублей 250.
Но у Савоси зуб загорелся, руки зачесались, стал он расписывать, сколько много будет возни. Решили сходить все вместе, у избы уж и о цене договориться.
На лавинках через речку нашу носом к носу столкнулись с бабкой Ильюшихой.
– Кудай-то? – спрашивает.
– Бабке Матрене дворец рубить, – не лезет в карман за словом Савося. – Пишет, чтоб к весне готов был, надоело, мол, по летам в развалюхе жить.
– Вот и правельно, детушки, – одобрила Ильюшиха. – Давно бы так. Дочка-то, наверно, денег прислала?
– Прислала, бабка, прислала. Целу тыщу, – врет Савося. – Пишет: мало, дак еще тыщонку переправлю. Телеграфом, по проводам.
– Ну и слава те господи! – крестится сухоньким своим мослом Ильюшиха. – Рада я за Матрену, товарку мою. Так уж рада за сердешную… Зеть-то у ней топором не размахнется, я, грит, человек умственной. Вон перильцо у лавинки для Матрены и то мой Колька делал. Весной, как приедёт, еле бродит, черт, грит, миня в затылок пехаёт: бегу уж что есть моченьки, а он все одно наздогонит да ишшо пехнёт. Тут, грит, уж и кувырнусь, Лавинки-то на колешечках переползала, чтоб в ручей не грымнуться. Вот Колька и пожалел ию. А зеть корзинку от ей хоронит, штоб в лес не ходила, упадет ишшо в лесу-то. Да ведь дурачок грамотной, не понимает того, што лес для ей спасенье. По осени, глядишь, уже за клюквой шастает в дальнё болото. Вот оно, здоровьё-то…
Полетела Ильюшиха впереди нас – смотреть да советовать, как и где дворец бабке Матрене строить.
Молчим мы все, даже Савося, слова некуда вставить – плотное кружево Ильюшихин язык плетет.
– А приедёт – гулянку затеёт. Зеть-то. Крутись, старуха немощна, у печки, щи серы вари да колобушки пеки… Кольку мово зазывал. Со свиданьицем, грит, сельски трудящися. Сидит за столом – рубаха бела, морда красна, глотка без дна, язык без костей. Нонче, грит, перестрою тещино поместьё. Николай, грит, пособит. А Колька, споенной дурачок, головой, как козел, трясет: сделам, сделам, нам, как два пальца оммочить. А што сделам-то?! Ни денёг, ни матерьялу. В один год, правда, уборну с сиденьём отгрохал, на другой – к столбу рукомойник прибил…
– Да што те зеть-то Матренин далси, – рассердился вдруг дед Тишка. – Был бы твой, дак чеши, скоко хошь… Он мужик ничево, обходительной. Рюмку, бывало, мне подносил, я, говорит, стару гвардею уважаю…
– А мой бы был, дак и на порог такова не пустила. Поганой метлой проводила б до самова городу. Не те говорить-то б, Тишка. Ста-ара гвардея-а… Семьсят годов небо коптишь, а все в Тишках ходишь, как робенок малой. Эва, выслужил ты у народа званьё. В войну токо, когда в приседателях красовалси, и побыл Тихоном Андреичем. И то у начальства, а не для баб.
– Замолчи ты, старая, в рот те калыжка. Жисть прожила, а ума не нажила. Поверила Савосе, треплу эдакому. Ему ишшо стакан бы, дак не тово наплетет, токо ухи развесь. Померает Матрена-то. Померает!..
Дед Тишка даже ногой заприплясывал.
– Врешь, греховонкик, – не поверила Ильюшиха. – Со зла и врешь. Не лопни, гляди. Знаю тя…
Под Савосино ржанье мы оставили стариков доругиваться, а сами пошли к Матрениной избе – она еще издали подмаргивала Савосе заколоченными как попало окнами, обещала легкий заработок.
Савося поддел монтировкой пробой, тот выскочил из косяка, брякнул замком об дверь.
Поругали мы Савосю: можно было вовнутрь не заходить, осмотреть снаружи да бревна обстучать. Но и сами не утерпели – зашли в избу. Не по себе как-то сделалось, будто подглядели мы чужую, по ту сторону, жизнь. В избе стояли душные, как в гробу, сумерки, хотя на улице был еще яркий день, только сквозь щели в горбыле на окнах полосами шел низкий солнечный свет, плясала пыль в нем – откуда только взялась она в нежилом помещенье, наверно, потому что Савося крепко хлопнул дверью.
Заскрипели, запрогибались половицы под нашими сапогами, из-под лавки выскочила мышь, пометалась-пометалась по избе – куда бы юркнуть от непрошеных гостей – нашла дырку в полу и свалилась в подвал. Переводы, на которых был настлан пол – тесаный байдак – опрели, один угол у избы ушел в землю – постройка наклонилась, скособочилась. Нехитрая, остатки прежней оседлости, теперь сиротская какая-то мебель: стол, лавки, железная кровать с поржавевшим никелем шишечек и дуг, – все стояло ножками на чурках разной высоты.
Прямого было в избе – одна русская печь, непривычно большущая, с лежанкой для оравы ребятишек, с нишами в боках, чтобы сушить носки и портянки. Старой работы печь, теперь таких не делают, не из кирпича сложена – глинобитная. Ставили ее надежно и умело, на столбах, под полом, в два обхвата, на толстенных переводах, потому она до сих пор пряма и не дает избе своими боками и толстой шеей трубы завалиться еще больше.
Печкой этой не пользовались давно, с тех пор, как бабка Матрена вышла на пенсию и увезли ее в город. Заменял печку газ в маленьком красном бидончике и с плиточкой на две горелки.
Не так, значит, все получилось. Пускай бы печь разваливалась, но постройка стояла. Плоховат у избы фундамент оказался.
Савося колотит монтировкой по голым почерневшим бревнам – те гудят, здоровы, видать, еще, только нижние венцы подгнили.
Ну зачем же, думаю, так халатно отнесся хозяин к фундаменту? На свой короткий век рассчитывал? Так ведь не знал тогда, что война до срока жизнь унесет, собирался-то, поди, годов шестьдесят жизни отслужить.
– Стены, бригадир, на шипах, – говорит Савося. – Знаешь, сколько будет лишней мороки при разборке. А потолок, смотри, кругляк, одному ни в жисть не поднять. Прошу учесть, чтоб не обидеть рабочую руку.
– Скажи уж – лапу, – усмехнулся Степан.
Влетела вдруг в избу Ильюшиха.
– А дедко-то где? – удивился Савося. – Убила, поди, по дороге да упрятала под лавины.
– И вас с им надо прибить, поганцы вы эдакие. Не сметь ломать постройку. Не сметь!..
Упала бабка Ильюшиха на лавку да слезами залилась – концы платка будто теленок обсосал.
Закурили мы, каждый по-своему ждет, что дальше будет. А дальше – слезы как-то враз высохли. У наших старух всегда так: слезы, как слепой летний дождь – прыснет, и солнышко светит.
– Зеть-то ейной, – принялась бабка допиливать Матрениного зятя. – В первый год, как Матрену увозили… – И снова – в слезы.
– Чего – зеть? – подтолкнул Савося запнувшуюся Ильюшиху.
– А тово. Такой жо душегубец, как и ты. Матрена грит: кошку взять в город надо, одна ото всей скотинки осталась. Корову, куриц, овечок нарушила – смирилось сердце, куды ж денесси, а кошку жалко. Зеть грит: зачем, мамынька, кошка-то, у нас полировка как раз для ейных когтей… И ни в какую! Матрена – в слезы… – Тут Ильюшиха сызнова накоротке всплакнула. – Да делать нечего, плетью обуха не перешибешь. И дочка, Капка-то, туды жо, в одну дуду: завсегда, грит, мамынька, у тя причуды. Ну-у… Оставили кошечку суседке, Марье Олешшихе, покоенке, царствиё ей небесное, легкова лежаньица. А она, кошка-то, в свою избу убежала. Как она пролезла, ума не приложу, ведь заколочено все. А на будущу весну ию в печке нашли. Мертвую…
Помолчали.
– Вот что, Василий, – сказал Савосе бригадир, с лавки поднялся. – Забивай пробой да пошли домой. Наряда не будет.
Молодец, Степка, думаю, ох, и молодец!
Савося начал было вставлять пробой в старое гнездо.
– Нет уж, давай в целик забивай, – остановил его Степан.
– Может, передумаешь?
– Передумаю, так нетрудно будет вытащить. Рабочей ла-а-пой.
Разошлись мы по домам, каждый со своим настроеньем.
Я Лизе, жене моей, рассказал, как все дело было, она мне «маленькую» поставила, и решили мы избу Матренину не продавать.
На следующий день с согласием жены пошел я на почту, снял с книжки деньги, вырученные за Митьку бесхвостого, и 250 рублей отправил Капке. А письмо вдогонку, как договорились, напишет Лиза.
– Рукава жевать не буду, – сказала она.
Во что я охотно верю.
Вот так жена у меня, Лиза-то, думаю, вот так жена, а еще ругал, бывало, ее. Была б каждый день такая – так чтоб не жизнь!
Потом-то я подумал: а если б не Капка, любовь моя недозрелая, другая бы женщина оказалась на Капкином месте, решилась бы Лиза столько денег на ветер выбросить?









