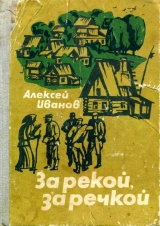
Текст книги "За рекой, за речкой"
Автор книги: Алексей Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
Дед
«Комната семь всем остальным друзьям Кирюхи прибыл Великие Луки дальнейшего существования все в порядке обнимаю
Дед»
Телеграмма ходила из рук в руки жильцов комнаты № 7 и «остальных друзей», заглянувших узнать о дедовых новостях.
– Молодец, дед! Доехал, значит.
– Если б что, так ссадили б где-нибудь, до Урала еще.
– Мужики! А не пьяный ли он телеграмму-то посылал?
– Почему – пьяный?
– А потому что кирюхами нас называет.
– Точно. Это у него только по пьянке – кирюхи.
– Не-е-ет. С этим делом он завязал. Не может быть, чтоб… Тогда уж совсем…
Так мы поговорили, посожалев еще о том, что Дед не сообщил своего нового адреса, что написать ему – некуда.
Каждый из нас в этот месяц, то есть со дня отъезда деда до получения его телеграммы, ощущал какую-то пустоту в душе и каждый вспоминал деда.
– Дед… Дед… – при знакомстве совал он нам по очереди свою квадратную ладошку.
– А по имени-отчеству?
– Константином зовут.
– А по батюшке?
– Николаевичем. Ты что, анкету заполняешь? – рассердился он. – Зови дедом. Меня все дедом зовут. Весь поселок. И стар, и мал.
Добавил, поразмышляв:
– И правда ведь… Как будто у меня имени нет.
Опять помолчал, сердито сопя, – видимо, обиделся вдруг на всех, кто зовет его дедом.
– Мне ведь полста два. Какой я дед?
Но, представив, что пятьдесят два – не юность, что выглядит он старше своих лет, продолжил, уже самокритично:
– Хотя морда-то – ой-е-ей. Ну да водку пить – работа тяжелая.
Походил по комнате, присел на койку, но ему не сиделось, снова принялся мерить шагами диагональ комнаты. Потом вышел куда-то, вскоре вернулся.
– Да вот, в котельную ходил, – с порога начал он. – Я ж слесарь центральной котельной. Подготовка к зиме – кому она нужна. Все дед да дед. А ведь июль на исходе.
Ложится в постель.
– Говорю управляющему трестом: не гляди, мол, что лето. За летом – и зима. Если народ будет жить в холодных комнатах – хрен тебе, а не план. «Правильно, – говорит, – согласен. Что тебе, Константин, нужно для бесперебойной работы?» Вот это другой коленкор. «Давай-ка мне электромотор в насосную, лебедку на мехпогрузку угля да бригаду плотников короба по поселку чинить…»
В дверь громко постучали и в комнату вошел милиционер.
– Вы Ряднов?
– Я, – настороженно ответил дед и приподнялся на локте.
– Что у вас вчера произошло?
Дед положил голову на плечо, нарисовал на лице недоумение.
– Так что произошло вчера?
– Это какой был день?
– Воскресенье.
– Пьяный, наверно, был.
– Что пьяный – это само собой.
Дед испуганно молчит, старается припомнить, что же он натворил вчера. Сложная работа происходила в его голове. Ему не хотелось сознаться, что он ничего не помнит. Сознайся, так сержант сразу на карандаш: «находился в сильной степени опьянения». Что-то он, конечно, помнил, но смутно. И сегодня, когда тяжелый синдром похмелья обострил совесть, дед мог наговорить на себя лишнего. А это совсем ни к чему. Если б даже и не наговорил – просто перечислил это «что-то», все равно мог погубить себя. Признайся в грехе, а грех этот милиционеру не известен, милиционер, может быть, имеет в виду какой-нибудь пустяк.
– Вахтершу, что ли, обложил?
– Зайдите ко мне завтра, часов в десять.
– Обязательно зайду! – с готовностью заверил дед, обрадовавшись такому легкому концу разговора и в радости не подозревая, что переборщил своей готовностью, что так отвечают друзьям на приглашение зайти в гости.
– Я вас не на чашку чая зову, – сказал милиционер.
– В десять буду! – поправился дед.
Спать деду расхотелось, и он, натянув штаны, принялся бродить по комнате.
– Ну, все. Охламоны уехали. Не будут мешать жить, – бормотал он для меня с Андрюхой, новых жильцов его комнаты, поселившихся на месте уволившихся или уволенных парней. Последние дни они пили всей комнатой за увольнение, за отъезд, просто так, по хмельной инерции, не помня за что, пользуясь тем, что в поселке сухой закон дал течь. Дед – старожил поселка, которому пошел третий год со дня постройки первого барака, в комнате перебывало много с несидячей косточкой люду, а дед один, к каждой партии надо было привыкать, а привыкнув, прощаться.
– Я вращался среди всяких вероисповеданий и всяких аппетитов, – говорил дед, имея в виду свою жизнь, видимо, не только в этом поселке.
Последние жильцы седьмой комнаты в самом деле были охламонами – мы наслышались о них еще в отделе кадров.
– Да-а-а. Все! Уехали.
Не поймешь, чего было больше в его словах: грусти, сожаления или радости, хотя изобразить-то он пытался радость.
Дед чуял, что остается один, среди новых непьющих людей и что ему придется теперь туго. Но знал – выпивки надо прекращать. Не потому, наверное, что это вредно для здоровья или антисоциально, а потому, что наутро приходилось мучительно вспоминать, что натворил вчера, и стыдиться.
– Они тут, кирюхи, пили, как сапожники. Куролесили. Дверь гвоздями зачем-то заколотили, а лазали в окно.
Дед старается убедить новичков, а вместе с ними и себя, в том, что «они» куролесили, а он нет.
– Ладно, ложись спать. Чего разволновался-то? – говорит ему Андрюха.
Дед послушно раздевается. Он небольшого роста, сутулый, короткошеий, и кажется, что голова его сидит не на плечах, а на спине. Голову, когда говорит, сидя или полулежа на койке, держит набок, то ли по привычке, то ли затем, чтобы выразить недоумение по поводу своих рассказов.
– Ну, все. Уехали. Завтра – в милицию, к парикмахеру, к сапожнику. Все…
На следующий день после работы мы застали его сидящим на койке с осколком зеркала в руках.
– Да вот, постригла лестницами. Ни хрена стричь не умеет. Пришел к ней мужиком – ушел бараном.
Дед благоухает одеколоном «гвоздика». Вообще-то, когда сухой закон ужесточается, дед не прочь выпить «Гвоздики», за что зовут его еще и фанфуристом (фанфурик – флакон одеколона). Впрочем, это не кличка, поскольку фанфуризмом дед грешил не более других выпивох, но пил, будто хотел кому-то досадить, открыто, с некоторым даже вызовом. Правда, это было до нас, и мы судим только по рассказам. Сейчас же он использовал «Гвоздику» как наружное средство.
Показывает нам принесенные из ремонта ботинки.
– Пять шийсят слупил за два шва, а помазать – руки не дошли. Носы-то, вишь, облупились.
Забрасывает под кровать ботинки, достает из кармана квитанцию:
– Да вот еще тридцать рублей получил. Из французского банка.
Это означало тридцатирублевый штраф за то, чего он не помнит.
Дед завязал, однако новая жизнь его началась с бытовых неурядиц. На третий или четвертый день они его доконали, а в магазин семитонным «Уралом» привезли «Вермут красный». Дед загрустил.
– Пойду к другу загляну. Обещал зайти. Неудобно теперь не зайти, – завилял он. – Какое-то дело срочное…
Возвращается вечером тяжело груженным.
– Эй вы, кирюхи! – требовательно обращается он с койки. – Да знаете ли вы, что я от Мурманска до Магадана пешком, в лаптях, прошел?..
Мы подъелдыкиваем.
– Кирю-ю-ухи-и, – презрительно тянет он. – Пришлось мне…
– Что – пришлось?
– Ох, пришло-о-о-ось!..
– Да говори ты, – торопим мы его, чтобы позубоскалить.
– …У медведя в берлоге побывать…
– Как! – притворно ахаем мы.
– А так! Ни хрена вы, кирюхи, жизни не знаете…
– Ну…
– На охоте был. А он в берлоге. Я – нож в руку и за ним. А там – вони-и-ища, как… И не видать ничего…
– Со страху, что ли, вонища-то? – смеется Андрюха.
Дед оскорбляется. Не по-настоящему, а делает вид, что оскорблен. И умолкает. Что́ он сделал с медведем, он еще не придумал, а сочинять на ходу – голова тяжелая.
По вечерам кто-то из нас писал письма домой, семье. Мы с Андрюхой приехали на стройку пока налегке, семьи срывать с места рано – надо сперва получить жилье.
Дед странно посматривал на нас. Сначала – свысока, как на маменькиных сынков, а когда мы получили по первому письму – со скрытой завистью. Позднее решился-таки засесть за письма и он. Но хватило его ненадолго. Он переживал, нервничал, вскакивая, ходил вокруг стола, как кот вокруг горячей каши. Потом с облегчением говорил:
– А-а, сегодня не буду. Не придумал еще, о чем писать. Новостей-то нет.
Он буквально изводил себя. Неделю он не ходил в кино, чтобы остаться в комнате одному, сосредоточиться. На шестой вечер все-таки написал два письма – сестре и племяннику. Пошел до почтового ящика, а вернулся на бровях.
– Да вот, – начинает без предисловий и еще по ту сторону порога дед. – Хотел уже стул делать из той скамейки, да грубая работа. Ее уже не исправишь.
Такие разговоры он начинает в третий или четвертый раз, с тех пор, как опрометчиво, будто кто за язык тянул, пообещал мне сделать стул из скамейки, валявшейся где-то в котельной.
Пообещал, а выполнить обещание неохота или слишком хлопотно. Но неудобно оказаться перед соседом зайцем. Вот и изводит себя понапрасну.
Мне не нужна эта табуретка, поскольку достался от прежних хозяев симпатичный пенек с прибитой сверху дощечкой. Мой стул ни на чей не похож, тем он мне и мил.
Знает и дед, что табуретка мне не нужна, но ему хотелось чем-то отблагодарить меня за то, что на следующий после вселения день я решился вымыть заскорузлые полы.
Вообще он умеет ценить добро, даже то, которое незаметно и делается машинально. Он помнит каждое ведро воды, принесенное тобой от водовозки в комнату. Если Андрюха или я затеяли какую-либо приборку, перестановку, дед тут же хватается помогать. Он, похоже, и впрямь настрадался со своими охламонами и истосковался по порядку и мало-мальскому уюту.
Он в некотором роде даже чистюля.
– Дед! – говорит ему Андрюха. – Ты как девица, которая принимает любовника.
– Что такое? – настораживается дед.
– Каждый день у тебя постирушки.
– Да ведь неохота ходить в грязном.
Вывешивает на веревку над своей койкой полдюжины застиранных платочков.
– У меня всегда так, даже когда пил. Три платка рабочих, три выходных.
Правда, отличить рабочие от выходных трудновато – благоприобретенный цвет одинаков.
Утюга его белье не знает, но нельзя сказать, что дед ходит помятым. Однажды застаю такую картину: дед держит штаны за опушку, Андрюха – за концы штанин. Возят их туда-сюда через спинку кровати.
– Да вот, брюки гладим.
На двух веревках у него над кроватью всегда почти весь гардероб. Вольно натянуто выстиранное белье. Собрано в угол уже сухое. Накидано друг на друга намеченное к стирке грязное.
Изредка, увидев нашу дверь открытой для проветривания, заходит вахтер Лена.
– Как у вас теперь чисто! – преувеличенно хвалит она. – Ряднов! Ты ли это?
Деду эта бесцеремонность не по душе. Сам-то он не прочь поговорить иногда о том, что жил недавно похуже. Но слышать это от постороннего – обидно.
– А что?! Я и раньше таким был. Подумаешь, когда выпью да тебя обложу, что плохо службу несешь.
– Подумаешь… – в тон ему отвечает Лена.
– Сделай ей справедливое замечание, а потом иди штраф плати. Вот порядки!
У деда открываются старые раны.
Вообще деду в последние дни живется неспокойно. Каждый считает своим долгом удивиться дедовой трезвости, поздравить его или выразить сочувствие.
– Дед! Ё-мое, первый раз тебя вижу трезвым, – удивляется пьяненький гость.
– А что хорошего-то?! – жалуется дед. – Жизни не вижу. Сплю да работаю. Работаю да сплю.
– Пьянка для тебя – жизнь? Ё-мое!.. Наоборот – потеря жизни. Ты верную треть своих годов потерял.
Дед не сердится, но твердит свое:
– Жизни не вижу. Не вижу – и все тут…
Но это не совсем серьезно. В глубине души он собой доволен – пересилил себя.
Кончив пить, он, в самом деле, ужаснулся – куда девать время и себя в нем. Привычка развлекать себя чем-то иным, кроме пьянства, не нажита, скорее всего, утеряна, а готовых развлечений… Для развлечений наш поселок мало оборудован. Можно ходить в горы, заниматься даже скалолазанием, но не тот возраст, да и стыдно – засмеют. Заняться столярным делом – душа не лежит. Книжки читать? Библиотека закрыта. Да, собственно, если бы она и работала, он бы туда не пошел – поднялся бы шум на весь поселок. Дед по-своему застенчив и беззащитен перед насмешкой.
Жить не для кого. А для себя неохота и нет смысла – жизнь прожита. Может быть, он и не так рассуждал, но мне иногда казалось, что рано или поздно он сделает такой вывод и запьет окончательно.
Он предсказывает погоду и часто бывает точен в прогнозах.
– Дед! Какая погода будет в выходной?
– А какое сегодня число?
– Восемнадцатое.
– Та-а-ак. Кончается третья четверть. К полнолунию. Погода ухудшится.
Мы всей комнатой ждем выходного. Особенно нетерпеливо ждет дед – он чувствует ответственность за свой прогноз.
В субботу, рано утром он приклеивается к окну, рассматривая Колдун-гору, как называет он пик Гранитный, возвышающийся над поселком с западной стороны.
– Облачность – двенадцать баллов. Просветов нет ни хрена. Ветер зюйд-вест, слабый. Колдун-гора чистая. До завтра ничего страшного не будет.
Воскресное утро тоже начинается с дедовых объяснений:
– Сегодня – сплин, как говорят англичане. Колдун-гора в облаках. Это первая гряда. Она пройдет мимо – дождь будет на перевале. Вторая спустится ниже – для нас.
Точно – после обеда пошел дождь. Мы забрались в комнату.
– С полдён на семь дён. На неделю, значит, зарядит.
У деда-метеоролога появился соперник – Андрюха. У него к непогоде начинают ныть простуженные в детстве ноги.
– Я говорил, что сегодня дождь будет, – упрекнул как-то промахнувшегося деда Андрюха. – А ты – завтра.
– Ну, у меня научные обоснования. У тебя – физиологические, – дед прячет свое поражение в туман научной терминологии.
У деда, особенно когда он в подпитии, страсть к ученым словам. Поразить противника непонятным словом, когда исчерпаны аргументы – это не основная цель. Главное – намек на то, что он, никому не нужный пьянчужка, был знаком и с лучшими временами.
– Осетр? – легко подхватывает он слово в разговоре. – Когда-то я изучал ихтиологию. Поэтому скажу, что осетр – рыба… Рыба семейства… Впрочем, сначала вида… Ну, вы знаете, что классификация земной фауны обширна… – тянет дед в ожидании, когда же, наконец, его перебьют. Цель достигнута – он щегольнул ученым словцом-другим, а что сказать дальше, пока не придумалось.
То ли тоска по ушедшему, лучшему в его жизни, то ли еще какие-то надежды на будущее, во всяком случае, безнаградность настоящего, непрестанные кочевья по стройкам, на которых европейскую часть Союза называют материком или Большой землей, заставляют деда фантазировать, бредить наяву.
– Кирюхи! – торжественно обращается к нам со своей койки дед, и мы заранее начинаем улыбаться. – Прошу разбудить меня с первым лучом солнца.
– Что такое? – уже смеется из противоположного угла Андрюха. Он-то знает, что дед раностай и что дед не терпит тех, кто любит лежать в постели до последней минуты. Андрюхе, за которым водилась такая слабость, доставалось от деда. «Андрюха! Ты как Обломов, – не раз говорил, расталкивая его по утрам, дед. – Знаешь Обломова-то? Это из одноименного рассказа Гончарова. Он спит, а ему снится, что еще спать хочется. Так ведь и умер ото сна…»
Дед многозначительно молчит.
– Зачем с первым лучом-то? – покатываясь со смеху, переспрашивает Андрюха.
– Завтра в шесть утра на специально оборудованной площадке в горах меня ждет винтокрылая машина Ми-6…
– …Загруженная вермутом, – вставляет Андрюха.
– Неостроумно, молодой человек. У меня задача сложнее. Предстоит выполнить большой объем геофизических воздушно-полевых изысканий.
– Ну-у, – разочарованно тянет Андрюха. – Я думал, сразу и наливай… А тут еще искать надо.
– Объясняю, кто не знаком, – перебивает дед. – Это изучение горных складок, включая и Гоуджекитский хребет.
– Летишь один?
– Да. Я, пилот и специально обученная собака для переноски инструмента.
– Зачем Ми-6. Возьми Ка-26. Он поменьше.
– Нет и еще раз нет. Только Ми-6. В него помещается тридцать человек. Но я полечу один. Я привык к просторным каютам.
– Дорогой вертолет, – сочувствуем деду.
– Да. 250 рублей в час. Я арендовал его на весь световой день.
– А деньги? – ахаем мы.
– Деньги? Из французского банка по безналичному расчету. Мой секретарь Франсуаза предупреждена телетайпограммой…
Андрюха встает и проверяет трехлитровую банку, в которой дед вчера затворил бражку. Банка ополовинена – дед снял урожай, не дав ему созреть. Андрюха принялся стыдить деда. Правда, стыдил не за то, что тот вообще выпил, а за то, что не дал бражке набрать силу.
– У тебя не язык, а длинная жалоба, – отбивается дед и начинает осваивать морскую тематику – очередной Ми-6, только с морским уклоном.
Ни морализаторства, ни, избави бог, репрессий, мы не допускали. Напротив, нам, с непривычки слегка одуревшим от однообразия барачной жизни, иногда хотелось, чтобы дед оказался на взводе, но не слишком, то есть в том состоянии, когда он способен развлекать, но не угнетать.
Дед сам себя гнул в бараний рог. Правда, уставал время от времени, давал себе послабление и тогда неуклюже хитрил с нами и самим собой.
– Да вот чайник хотел помыть. Да он чистый. Второй год ему, а накипи – ни на понюшку. Вода-то горная, без солей. Эх, и бражка на этой водичке будет! Девчата, говорю в столовой, дайте грамм двести дрожжей. Дали полпалки. Сам-то я уж не пью. А вдруг кто придет, – лукаво и многословно рассуждает дед. – Налью стакашик. Пускай выпьет. А дня через четыре туда абрикосового компоту, только без гарнира, конечно. И не поймешь, что это за продукт будет – сок или вино.
До абрикосового дело не дошло. Дрожжей больше не было. Дед стал рано ложиться спать, чтобы укоротить трезвый, кажущийся бесконечным день.
– Дед!
– Что-такое? – отрывает он от подушки голову.
– Да посидеть бы вечером надо.
– Сиди, кто тебе мешает. Или храплю?
– Да свет вот…
– Чего? Темно? – не понимает он.
– Не темно. Тебе мешать, наверно, будет…
– Хо! Усну. А не усну, так завтра высплюсь. У бога дней много.
Мы по городской привычке ложимся поздно. Конечно, мешаем деду, но он терпелив, а мы – благодарны.
По утрам зато мы меняемся ролями. Выспавшись с вечера, он встает рано, до солнышка, будит нас за два часа до работы, приучая к неторопливости и обстоятельности с утра. Но еще до того, как нас будить, он успевает переделать много дел по нашему куцему общежитейскому хозяйству – принести воды, подмести пол, а то и постирать. Однажды, часа в четыре утра, мы были разбужены внезапным грохотом. Я открыл в испуге глаза и увидел поваленную на пол дверь и шепотом, чтобы не шуметь, ругающегося деда.
– Что случилось?
– Да вот дверь хотел смазать, чтоб не скрипела, – дед вытирал тряпкой руки, перепачканные сливочным маслом.
Мы навесили дверь, и я стал рассказывать деду только что увиденный сон.
– Хо! А мне тоже снилось, – начал он в свою очередь. – Будто нахожусь я в деревне, в детстве, значит. В деревне наводнение, а в нашей избе в подпечек забрался большущий сом. Я – мальчишка в подпасках, пасу кобыл, а у меня вдруг несчастье: пропало четыре кобылы. Взяли, конечно, меня. Не в тюрьму, а следственно. То есть под следствием сижу. Потом мужики выловили из подпечка сома и разрубили на части. И нашли в его брюхе шестнадцать лошадиных копыт. Ну, меня и выпустили. Через двадцать лет.
– Да приврал маленько, конечно, – признается он в ответ на мои робкие сомнения.
Позднее, поразмыслив, я понял, что дед не очень привирал. То есть вполне возможно, что сон свой он выдумал, или точнее, додумал кочующий сюжет о соме и шестнадцати копытах, составив его из фактов действительных.
При всей своей общительности и простоте дед за определенной чертой был скрытен. Прожив к этому времени два месяца с ним бок о бок, я мало знал о нем. Я знал сегодняшнего, «поселкового», Ряднова, а из прошлого его – почти ничего. Он не рассказывал о себе, а если и начинал рассказывать, то безбожно фантазируя, делая из сказанного или анекдот, или что-то таинственное, за туманом которого мало что проглядывало.
– Да вот две жены было, да обе выгнали. Первая за то, что много пил, мало закусывал. Вторая – что мало пил, много закусывал.
Детство его – деревенское, в юности плавал на корабле. Однажды в сильном подпитии признался, что строил первую АЭС – Обнинскую. Потом – это сочинение о лаптях и пешем своем пути от Мурманска до Магадана, рассказанное дважды (когда мы наотрез отказались верить, он не на шутку обиделся). Сколько-то лет жил в Якутии, работал на золотых приисках. В Сибири же – двадцать лет безвыездно. Болтали в поселке, что так оно и есть, что Уральский хребет для него на запоре. И эти двадцать лет вдруг вынырнули в рассказанном сне.
Мало того, что он мастер сочинять про себя небылицы, он выпускал их в свет большими тиражами, и они возвращались к нему от поселковых словохотов и сплетников еще более преувеличенными и невероятными. А он поддерживал их, соглашался, посмеиваясь.
Загадочность дедовой судьбы нас интриговала. Иногда разговаривая о нем, мы склонны были считать, что, дескать, да, дед за что-то получил большой срок, мыкался потом на поселении. Но за что? Тут мы заходили в тупик, из которого дед и не думал нас выводить.
При всем при том мы не собирались наводить справки о его прошлом – идти в отдел кадров, смотреть документы. Мне, например, было хорошо с ним, и я часто радовался, что попал именно в эту комнату, а не в соседнюю, справа или слева.
– А что, дед, мы бы с тобой неплохо и в Якутии жили, – сказал я как-то ему.
– Вдвоем?
– Вдвоем. Ты да я.
Дед чуть сконфузился и ответил не сразу:
– Не, Левонтий, ты бы со мной запил.
Позднее, однажды сорвавшись, ввиду послабления сухого закона, он споткнулся о порог, упал и заснул на полу. Но, перепутав двери, он не о свой порог споткнулся – упал в чужой комнате. Я принес его на руках, уложил в постель. Он все рвался куда-то идти, я удерживал, он разозлился и принялся ругаться.
– Эх ты, дед, дед, – стал я его стыдить. – Я тебя на руках принес, а ты меня обкладываешь. Спасибо, дед…
Дед, притихнув, вдруг смешно захлюпал носом, расплакался. И сам поразился своим слезам.
– Левонтий!.. Что ты со мной сделал? – всхлипывая, забормотал он. – Сам убива-а-ал… Меня убива-а-али. Ни слезинки…
– Это водка, дед, сделала.
– Левонтий! – полежав с минуту молча, уняв всхлипы, снова забормотал. – Ты не знаешь, какой гад я, Левонтий… Какой га-а-ад…
– Перестань, дед. Перестань, – успокаивал я его. – Главное, ты сейчас не гад. А что было там, давно – наплевать. Жизнь-то длинная.
– Дли-и-инная, – икнув, согласился дед. – Ох, и длинная, Левонтий.
– А кто себя гадом считает, тот уже не гад.
– Не-е, кирюха, это ты брось. Это ты меня просто успокаиваешь, – в дедовой интонации сквознула недоверчивость.
– Да вот, ездил по делам на бетонный завод, – снова с порога будто возобновляя только что прерванный разговор, начинает дед. – Громоздят зачем-то склад инертных материалов. Под открытым небом будут укладывать змеевики. По ним пустят зимой пар. Ну и головы инженерские! Щебенка-то на полметра прогреется, не больше. А сверху – лед. Закоковеет. Пока ехал вахтовкой, придумал: склад не нужен. Надо ставить бункера подогрева. Выйдет дешевле и бетонный будет работать круглый год.
Дед маленько хитрит. После того, как случайно побывав на бетонном, он несколько раз ездил туда специально, даже делал обмеры.
Называет марки стали, профиля, сыплет «дюймовостью» труб. Мы с недоверием поглядываем на него.
– Да я уж в ПТО ходил, излагал.
– Ну и как?
– Пообещали подумать.
– Возьми в соавторы специалиста, – советует Андрюха. – Он тебе поможет рассчитать, чертежи грамотно оформить. А так проканителишься до белых мух.
– Хо! Да у меня уже и смета готова! – голова у деда на левом плече, глаза влажно потемнели.
Дед еще себя покажет, думаю я, а от порога доносится:
– Да вот пойду постираюсь маленько.
С этой поры дед стал нелюдимым.
– Не комната, а проходной двор. И ходят, и ходят, и суют свои носы… – ворчит он, сидя за столом, с непривычными очками на носу. Стол и кровать завалены политическими картами мира, купленными в киоске за неимением ватмана. На их обратной стороне он чертит свой проект.
Между делом рассказывает о своей тяжбе с конторой управления:
– Мне ж, говорю, полста два, а вы с меня за бездетность дерете. Все надеетесь, что ребятни наделаю, поощряете, так сказать, рублем. Два года как права такого не имеете. Справку, говорят, давай. Какую справку и от кого? От жены, от любовницы? И на какой предмет? Смеются. Ну, ладно, достал справку. Опять – ни с места. Я – прямиком в приемную. А он – стук пухлым кулачишком по столу: куда, мол, без разрешения лезешь. Разве так, говорю, стучать по столу надо? Смотри, говорю, как! Хрясь кулаком по столу. Все там, что лежало да стояло, поднялось, повисело в воздухе, и опять на свои места. Короче, никакого беспорядка не произвел. А вывели. Нажал на пуговку под столом, телохранители и явилися. Ладно… Захожу второй раз. «Примем меры», – это мне. А машинистке: «Текст тот же». Только не понял я, какие меры. По бездетности или за то, что кулаком поучил стучать. Значит, опять все заново…
Через неделю работа застопорилась.
– Уже змеевики варят. Меня не слушаются. Говорят, что тоже рацпредложение. И автор из ПТО. Вот гадство! С ними трудно спорить – начальство. Свое не выкинут, чужого не возьмут.
Потерзавшись несколько вечеров, снова сел за стол. Вера в жизненность своего проекта подорвана. Велика инерция там, на бетонном, чтобы начать перестройку по дедовым замыслам. Но он считает и чертит, потому что тоже во власти инерции, только творческой.
– Дед, ты где? – спрашиваю его, заметив отрешенный взгляд.
– Чего, ослеп?
– Это ты ослеп. Смотришь на меня и не видишь. Далеко ты сейчас отсюда.
Помолчал, очищая рейсфедер.
– Ты обладаешь психологической имбуленцией…
– Чего-чего? – удивляюсь я диковинному слову.
– Ну, увидел, что я ничего не вижу. А я, и правда, вспоминал разное. Да-а-а… Слушай, как назвать предложение? Реконструкция железобетонного завода?
– Дед! Не громко ли? Проектами реконструкции предприятий занимаются НИИ и КБ. А ты – один. Авторская скромность – делу помощница.
– Как предлагаешь? – чуть нервно спрашивает дед.
– Ну, допустим, «Предложение по строительству бункеров подогрева для инертных материалов».
– Нет, не то, – отметает дед.
– Почему?
– Это у меня уже есть… В тексте.
Спорим. Он окончательно укрепляется во мнении, что его вариант лучше.
Молчание. Дед пишет.
– Как правильно? – спрашивает он. – Внутрь или вовнутрь?
– Что в лоб, что по лбу.
– «Завозка инертных материалов производится вовнутрь здания посредством автотранспорта… – сдерживая торжественность в голосе, читает дед только что написанное.
– Напиши проще: «Самосвалы завозят щебенку в здание».
– Нет. Я уже написал.
Снова, уже с бо́льшим удовольствием читает свою фразу.
Дед сейчас в состоянии диссертанта: чем больше бюрократических оборотов, тем фундаментальнее.
Я не спорю. Он в эти минуты во всем прав.
Вскоре я уехал в командировку, а вернувшись через два месяца, деда уже не застал.
Новости о нем я узнал от Андрюхи. Дед был в отпуске, отгулял десять дней, по обыкновению никуда не уезжая. Потом вдруг уволился, засобирался в какие-то стариннорусские Великие Луки. Получил он оттуда письмо, будто бы от женщины, которая звала его к себе.
– Подлец я перед ним, подлец, – каялся Андрюха. – Ему на стрелку до попутки топать. Загорбник, чемодан… Я, скотина, не проводил. Ну, ты же знаешь, как я по утрам встаю. Он рано поднялся. А я – лежу. Так, лежа, и за руку подержался. Потом-то до меня дошло. Вскочил… да где там… Уехал уже дед – на материк! За двадцать лет… Ох, подлец, – мотал головой Андрюха.
Только мне этого сейчас не хватало – Андрюху успокаивать, сонную тетерю.









