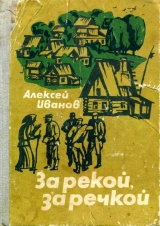
Текст книги "За рекой, за речкой"
Автор книги: Алексей Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
За рекой, за речкой
I
СВЕТЛАЯ ПРОСЕКА
Позднышок
Генка Филиппихин, единственный кормилец коровы Алины, так сладко пускал пузыри, что мать с первого раза пожалела его будить. Стараясь не звякать подойником, она проковыляла из сеней, где стояла Генкина кровать с марлевым пологом от комаров, во двор, подоила Алину и только на обратном пути осмелилась растолкать сына.
– Вставай, Генька, вставай.
Не тут-то было.
– Генька! Будет дрыхнуть-то!
– Вставай, вставай, – передразнивает спросонья Генка и снова примеряет голову к подушке. – Петухи еще не орали.
– Петухи седни не про нас, – говорит мать. – Кузьмич седни заместо петуха деревню булгачит. Вон уж вторую песню завел.
Генка спускает ноги на пол. Пятки обжигает шершавый холод половиц, в открытую дверь сеней валит влажный предутренний сумрак. Птицы еще не поют, а по деревне разносятся частые гулкие удары молотка по бойку.
То ли наяву, то ли во сне Генке представляется, как Кузьмич вышел из избы, сгорбившись и держась за поясницу, перешел дорогу, к своему пчельнику. Чего только нет у Кузьмича на затоптанной лужайке между хлевом и пчельником! Там и старые, почерневшие, с разбитыми головками сани, и дровни – новенькие, по весне связанные, с неезженными еще полозьями, с терпко пахнущими корой ивовыми перевязями. На лагах лежат готовые оглобли, необделанные жерди, связки прутьев, поленницы сосновых огонотков, под верстаком, возле станка – желтая, как топленое масло, стружка, иссиня-белая, цвета снятого молока, березовая щепа, разные чурочки, чурбачки, полешки. Генка мечтает сквозь дрему: ему бы сейчас и на весь день сюда, на эту лужайку – стругать, пилить, тюкать топориком, дышать всеми запахами, принесенными из лесу вместе с сосной, березой, осиной, ивой. Или смотреть, как Кузьмич в самодельном станке гнет дугой будущие полозья, вытесывает из березовых полешек легкие звонкие топорища, спицы к тележным колесам, насаживает косы, гоношит грабли. Наверно, и Кузьмич сам не прочь бы спозаранку, поплевав на руки, застучать топориком, да недосуг ему сейчас. Вот он взял боек, вставил его гвоздем в пробитое раньше гнездышко в чурбаке, цокнул по бойку молоточком для прочности, а лезьво косы плотно приладил к шляпке бойка – и понеслась по деревне частая, двойная от эха трель молоточка.
– Некогда, сынок, нежиться, – напоминает мать. – Слышь, вторую косу кончает. Твоя осталась. А твою-то тяп-ляп – и готово.
– Откуда ты, мам, знаешь, что он мою последней? Может, он мою уже отбил, а сейчас Маруськину возьмет? – спрашивает Генка.
– А то не знаю. Сперва он за Маруськину. Покуда рука верная. Маруська – хват девка. Ей вострую подавай. Потом – свою.
Генка знает толк в битье кос. Он сам догадывается, что Кузьмич свежую руку прибережет не для его косы. И говорит об этом с матерью только затем, чтобы совсем размяться. Кузьмич нароком-то халтурить не станет. Халтура у него получится сама собой. А Маруськину косу он отстучит даже лучше, чем свою. Маруська – его дочь. Он, Генка, Кузьмичу никто, так, сбоку припёка, – полусирота.
Вообще-то Кузьмич при всем его рукоделье не ахти какой мастак отбивать косы. Лезьво он оттягивает так, что получается не лезьво, а поросячье вымя: соски по всему острию, крупные, неровные. И когда берешься первый раз поточить такую косу, то брусок не вжикает, а тарахтит и скрежещет. Так Кузьмич делает, наверно, не потому, что не умеет иначе – из экономии. Коса из-под его молотка не чересчур остра, но тупится не скоро и хороша на осоке и клеверище. Генке по душе больше лезьво, оттянутое в меленькие ровные зубчики. Такой косой косить – косы не чувствовать.
– Генька! – окликает мать. – Иди верти пробку.
– Каждый день одно и то же, – недовольно бормочет Генка, но, вырвав из школьной тетради двойной лист, крутит из него пробку. Она нужна для бутылки, в которую мать нальет молока на обед.
Мать сидит у печки на кухне. У матери отнимаются ноги, она через силу ходит, поэтому домашнюю работу, где только можно, делает сидя. Она цедит из подойника по кринкам и склянкам молоко. Генка хватается за потрепанную полевую сумку, берет брусок для заточки косы, сует его в голенище сапога. В сумку ставит молоко.
– Дай сюды, – говорит мать. – Сама соберу. Опять яйца аль хлеб оставишь. Брусок-то тоже дай. Восемь километров итить, ногу отобьет до крови, голова садовая. Ешь иди.
Мать, повозившись ухватом в печи, снова присаживается и, подперев щеку ладошкой, смотрит на Генку. Тот прилепился к столу по-птичьи, нехотя жует теплые оладьи с творогом и, видно, теперь уже сам торопится, боится опоздать.
– Не торопись, сынок. Как полопаешь, так и потопаешь. Они, небось, завтракать-то только сели. А за столом они дольше нашего сидят.
* * *
Мать говорит это больше для себя, чем для Генки. Ей жалко сына. Его сверстники на каникулах баклуши бьют, а он вот уже второе лето не выпускает косы и граблей из рук. У матери вся надежда на Генку. Кроме него некому обеспечить на зиму Алину сеном. Старший сын, Володька, недоучившийся агроном, служит в армии, приехать подсобить – жди до морковкина заговенья. Нарушить корову мать не может. Алининого молока оставляет дома самую малость, остальное сдает молоковозу, сначала по обложенью, потом на продажу. Выручка – на хлеб да сахар. К тому же придет из армии Володька – справа ему нужна.
Она родила Генку на следующий год после окончания войны, в весеннюю ростепель. Филипп, ее муж, очень хотел, чтобы его баба рожала, как и городские, в больнице, в белой палате. Он запряг колхозную лошадь, бросил в дровни охапку соломы, сверху – валеное одеяло, гремя деревяшкой, свел с крыльца сконфуженную Филиппиху, хотел помочь ей усесться на дровнях, да был стукнут по рукам.
– Брось, а то никуда не поеду. Заухаживал на старости лет.
До железнодорожной станции, где была больничка, не доехали: дорогу перерезал вздувшийся за ночь ручей. Начались схватки. Филипп повернул обратно. Роды принимала бабка Матвеиха. Она и имя присоветовала дать новорожденному – Геннадий. У нее под таким именем бегал по деревне внучонок, и она, даже ругаясь, называла его мягко – Енька.
Филипп, пришедший с фронта с хрипами в груди и с заткнутой за пояс штаниной, как чувствовал, что немного ему на этом свете отпущено. Появление Генки стало для него последним радостным всплеском жизни. Он молчаливо винился перед Филиппихой, Володькой – старшим сыном, родившимся на покосе, вытянувшимся на картошке и лебеде, рано повзрослевшим за годы его отсутствия. Будто казалось Филиппу, что именно он виноват в этом, а не народное лихолетье, и старался искупить свою придуманную вину перед старшим особой заботой о младшем.
Мать вспоминает, как Филипп отшвырнул старую, еще добрую зыбку, как из сосновых огонотков нащепал широкой и тонкой лучины, как плел из нее новую люльку, как, внаклонку, синея лицом и заходясь в кашле, перебирал березовые жерди и не мог отыскать одну, лучшую, для очепа, на который должна подвешиваться зыбка. Старым осталось только кольцо для очепа. Кольцо держалось на крюке, что был вбит в потолочину навылет, загнут на чердаке и снова вбит в дерево. Филипп не отступился бы и поставил новое, да, наверно, понял, что сработанное им самим еще задолго до войны ему не сломать, а заново так же добротно уж и подавно не сделать.
Филипп говаривал ей:
– Помру – береги, мать, Геньку. Он у нас поскребыш, позднышок. Он войны не знает. Должен быть счастливым.
Филипп недолго протянул. И Филиппиха поняла, что война, кончившись победой и возвращением оставшихся в живых, еще не ушла и что долго черной тенью будет висеть над домом. И тринадцатилетний Генка, не знавший войны, гнется под тяжестью этой черной тени.
Генка замешкался. Он стал укорачивать ремень на сумке, чтобы она при ходьбе не хлопала по бедру, а висела под лопаткой. Торопясь, сломал пряжку, пришлось завязывать узлом. Получилось длинно. Зубами распутал соленый ремень, снова затянул. Теперь вышло коротко, сумка оказалась под мышкой. Некогда! Подхватил грабли и – немножко все-таки припоздал: на рогатке у чурбаков висела только одна, его, коса. За частоколом увидел мелькавшую спину Кузьмича. Впереди него плыли грабли и коса Маруськи.
А позади, за Генкиной спиной, на крыльце стояла мать и что-то кричала ему. Слушать было недосуг. Трусцой, придерживая амуницию, обрывая сапогами картофельную ботву, Генка пустился за уходящими.
– Чего в такую рань? – переведя дух, спросил он Кузьмичову спину. – Вчера же на тракторе…
Кузьмич промолчал, наверно, не расслышал. Ответила Маруська, будто пролаяла:
– Трактор – для лежебок. Оставайся. Жди!
– Маруська, скоко раз те говорить, – сказал Кузьмич, как от комара отмахнулся.
Трактор выйдет из деревни около семи утра. Это некогда коричневый, теперь бурый, замазученный и заляпанный еще, наверно, прошлогодней грязью «Беларусь» с тележкой на прицепе. Часа через полтора к нему потянутся бабы и девки в новых, из сундуков, ситцевых платьях и кофтах, мужики в светлых рубахах. Косы и грабли сложат на задний борт: рукоятками – под скамьи, зубьями, лезвиями – на улицу. Будут занимать места – Борьку-гармониста, умеющего пилить «Цыганочку», «Русского» да под частушки, усадят посередке. Борька – ухарь, к нему девки так и липнут. Он может играть всю дорогу, до темных кругов под мышками, а в перерывах – при всех щупать девок. Такого не простили бы ни одному парню, ему же все с рук долой, потому – гармонист. Генка иногда тоже хочет стать гармонистом, да нет у него гармошки.
Вылезет из своей избы, как всегда заспанный и с похмелья, тракторист дядя Коля, вялыми руками подергает, сотрясая рыжий чуб, за промасленную черную веревочку, заглушит на минуту треском пускача колготную тележку, – и трактор поедет туда же, куда пешкодралом ведет полтора мужика Маруська.
– Ну вот, – сказал Кузьмич. «Ну вот» служит у него вступлением к рассказу, как у председателя колхоза слово «товарищи». Кузьмич любит рассказывать о своей жизни в заключении. Еще до войны приехали за ним двое конных со станции. За два дня до их приезда сгорела колхозная рига. Будто бы за это Кузьмича и взяли. Он вернулся домой через десять лет. Рассказывает он примерно одно и то же: как лес валил, как везли туда и как возвращался обратно. Рассказывает он безучастно, не интересуясь даже, слушают его или нет. – Ну вот, – повторил Кузьмич. – Приезжаю в Вологду. А там мне пересадка. На вокзале народу – плюнуть некуда. Хлеба хотел купить – далеко идти. А сундучок-то тяжелый. И оставить не с кем. Одна баба, примечаю, смотрит и смотрит. Подходит. Можно ль, говорит, служивый, на твоем сундучке посидеть? Какой, говорю, к едреной бабушке служивый…
– Батя, не отставай! – командует Маруська.
Она идет посередине дороги. Ноги ее обуты в литые резиновые сапоги. Сапоги большие, голенища гулко хлопают по икрам. Когда она ступает левой ногой, будто лягушка квакает: в сапоге, пожалуй, оторвалась байковая подкладка, и пятка скрипит о голую резину. Маруська этого не замечает. Она сосредоточена на какой-то тайной мысли, может быть, поглощена ходьбой. Она низкозадая, ноги у нее коротенькие, но мужчины еле поспевают за ней. Широкая сутулая спина перечеркнута лямкой от сумки. Генка не видит Маруськиного лица, но, представив его, радуется, что не видит. Генка не обижается на нее. Генка ее побаивается. Она всегда сердита. Он раза два или три за все время видел, как она улыбалась: курносый нос еще больше поднимался кверху, а рот растягивался настолько широко, что были видны десны. Маруська – старая дева.
Идут знакомыми местами. Можно закрывать глаза – не собьешься. Встало солнце. Осинник разложил по земле на просушку яркие пятнистые сети. Маруська из низкорослого мужичка превратилась в великана – ее тень не умещается на земле. То голову, то даже полтуловища откусывает обрыв реки. К горьковато-сладкому неназойливому запаху осины примешивается отяжелевший за ночь настой смолы и хвои. Начинается бор. Дорога становится песчаной, идти по песку в тяжелых сапогах трудно. Все трое сворачивают на обочину. Под ногами скользит хвоя, потрескивают сухие сучки, шуршит вереск. Вытягиваются гуськом, спина Кузьмича заслоняет Маруськину спину.
Кузьмич ходит мелкими частыми шажками, видно, боится разбередить боли в пояснице. Ему много лет, но его еще надолго хватит. Когда ставили избу его младшей дочери, вышедшей замуж, он цопал бревна с комля, а зять, здоровенный парень, – с верхушки.
На голове Кузьмича приплюснутая засаленная кепочка, из-под которой торчат черные, побитые сединой, патлы. Кузьмич летом не стрижется и к осени становится косматым. Летом – страда, в парикмахерскую на станцию ехать некогда. Да и то сказать: парикмахерская помещается рядом с чайной, где вместо чая продают водку и серые щи из капустного крошева. Если уж попадет Кузьмич на станцию, то возвращается навеселе. Еще с прогона слыхать его песню «Когда б имел златые горы…», а в перерывах – двустрочную припевку-частушку: «Ух-ха-ху́, ха-ху́, ха-ху́. Хоть бы ху́деньку каку́». Генка не помнит, когда Кузьмич повышал голос, разве что когда пел. Петь Кузьмич любит громко. Лает ли на него Маруська, материт ли его жена Агафья, – он отвечает на это смиренно-безучастно, точно таким же тоном, как рассказывает. У Кузьмича в обиходе есть, правда, два-три мягоньких матюжка, но они для него не больше, как знаки препинания.
* * *
Они идут в Трестуны – самый дальний колхозный сенокос. Река в этом болотистом месте собирает много ручьев и речушек и так умудряется петлять, что широкую пойму дробит на множество разных кусочков. Слово «Трестуны» все, кроме председателя колхоза, да и то только когда он держит перед народом речь, произносят чуть иначе, грубо, зато уж точно передавая суть разбросанности пожен и поженок.
Лужайки здесь богатые, травы высоченные, в пояс, косить надо по-особому. Прокос во всю ширь тут не возьмешь – косы не дотащишь до валка. Ни сенокосилку, ни конные грабли, ни волокуши, ни телегу здесь в дело не пустишь – болотина. Сено мечут в стога на месте, на высокой подстилке из прутьев, и подвозят его к колхозным дворам и личным хлевам только зимой, когда вся эта непролазность для тракторов и лошадей скована льдом.
Три дня назад, когда артель на широкой пожне сметала последние стога, председатель колхоза сказал, что остались на реке невыкошенными только Трестуны и что в них можно косить не сообща, а семьями или группами, кто как пожелает. Все пожелали не разделяться и в Трестунах – так веселее. Откололся только Кузьмич и то, наверно, потому, что об этом в самый подходящий момент напомнила ему тычком в бок Маруська. Кузьмич сказал, на этот раз громко, на́ люди, что они с Маруськой берут к себе Генку. Бабы заперемигивались, заперешептывались, а Маруська потемнела лицом.
* * *
Вчера и позавчера – как один день – косили эту неподатливую, невпроворот траву. Маруська злилась, и, кроме лая, мужчины ничего не слышали от нее. Все было не по ней: и то, что связались с трактором, а потому не захватили хорошую росу, и то, что, хватаясь скорей за косы, впопыхах забыли поставить в воду бутылки с молоком, и оно прокисло, и еще черт знает что. Маруська первой обкосила куст и пошла вокруг него крутым прокосом, оставляя за собой зеленую щетку с двумя дорожками от ног и тяжелый, будто спрессованный валок. Генка поспешил вторым, прокос его был поуже, что его злило, но злость не всегда прибавляет силенок. Ему надо было во что бы то ни стало держаться Маруськиных пяток.
Он взмок на первом же прокосе.
К мокрому лицу особо рьяно липла мошкара. Кожа зудела, но Генка, боясь потерять хотя бы один взмах косой, терпел. Для него ничего не существовало на свете, кроме задников литых сапог, черными крысами скользивших по голому, будто остриженному логу. Генка наперед прикидывал, что в следующий прокос на его пути попадется куст или проплешина, радовался предстоящему хотя бы десятисекундному роздыху и отчаивался, если везло не ему, а этой чертовой сенокосилке мощностью в одну, но дюжую бабью силу. Генка выигрывал время на обратном пути, к новому прокосу, когда надо разбивать свой валок. Он приноровился скорым шагом идти вдоль валка и успевать косовищем расстилать траву вроде бы не хуже других.
Генка все-таки приотстал, но Немного меньше, чем Кузьмич от него. Однако Маруська не светлела лицом. Она только гавкнула:
– К покрову твой валок высохнет!
Когда Маруська останавливалась, чтобы поточить косу, Генка махал и махал, но коса-то тупилась и у него, и Маруська снова уходила. А тут еще напасть: из-под кепки по лбу, уже по просоленной коже, торил все новые дорожки пот. Когда он прорвет защитные полоски бровей, попадет в глаза, надо бросать косу и бежать на речку ополоснуться. Пот будет разъедать глаза, а это пострашнее мошкары.
Выручил Кузьмич. Он подошел с бруском.
– Дай-кось, направлю маленько.
Крикнул Маруське:
– Остановись, самопал! Вспыхнуть можно.
Потом отмахивали до самого обеда. Маруська все-таки оторвалась, обошла и Кузьмича, и Генку. Когда старшие, сев на охапку травы, начали потрошить сумку, Генка пошел к реке. Он видел перед собой зеркало воды, перевернувшее на себя и темно-зеленый камыш, и светлый, с серебристым подбоем ивняк, и синий дальний ельник, и голубое небо. Да только любоваться – потом как-нибудь а сейчас – очумевшей головой побыстрее разбить это зеркало, расплескать и смешать все краски. Дно реки мягкое и нежное, длинные пряди водорослей щекотали лицо, обвивали руки, нашептывали на ухо что-то ласковое, чего не слышал он там, на берегу. Изо рта по щеке рванулись пузырьки воздуха и белым облачком умчались к зеленоватому потолку воды, который вдруг показался высоким-высоким. Генке почудилось, будто кто-то обнял его, потянул в самую гущу водорослей. Генка в испуге с силой оттолкнулся и неожиданно быстро проткнул головой этот потолок, пробкой выскочив из сумрака в разноцветье лета.
Все было хорошо. Он снова готов преследовать Маруськины сапоги.
Косили до вечера. После ужина, убаюкивая ноющие руки, Генка сразу же заснул, будто нырнул в прохладный сумрак воды…
* * *
Трое косцов только пришли на свою делянку, как услыхали далекое всхрапывание трактора. Дядя Коля всегда зачем-то так делал: прежде чем заглушить мотор, несколько раз на всю катушку давил газ. Это приехала артель. Через полчаса, миновав болото с дремучим ельником, артельные тоже начнут работу. Стоило вставать ни свет ни заря, плюснить восемь километров с полной косцовской выкладкой на боках и плечах ради того, чтобы успеть пройти лишних два-три прокоса? Маруська была мрачнее тучи, но Генку как за язык дернуло:
– Что? Всех перехитрили? Себя сами перехитрили.
Когда солнце высушило росу и окончательно подвялило позавчерашнюю кошенину, Кузьмич взял топор и пошел в лес, чтобы нарубить сучьев для остожья. Маруське напоследок достался полный прокос. Генка, дотюкав кустики осоки, сбегающей в мшистую кочковатую болотину, стал протирать косу.
– Рано шабашить собрался.
– Так ведь болотина. Коровы осоку не едят.
– Твоя Алина и осоку сожрет. Солощая на чужое сенцо.
– Алина не хуже твоей коровы. И ест мое сено, а не твое.
– Ишь, говорок, – отвечает Маруська, а сама точит косу. Косу точить красиво она не умеет. Брусок в ее руках не поет, а гавкает. – Взяли из милости, а ему еще и палец в рот не клади.
Генка понимает, что зареветь при этой чертовой девке – дело совсем не мужицкое.
– Вы меня и так батраком сделали, – говорит он, унимая дрожь в голосе. – Работал со всеми – как все зарабатывал. А вы мне из заработка четверть даете, а не треть. Ломлю-то наравне с вами…
Из-за куста вывернул Кузьмич с первой охапкой веток на плече. Маруська, злобно бормотнув что-то под нос, полезла с косой в кочки. По лезьву задзенькала редкая осока.
– Брось дурью маяться, – сказал Кузьмич и отослал обоих копнить валки.
По дороге встретили председателя колхоза со счетоводом: наверно, прикидывали, когда можно будет развязать руки с Трестунами и отправить народ на клеверище. Председатель смотрит на Генку, узнает, улыбается:
– А-а, Геннадий Филиппыч! Вишь ты, мать уже заменил. Мать-то работящая была. Да-а-а. Мне, мужику, бывало, пятки резала.
Председатель ни с того ни с сего хохочет так, что под белой рубахой прыгает его круглый живот.
– Филиппиха-то однажды что учудила… Хо-хо-хо! Кузьмичу говорит, уступай, мол, прокос. Спишь, мол, на косовище. А он – ни в какую. Ха-ха-ха! Стыдно ведь – баба мужика обгонит. Ну, Филиппиха в сердцах обкосила его справа… И оставила на островке… Хо-хо-хо! Он если забыл, я ему напомню сейчас…
Смеялся только счетовод. Председатель глянул на Генку:
– Ты чего такой? Умаялся? Так беги, искупнись. Опять как огурчик будешь.
– Недосуг! – буркнул Генка. Ему бы в открытую порадоваться за мать, да боязно – Маруськино лицо того и гляди молния расколет, председатель только масла в огонь подлил.
Генка берет грабли и старается работой выбить из головы безрадостные мысли. Он бы давно плюнул на эту семейку. Наверно, мать, зная, что Трестуны обычно косят посемейно, снесла что-нибудь из батиной одежи Кузьмичу, чтобы тот не бросил Генку. Что он сделает один? Ну, накосить, сгрести, скопнить… А стог сметать – тут, самое малое, вдвоем надо. Только не догадалась мать, что колхозникам надоело делиться и что нынче они и в Трестунах работают скопом. Но бросить эту семейку Генка не может: уйди от них в артель – вдруг Маруська еще больше озлится, да и перед артелью стыдно теперь уж, подумают, что ищет, где полегче.
Кузьмич тем временем возится у остожья. В лесу он вырубил длинную жердь-остожину, с комля затесал ее, как карандаш заточил, и начал белым острием буравить податливую землю. Поставит жердь на попа́, оторвет от земли и с нутряным выдохом-кхыком воткнет этот карандаш в подстриженный косами дерн. Замах у Кузьмича будь здоров, жердь уже не вытащить, он ее долго раскачивает, потом только выдергивает, – снова надсадное «Кхык!». Кхыкает до тех пор, пока верхушка остожины не перестанет раскачиваться, а будет только дрожать от ударов по комлю. Для пущей устойчивости Кузьмич с боков, наискось, втыкает подпорки-пасынки. Верхние их концы, встретившиеся у жерди-матери, он перехватывает и скручивает ивовыми прутьями.
Маруська с Генкой носят копны к остожью, окружая его все новыми и новыми ворохами сена. Копны носят на носилках, точнее, на двух легких сосновых шестах. Их продергивают параллельно друг другу под копной. Маруська работает, как стенные часы, у которых только что подняли гирьку. Дождешься тут перекура – черта с два.
Маруськины копны поаккуратней и поплотнее, в дороге они не растрясаются, и подгребать за ними надо самую малость. У Генки от этого темно на душе, он понимает, что и здесь у него гайка слаба, поэтому старается опередить Маруську и занять место за копной, чтобы идти сзади. Там труднее: надо подстраиваться под Маруськин шаг, дороги из-за копны не усмотришь, на пути попадаются кочки, не дай бог споткнуться. Вдобавок, только позади идущему видно, в какую сторону норовит упасть копна. Накренилась она вправо – подымай выше правую руку с шестом и так, скособочившись, тащись до остожья.
Маруська не замечает стараний напарника. Ей бы выдавить из себя пару одобрительных слов, тогда бы он воспрянул духом.
Все больше ярятся слепни. Откуда они взялись только! Мельтешат, ждут удобного момента, чтобы наброситься и жрать твою кровь. Если сядут на лицо, можно мотнуть головой, в конце концов, вытянув губы трубочкой, сдунуть со лба, со щеки, с носа. Но кисти рук открыты и беззащитны, носилки ведь на ходу не бросишь. Слепням только этого и надо. Черные – маленькие, желтые – покрупнее, они сплошь облепляют запястья, жалами прокусывают кожу. И начинается для них пиршество, а для Генки очередная пытка, время которой он отсчитывает сотнями непомерно долгих шагов до остожья. И когда, наконец, брошены на землю шесты, Генка сгребает своих мучителей, остервенело давит их в кулаке. Искусанные места покрываются сеткой из алых капелек. Новая ходка от копны до остожья еще трудней – слепни чуют и видят кровь. Их будет еще больше.
У Маруське на руках холщовые рукавицы.
Когда принесли последнюю копешку, Кузьмич уже метал стог. Кузьмич верит в приметы и стога мечет в одних полотняных подштанниках и такой же рубахе. Баб он не стесняется, а они устали подшучивать над ним. Стога у него получаются пузатыми и островерхими, но без плеч – никакая непогода им не страшна.
Кузьмич сказал:
– Парит-то седни как, едят тя мухи. Вёдро кончится. Сметаем, тогда уж и портки высушим.
Маруську он послал копнить на дальней делянке, Генку – подгребать за сношенными копешками. Когда стог вырос выше кепки, Кузьмич сказал:
– Генька, полезай на стог.
Генка стаивал на стогу не раз и знал, что там можно отдохнуть. С Кузьмичом – не с Маруськой, Кузьмич не надрывал пупок, не выхватывал вилами громадных охапок. Он часто, мелко нанизывал и нанизывал на вилы пучки и потом аккуратной, плотной охапкой подымал на стог, клал на загодя облюбованное место. Такими охапками он проходил весь стог по краям (Генке оставалось только подправлять граблями да уминать), потом негромко командовал:
– Забивай середку.
Генка принимал охапки, раскладывал, обвивал их вокруг жерди-остожины, затем снова проходил круг по краям.
Когда начали сужать брюхо стога, вершить, Генка потной спиной почувствовал свежий верховой ветерок.
Кузьмич еще наддал.
Ветерок утих, снова стало душно, но вдруг потянул так, что громко залепетала высокая осина в ближайшем леске. Генка глянул на нее. Листья горели ярко-зеленым огнем – за осиной подымалась темная синева.
С беременем сена на плече, как муравей, появилась Маруська. Сбросив его, зыркнула на стог и пролаяла:
– До коих пор ты, батя, будешь пригревать этого..?
Генку как варом обдало. Маруська материлась редко, но если взлает, то уж и укусит. Генка выпустил грабли из рук. Они юркнули со стога, шмякнулись оземь колодкой. Колодка отскочила от граблевища. Кузьмич будто ничего не видел и не слышал, только ровнехонько, вполголоса, сказал:
– Не бери в голову, Генька. Не бери. Шлея под хвост попала.
Но Маруська тоже услышала, и ее прорвало:
– Жилься тут… а он будет на стогу прохлаждаться… Перевидала я на своем веку таких работничков… Повесили хомут на шею… Я те устрою сладкую жисть, я те устрою…
Генка тихо сполз со стога и, не разбирая дороги, побрел по делянке.
* * *
Чтобы выйти к дороге через болотину, надо миновать пожни, где убирала сено артель. Генка боялся попасться на глаза кому-либо из колхозников. Стыд-то какой – прогнали с покоса. Он считал себя мужчиной, хозяином в доме. О доме же в его деревне судили по хозяину. К болотине он пробирался не тропинкой, утоптанной посередине пожни а вдоль опушки. И если на глаза попадались бабьи сарафаны и кофты, то он готов был обернуться мышью – лишь бы не увидели его…
На болотине – шум ельника, мрак, запах мха и гнили. Ноги приклеивались к иссиня-черной, влажной даже в такой зной земле, мятой-перемятой сотнями ног. Глаза его натолкнулись на хорошо пропечатанный след, в елочку, литого сапога. Каблук был откушен другим отпечатком – кирзача с копеечками-вмятинами на подошве. Генку словно дернуло от догадки. Это утром он, идя за Маруськой, наступил на ее след, но не смял, только коснулся.
Он остервенело затоптался на этой ненавистной елочке и плясал до тех пор, пока не смешал с грязью все то, что оставалось в этом лесу от Маруськи. Потом вдруг догадался, что утром по этой дороге прошло после них еще несколько десятков пар ног, обутых и в литые и в кирзовые сапоги, и что, значит, он не те следы топтал. И он заплакал.
Лес ярко вспыхнул, гулко лопнуло небо и пролилось. По лицу потекли ручейки, он их слизывал, они были солеными, и он не разбирал, что слизывал: слезы или дождь, потому что и дождь был соленым от пота, много раз увлажнявшего лицо и высыхавшего там, на покосе. Он не стал прятаться под елкой. Не потому, что боялся, – как бы в елку не ударила молния и не убила его, а потому, что ему, плачущему, с расслабленными, наконец, нервами, было все равно: течет или не течет за воротник, между лопатками, до поясницы вода, прилипают или не прилипают к коленкам брюки, чавкает или не чавкает в кирзачах.
Генка не помнил, как по скользкой грязи прошел болотину, как вылез на первый боровой бугор. Здесь он наткнулся на оставленный дядей Колей до вечера трактор с тележкой и сел под эту тележку. Земля была укрыта толстым слоем бурых иголок. Моют его дожди, засыпают снега, а он по-прежнему держится добротной попоной и только снизу прикипает к земле и так же незаметно становится землей. Генка покусывает эти рыжие иголки. Они давно умерли, но пахнет смолой, во рту остается живой горьковатый привкус. Генка перебирает новые – замечает, что не может найти иголку саму по себе, иголку-сироту.
Все они, даже мертвые, скреплены парами. Иголок-троек тоже нет… Да, да… Кузьмич и Маруська… Он, Генка, третий… Конечно, Маруська давно задумала избавиться от него, только ждала подходящей минуты спустить собак. Маруська упряма, ее не объедешь на кривой. Зря он перед ней – мелким бисером, когда хватался за задние концы носилок. Это ей в руки лишний козырь: не понятно ей, что ли, что Генка вроде бы винится перед нею. А коли так, то ей-то и бог велел считать его виноватым. Конечно, ее бесило, что вот, дескать, сопляк, а работает, чтобы брат в люди выходил и чтобы потом ему, Генке, он помогал в люди выходить, а я, дескать, Маруська, ломи эту чертову работу и не знай просвета.
Дождь уже не выбивает барабанной дроби по железному дну кузова, а глухо шумит и булькает – в тележке, наверно, может теперь нырять воробей. И под тележкой хвоя пропитывается сыростью. Генка начинает дрожать, рубаха и штаны, приклеиваясь к телу, обжигают холодом. Он меняет место и нечаянно прислоняется к резиновому скату.
– Во, дурак-то, раньше не догадался.
Скат теплый, как лежанка печи, на нем можно согреться и высушить рубаху. Жалко, что штаны останутся мокрыми – ни зад, ни коленки к колесу не пристроишь.
Маленькая радость заслоняет большую беду. Генка теперь уже просто так, без горького повода, думает о Кузьмиче.
Кузьмич не отказывал в помощи. Но… Трудно сказать о нем, какой он: хороший или плохой… Скорей всего – н и к а к о й. Да вот тебе история с фуганком…
Как-то Генка задумал сделать себе фуганок. Если бы он представлял, что эта работа не раз, два – и готово, то и старенький рубанок был бы по-прежнему мил. Пошел спросить совета у Кузьмича.
– Не, Генька, не сгоношить те фуганка, – сказал Кузьмич и скрылся в чулане. Вернулся – в руках готовая колодка для фуганка.
– На вот, бери.










