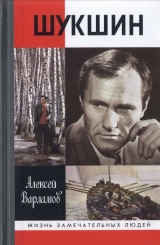
Текст книги "Шукшин"
Автор книги: Алексей Варламов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 36 страниц)
ТАК ЧТО ЖЕ С НАМИ ПРОИСХОДИТ?
И все же самый горький из последних литературных сюжетов в жизни Василия Макаровича был связан с рассказом «Кляуза», опубликованным одновременно в журнале «Аврора» и в «Литературной газете». Рассказ этот, с одной стороны, перекликающийся с чуть более ранним по времени написания «Ванькой Тепляшиным», герой которого также уходит из больницы из-за хамства красноглазого вахтера, а с другой стороны, совершенно новый, с указанием точного времени и места действия и перечислением реальных действующих лиц (Василия Белова, поэта Виктора Коротаева, не пропущенных вахтершей в больницу к Шукшину), известен больше всего своим окончанием, вопросом: «Что с нами происходит?», который прозвучал на всю страну как колокольный звон, как призыв, как пароходный или фабричный гудок, как сирена, горн, был услышан повсюду вплоть до Кремлевского дворца и стал шукшинским завещанием. Это был рассказ, вызвавший очень неоднозначную реакцию не только у администрации больницы, которая поднялась на защиту своей сотрудницы и в дальнейшем не позволила ее уволить, и не только у Евгения Евтушенко, который был возмущен шукшинской «Кляузой», поскольку писатель-де обрушился на нищую больничную вахтершу, – еще одним оппонентом Шукшина стал его тезка Василий Белов, которому, видимо, по этой причине отказал в праве считаться другом Шукшина Анатолий Заболоцкий: «Для Шукшина понятие “дружба” было преувеличением даже для его отношений с Василием Ивановичем Беловым».
В мемуарах Белов описывал свою размолвку с Шукшиным следующим образом: «…я тоже был обижен публикацией “Кляузы”. За нее уцепились наши общие недруги. Насколько мне известно, Макарыч просил жену показать “Кляузу” Белову и, если тот возражать не станет, отдать ее в печать. Лида же не показала мне рукопись, поспешила напечатать, сказалось вечное женское стремление к благополучию деток. В своем письме к Шукшину я, вероятно, попенял Лидии Николаевне за “Кляузу”, так как Макарыч пишет: “Лида прочитала по телефону твое письмо… Вася, это не будет всуе, это про то, как один лакей разом, с ходу уделал 3-х русских писателей. Это же славно! Не мы же выдумали такой порядок. Чего тут стыдного? Ничего, ничего – я чувствую здесь неожиданную (для литературы) правду… Клейма на такую форму рассказов у них еще нет, в эту-то прореху и сунуть. Толя едет к тебе в деревню… Отступаете? Ну, отдышитесь. Напиши за неделю ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ рассказ: так мне стали нравиться документальные рассказы. Ну, душой буду с вами, а телом в Кунцевской больнице. Вот же хворь – это стало уже угнетать: я же так ни черта не сделаю! Так охота работать!”».
Виноватой, таким образом, оказалась Лидия Николаевна, что никак не вяжется с фактами, поскольку рассказ «Кляуза» был опубликован в журнале «Аврора» в августе, а в «Литгазете» в сентябре 1974 года (да и при чем тут деньги, не очень понятно – вряд ли гонорар был так уж велик), а возмущенное и одновременно заботливое письмо Белов написал Шукшину за полгода до этого, в феврале, когда Василий Макарович лежал в Кремлевской больнице:
«Макарович!
Надо бы тебя хорошенько попарить. В моей деревенской бане. За то, что всуе употребил мое имя. Еловым веником. Но поскольку ты попал в такую больницу, Тимониха должна уступить. Пожалуйста, лечись, как следует, не торопясь, долго и понадежней», – фактически прощал он тезку, и тут не очень понятно: то ли Шукшин посыпал ему текст заранее (а рассказ был написан в конце декабря 1973 года), то ли что-то говорил о замысле, но в любом случае процитированное Беловым в мемуарах шукшинское письмо было как раз ответом на эти строки – еще раз повторим – задолго до публикации рассказа.
Больше того, самостоятельное решение Шукшина опубликовать «Кляузу», несмотря на возможные возражения Белова, подтверждается письмом Василия Макаровича главному редактору «Авроры» Глебу Горышину в марте 1974 года:
«Что касается Васи Белова, то… Я, правда, его не видел (я лежу в больнице, в другой уже, за городом), но просил жену рассказать ему, в чем дело (он приезжал на пару дней), он сказал, что “это ему (мне, в смысле) виднее, – на его совести”. Моя совесть чиста – там все правда. Да и мы ли выдумали порядок, в котором, соблюдая его, выглядишь идиотом? Чего тут стыдиться-то? Ничего, Глеб. Если один лакей может уделать с ходу 3-х русских писателей – разве это так уж плохо? В этом есть смысл. Прошу тебя, откликнись, как получишь это! В любом случае».
Ответное письмо Глеба Горышина, к сожалению, неизвестно, но тот факт, что «Кляузу» он опубликовал, говорит сам за себя, однако больничный сюжет в судьбе двух Василиев имел драматическое продолжение в ту последнюю шукшинскую зиму, переходящую в добрую и бестолковую, как недозрелая девка, весну.
Случилось так, что в феврале 1974 года у Белова тяжело заболела годовалая дочь Аня.
«Видел бы ты нашу детскую больницу! – писал Белов Шукшину из Вологды через несколько дней после отлупа еловым веником за «Кляузу». – Это кошмар. Тесно, грязно. Эти маленькие страдальцы уже и не протестуют, они сдались. (Анюта моя не сдавалась до конца, хватала сестер за волосы. А когда ей зажимали ручонки, билась головой. Это во время уколов в голову-то…) Теперь дома. Ей всего четырнадцать месяцев, но у нее уже что-то исчезло детское. Появилось что-то новое. Как звереныш была первые два дня дома. Теперь понемногу приходит в себя, но я боюсь: уже что-то потеряно. Святое и необходимое. Бог знает что творится! Такие дела <…> Посылаю снимок – это до болезни (сейчас худая и стриженая моя дочка)».
Каково было Шукшину с его страхом за детей это читать. И вот его ответ:
«Спасибо за письмо и за фотографию. Славный человечек там, сколько любопытства в двух “омутах” (из твоего арсенала)! Разве она может стать другой. Слава Богу, что все теперь хорошо. Вишь, какие якоря в жизни кинуты! Надо и свое здоровьишко поберечь. Давай, как встретимся, поклянемся на иконе из твоего дома: я брошу курить, а ты вино пить. С куревом у меня худо: ноги стали болеть – это, говорят умные доктора, на пять лет. А там – отпиливать по одной. А ты бросай вовсе другую заразу – тоже жить можно, даже лучше – это я из собственного опыта говорю». И чуть дальше: «Вот штука-то: две больницы в одной стране… Эх, сколько мы не знаем, Васюха! И это еще – не край, есть и другое, и много. Переезжай в Москву! Решись».
И в следующем письме: «Не падай духом, не падай духом, Вася, это много, это всё. Много не сделаем, но СВОЕ – сделаем, тут тоже природа (или кто-то) должны помочь. И – немного – мы сами себе, и друг другу».
Переехать в Москву Белов так и не решился, но если это не дружба, то что тогда этим словом называется?
А шукшинская мысль о двух Россиях, элитарной, обслуживающейся в Кремлевской лечебнице с ее предупредительным, благожелательным, вышколенным персоналом, и России вологодской, беловской с ее грязными и тесными больничками, России, говоря о которой даже эти двое признавали, что многого не знают, отразилась в одном из последних рассказов «Чужие», опубликованном также за месяц до смерти автора в «Нашем современнике», из которого он, несмотря на свои угрозы больше там не печататься, не ушел. И хотя действие в том рассказе относилось к временам дореволюционным и героями были два антагониста – великий князь Алексей Александрович Романов, по вине которого страна оказалась не готова к Русско-японской войне, и сростинский пастух дядя Емельян, побывавший на той войне в плену, – финал «Чужих» предстоял вечным мотивом расколотой, самодостаточной русской истории, как понимал ее вождь несостоявшегося народного восстания Василий Шукшин и переносил действие с земли на небо: «Хочу растопырить разум, как руки, – обнять две эти фигуры, сблизить их, что ли, чтобы поразмыслить, – то сперва и хотел, – а не могу. Один упрямо торчит где-то в Париже, другой – на Катуни, с удочкой. Твержу себе, что ведь – дети одного народа, может, хоть злость возьмет, но и злость не берет. Оба они давно в земле – и бездарный генерал-адмирал, и дядя Емельян, бывший матрос… А что, если бы они где-нибудь ТАМ – встретились бы? Ведь ТАМ небось ни эполетов, ни драгоценностей нету. И дворцов тоже, и любовниц, ничего: встретились две русских души. Ведь и ТАМ им не о чем бы было поговорить, вот штука-то. Вот уж чужие так чужие – на веки вечные. Велика матушка-Русь!»
Кто-то называл его шовинистом…
ЗАПАХ СТРАХА
Василий Шукшин умер за два дня до окончания съемок фильма «Они сражались за Родину» в ночь на 2 октября 1974 года. Его смерть мифологизирована не меньше, чем жизнь, а описана и в литературе, и в журналистике, и в документальных фильмах, коих за последние годы вышло немало, даже более подробно. Бывший моряк, три года отслуживший на берегу Черного моря, скончался на борту пассажирского парохода «Дунай», пришвартованного к правому берегу Дона. Диагноз, поставленный при вскрытии, показал: смерть наступила вследствие сердечной недостаточности. Иногда ссылаются на высказывание врачей, что у Василия Макаровича было сердце восьмидесятилетнего старика. Говорят также о табачно-кофейной интоксикации[71]71
Ср. в дневнике писателя Георгия Елина: «Что, кроме порядка на рабочем столе, поразило – целый склад растворимого кофе: штабеля банок под столом, на подоконнике, на полу возле балконной двери. Очень много, даже для привычного к заначкам кофемана. Заметив любопытный взгляд, Федосеева сказала: Вася, слава Богу, почти совсем пить бросил, теперь алкоголь кофеином заменяет. Все лучше, чем водку-то. Ему одной растворимой банки на день-два хватает…»
[Закрыть]. А еще о том – что Шукшина убили.
Эта версия за истекшие сорок лет, а особенно после начала перестройки, когда говорить и писать стало можно о чем угодно, была много раз оспорена, проверена, перепроверена, но, как сказала в одном из интервью старшая дочь Шукшина Екатерина Васильевна: до тех пор, пока мне не докажут обратное, буду считать, что смерть была естественной. Однако был у нее мистический шлейф в духе поздних шукшинских рассказов.
«Удивительное совпадение. За день до смерти Василий Макарович сидел в гримерной, ожидая, когда мастер-гример начнет работать, – вспоминал Юрий Никулин. – Он взял булавку, опустил ее в баночку с красным гримом и стал рисовать что-то, чертить на обратной стороне пачки сигарет “Шипка”. Сидевший рядом Бурков спросил:
– Что ты рисуешь?
– Да вот видишь, – ответил Шукшин, показывая, – вот горы, небо, дождь, ну, в общем, похороны…
Бурков обругал его, вырвал пачку и спрятал в карман. Так до сих пор он и хранит у себя эту пачку сигарет с рисунком Василия Макаровича».
А вот пространный отрывок из книги Владимира Коробова, ценный тем, что был написан благодаря общению автора с Георгием Бурковым.
«1 октября 1974 года в киногруппе “Они сражались за Родину” был обычный и совсем нетрудный съемочный день, основная работа была уже позади. Шукшин – накануне много говорили о “Разине”, разрешение на запуск которого было наконец получено, – чувствовал себя усталым и разбитым. Они решили с Бурковым после съемок съездить в станицу Клетскую, снять усталость в бане.
…Поехали на “газике” в Клетскую. Молодой шофер Паша неудачно развернулся и нечаянно переехал неосторожную станичную кошку. Шукшина начали бить нервные судороги, он с трудом успокоился. Перед баней шофер рассказал старику-хозяину (отцу заведующего местной кинофикацией) о дорожном происшествии. “Не к добру, – сказал старик, – к большой беде примета… Ну, да это раньше в приметы верили, сейчас все не так…”
Мыться расхотелось, только погрелись слегка. Василий Макарович даже на полок не поднимался, посидел внизу[72]72
И тут, конечно, опять вспоминается пророческий «Алеша Бесконвойный»: «Потом Алеша полежал на полке – просто так. И вдруг подумал: а что, вытянусь вот так вот когда-нибудь… Алеша даже и руки сложил на груди и полежал так малое время. Напрягся было, чтоб увидеть себя, подобного, в гробу. И уже что-то такое начало мерещиться – подушка вдавленная, новый пиджак…»
[Закрыть]. На обед у гостеприимного старого донского казака была лапша, мед, чай со зверобоем. Дважды – до обеда и после – Шукшин звонил в Москву. К телефону никто не подошел[73]73
Волгоградская журналистка Ксения Бурменко в статье «Играл на износ», опубликованной в «Российской газете» 2 октября 2014 года, процитировала слова одного из жителей станицы Клетской: «Иван Алексеевич Чекунов, начальник нашего аэродрома и „авиации“ – в то время нашего основного вида транспорта (с ним дружили все артисты), рассказывал, что накануне смерти Шукшин был очень подавлен. Приходил в Клетскую на почту, дважды пытался дозвониться в Москву, домой. Не получалось. Вечером, наконец, ему ответили. Он узнал, что его жена, Лидия Николаевна, уехала на съемки в Болгарию. Очень он не хотел этой поездки – в Москве без родителей оставались маленькие дочери, но она его не послушала. Жара, баня, переживания из-за семьи; вечером Василий Макарович малость выпил». Но насколько все это соответствует действительности? Во всяком случае, то, что Лидия Николаевна была в Болгарии, точно не могло стать для него новостью. Еще 28 сентября Василий Макарович писал матери: «Лида сейчас в Болгарии (на 10 дней до первого октября), с детьми живет теща…» Скорее он ожидал, что 1 октября она уже вернется, но Лидия Николаевна в Болгарии задержалась.
[Закрыть].
Вернулись на “Дунай”. В каюте у Буркова стояли два стакана с холодным кофе. Шукшин подгорячил свой стакан маленьким кипятильником и выпил. Вроде бы оживился. Немного поговорили на разные темы. Бурков предложил лечь сегодня спать пораньше. Да, согласился Шукшин, хорошо выспаться бы не мешало, и вскоре ушел в свою каюту, которая располагалась рядом.
Буркову не спалось. Посреди ночи, примерно в два-три часа, он услышал стук двери и знакомый звук шагов. Он выскочил на палубу. Шукшин, в съемочном галифе и белой нательной рубашке, держался левой рукой за сердце.
– Ты что, Вася?..
– Да вот, защемило что-то и не отпускает, а мне мать говорила: терпи любую боль, кроме сердечной… Надо таблетки какие-нибудь поискать, что ли… – Врача на теплоходе не оказалось, уехал в этот день на свадьбу в одну из станиц. Нашли с помощью боцмана аптечку. Валидол не помог. Бурков вспомнил, что мать у него пьет от сердца капли Зеленина. Шукшин принял это лекарство.
– Ну как, Вася, легче?
– А ты что думаешь, сразу, что ли, действует? Надо подождать…
Зашли в каюту Шукшина.
– Знаешь, – сказал Василий Макарович, – я сейчас в книге воспоминаний о Некрасове прочитал, как тот трудно и долго помирал, сам просил у Бога смерти…
– Да брось ты об этом!..
– А знаешь, мне кажется, что я наконец-то понял, кто есть “герой” нашего времени.
– Кто?
– Демагог. Но не просто демагог, а демагог чувств… Я тебе завтра подробнее объясню…
– Вася, знаешь что, давай-ка я у тебя сегодня лягу…
Шукшин посмотрел на вторую кровать, заваленную книгами, купленными в Волгограде, Клетской и Ленинграде (всего их было – назовет потом опись – сто четыре названия), бумагами и вещами.
– Зачем это? Что я, девочка, что ли, охранять меня… Нужен будешь – позову. Иди спать…»
Разговаривал с Бурковым о смерти Шукшина и Анатолий Заболоцкий, и его рассказ в чем-то совпадает, в чем-то нет с версией Коробова.
«Помню серо-синего Георгия Буркова. Вот что мне рассказывал Жора в тот день, когда он вместе с Бондарчуком, Тихоновым, Губенко привез в Москву из Волгограда транспортным самолетом цинковый гроб. Я спросил его: “Как все хоть было? Когда ты его видел последний раз?” Передаю смысл его рассказа: “Вечером в бане были, посидели у кого-то из местных в доме. Ехали на корабль – кошку задавили – такая неловкая пауза. Тягостно было. Поднялись на бугор возле ‘Дуная’. Потом по телевизору бокс посмотрели. В каюте кофе попили. Поговорили, поздно разошлись. В 4–5 часов утра еще совсем темно было, мне что-то не спалось, я вышел в коридор, там Макарыч стоит, держится за сердце. Спрашиваю: ‘Что с тобой?..’ —‘Да вот режет сердце, валидол уже не помогает. Режет и режет. У тебя такое не бывало? Нет ли у тебя чего покрепче валидола?’ Стал я искать, фельдшерицы нет на месте, в город уехала. Ну, побегал, нашлись у кого-то капли Зеленина. Он налил их без меры, сглотнул, воды выпил и ушел, и затих. Утром на последнюю досъемку ждут. Нет и нет, уже 11 часов – в двенадцатом зашли к нему, а он на спине лежит, не шевелится”. Кто зашел, не спросил ни я, ни он не говорил».
Сам Бурков в книге мемуаров написал о последних часах жизни Шукшина очень скупо, опустив все те подробности, которые поведал Коробову и Заболоцкому: «В последний вечер выглядел усталым, вялым, все не хотел уходить из моей каюты – жаждал выговориться. Вдруг замолкал надолго. Будто вслушивался в еще не высказанные слова. Или принимался читать куски из повести “А поутру они проснулись” – как раз завершал работу над ней, вот только финал никак не выходил, что-то стопорило. Помните, повесть обрывается на суде. “Я хочу сделать так. Во время чтения приговора в зал входит молодая, опрятно одетая – ‘нездешняя’ – женщина и просит разрешить присутствовать. Судья, тоже женщина, спрашивает: ‘А кто вы ему будете? Родственница? Знакомая? Представитель жэка?’ – ‘Нет’, – говорит женщина. ‘Кто же?’ – ‘Я – Совесть’”»[74]74
Этот эпизод описан в мемуарах Г. Буркова «Хроника сердца» трижды, и в одном из вариантов имеет продолжение:
«– Чья совесть? Их совесть? – судья показывает на пьяниц.
– Почему их? И ваша тоже, – отвечает мать».
Ср. также слова Шукшина в воспоминаниях Михаила Ульянова: «Знаешь, не получается пьеса. Я ее в общем-то написал, но не знаю, чем кончить. Я понимаю, что русскому мужику пить – горе. Я понимаю. Но чем кончить, не знаю. А просто-напросто сказать, что пить вредно, тоже не могу. Мне нужен финал, а придумать не могу. Поэтому вот такая история…»
[Закрыть].
И тем не менее именно он, Бурков, так и остался основным свидетелем и – по мнению многих – безмолвным хранителем последней загадки в судьбе Шукшина.
«Есть, есть тайна в смерти Шукшина, – утверждал актер Алексей Ванин. – Думаю, многое мог бы поведать Жора Бурков. Но он унес тайну в могилу. На чем основаны мои подозрения? Раз двадцать мы приглашали Жору в мастерскую скульптора Славы Клыкова, чтоб откровенно поговорить о последних днях Шукшина. Жора жил рядышком. Он всегда соглашался, но ни разу не пришел. И еще факт. На вечерах памяти Шукшина Бурков обычно напивался вусмерть. Однажды я одевал, умывал его, чтоб вывести на сцену в божеском виде. Тот хотел послать меня подальше. Я ответил: “Жора, не забывай про мои кулаки!” И тогда пьяный Бурков понес такое, что мне стало страшно и еще больше насторожило…»
«Жора Бурков говорил мне, что он не верит в то, что Шукшин умер своей смертью, – вспоминал актер Александр Панкратов-Черный. – Василий Макарович и Жора в эту ночь стояли на палубе, разговаривали, и так получилось, что после этого разговора Шукшин прожил всего пятнадцать минут. Василий Макарович ушел к себе в каюту веселым, жизнерадостным, сказал Буркову: “Ну тебя, Жорка, к черту! Пойду попишу”. Потом Бурков рассказывал, что в каюте чувствовался запах корицы – запах, который бывает, когда пускают “инфарктный” газ. Шукшин не кричал, а его рукописи – когда его не стало – были разбросаны по каюте. Причем уже было прохладно, и, вернувшись в каюту, ему надо было снять шинель, галифе, сапоги, гимнастерку… Василия Макаровича нашли в нижнем белье, в кальсонах солдатских, он лежал на кровати, только ноги на полу. Я видел эти фотографии в музее киностудии имени Горького. Но почему рукописи разбросаны? Сквозняка не могло быть, окна были задраены. Жора говорил, что Шукшин был очень аккуратным человеком. Да и Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина рассказывала о том, что, когда они жили в однокомнатной квартире, было двое детей, теснота, поэтому все было распределено по своим местам – машинка печатная, рукописи и так далее. А когда дети спали, курить было нельзя, и Шукшин выходил в туалет, клал досочку на колени, на нее тетрадку и писал. Разбросанные по полу каюты рукописи – не в стиле Шукшина, не в его привычках: кто-то копался, что-то искали.
Такими были подозрения Буркова. Но Жора побаивался при жизни об этом говорить, поделился об этом со мной как с другом и сказал: “Саня, если я умру, тогда можешь сказать об этом, не раньше”».
О подозрениях Георгия Буркова рассказывал позднее и его гример В. Мухин. Вот слова Буркова в его изложении:
«Я постучался к Шукшину. Дверь была не заперта. Но я не вошел, а от двери увидел… рука, мне показалось, как-то… Я чего-то испугался. Окликнул его. Ему же на съемку было пора вставать. Он не отозвался. Ну, думаю, пусть поспит. Опять всю ночь писал.
Я пошел по коридору и столкнулся с Губенко. “Николай, – попросил я, – загляни к Васе, ему скоро на съемку, а он чего-то не встает…”
Он к нему вошел. Стал трясти за плечо, рука как неживая… потрогал пульс, а его нет. Шукшин умер во сне. “От сердечной недостаточности”, – сказали врачи. Я думаю, они его убили. Кто они? Люди – людишки нашей системы, про кого он нередко писал. Ну, не крестьяне же, а городские прохиндеи… сволочи-чинуши…»
«В станице до сих пор ходят разные толки. И поводы для этого есть. Еще жива Евгения Яковлевна Платонова, партизанка, жена Героя Советского Союза Венедикта Платонова, – вспоминал житель станицы Клетской Н. Дранников. – Ее брали понятой. Евгения Яковлевна рассказывает, что, когда они приехали на “Дунай”, все в каюте было разбросано. Будто кто-то что-то искал. А сам Шукшин лежал скорчившись. Это никак не вяжется с фотографией криминалистов, где Василий Макарович лежит в ухоженной каюте, прикрытый одеялом, словно спит. А еще вызывают подозрение у станичников чистые сапоги. Зачем ему надо было мыть кирзачи? Ведь назавтра вновь с утра на съемку. Кто и что смыл с его сапог, гадают наши казаки».
А вот слова Лидии Федосеевой-Шукшиной:
«Я уверена: в ту ночь произошло убийство. Чего Вася и боялся последнее время. Он показывал мне список своих родственников, которые умерли насильственной смертью. Боялся, что разделит их участь. Предчувствие было. “Господи, дай скорее вернуться со съемок! Дай бог, чтоб ничего не случилось!” Случилось.
Когда на разных уровнях заявляют, что не выдержало больное сердце Шукшина, мне становится больно. Вася никогда не жаловался на сердце. Мама моя в тот год сказала: “Вася, ты такой красивый!” – “Это полынь! – ответил он. – Я такой же крепкий, такой здоровый, что полынь степная”.
Он чувствовал себя прекрасно, несмотря на безумные съемки, ужасную войну, которую снимал Бондарчук.
Как раз перед съемками “Они сражались за Родину” Бондарчук устроил его на обследование в самую лучшую цековскую больницу. Врачи не нашли никаких проблем с сердцем. У меня до сих пор хранятся кардиограммы. Там все слава богу.
Говорят, что умер оттого, что много пил. Ерунда! Вася не брал в рот ни капли почти восемь лет.
Что странно: ни Сергей Федорович Бондарчук, ни Георгий Бурков, ни Николай Губенко, ни Юрий Владимирович Никулин, ни Вячеслав Тихонов – ни один человек так и не встретился со мной позже, не поговорил откровенно о той ночи. Я так надеялась узнать именно от них, что же случилось на самом деле…»
«Странной, неожиданной» назвал в мемуарах смерть Шукшина и Василий Белов. И сколько ни проходит лет с того дня, вопрос все равно остается открытым, и практически каждый, кто знал Шукшина, к этой теме возвращается, излагает свою версию и добавляет свои штрихи.
«Когда ночью на “Мосфильме” доснимал последние кадры “Земляков”, кто-то вдруг крикнул с улицы: “Шукшина убили!” – рассказывал в интервью Валентин Виноградов. – Я выскочил во двор, а наутро сразу побежал в партком. Там мне сказали, что Вася умер от разрыва сердца. Но тот крик “Шукшина убили!” не давал мне покоя. Я сразу вспомнил, как Вася, приезжая в гости, рассказывал мне, что когда он после дневных съемок засыпал на корабле, то слышал разные подозрительные звуки, странные шелесты. Его рассказы об этом были как обнаженный нерв, мрачные, экспрессивные, с надрывом. Поэтому я и не мог поверить, что он умер сам. Один из редакторов картины “Они сражались за Родину” намекнул мне, что Шукшина отравили. Вскрытия не делали, пускай не врут. Поэтому утверждать что-то конкретное очень сложно. В России вообще хватает загадочных смертей».
О тайне этой смерти говорил в интервью журналистке «Известий» Елене Ямпольской и актер Николай Бурляев:
«– Насколько мне известно, вы часто говорите о том, что Шукшин не умер естественной смертью, но был убит. И ссылаетесь на Сергея Бондарчука.
– Когда я делал фильм о Лермонтове, я сказал Бондарчуку: “Удивительная закономерность: как только поднимается пророк на Руси, его убивают. Пушкин. Лермонтов… Двадцатый век: Есенин, Маяковский. Игорь Тальков, убитый на эстраде. Почему-то только в это сердце стреляли. Вся наша пошлая эстрада тащит страну на дно, а стреляли именно в этого человека, по чьим песням молодежь заново открывала Россию… А Высоцкий?! Медик, делавший вскрытие, говорил, что такое могло быть только от яда…” И вдруг Сергей Федорович говорит: “А Шукшин? Это тоже убийство, и я знаю, кто его убил”.
– И кто же?!
– Я спросил. Он не ответил.
– Но зачем могло понадобиться убивать Шукшина? Дважды лауреат Госпремии, орденоносец, он в диссидентах не ходил.
– Не знаю. Это версия. Не подтвержденная, но об этом многие говорят. Ему не дали сделать “Разина” – фильм по роману “Я пришел дать вам волю”. Помню, я был у тогдашнего руководителя Госкино Ермаша – по поводу моего “Лермонтова”, но тогда же поднял вопрос о запрещенной им работе Глеба Панфилова “Жизнь Жанны д’Арк”. И нечаянно надавил Ермашу на больную мозоль. Говорю: “У Глеба потрясающий сценарий. Не дайте, чтобы получилось, как с Шукшиным”. Тот аж поднялся с кресла: “Ладно, ты лучше думай о своем Лермонтове! Тоже мне, ходатай!”».







