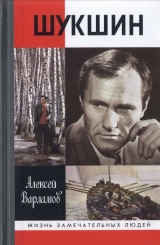
Текст книги "Шукшин"
Автор книги: Алексей Варламов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 36 страниц)
УРОКИ РУССКОГО
В Сростках и Бийске в школьные годы – быть может, опять-таки в силу особенностей его детства и стремления уединиться – у юного Шукшина проявилась невероятная тяга к чтению, без которой он не стал бы писателем, как не стал бы и без рассказчиков и рассказчиц своего деревенского детства.
«Бывало, мать ищет его, а он сидит в лодке – читает, только головенка с выгоревшими волосами торчит», – вспоминала Надежда Алексеевна Ядыкина. А сама Мария Сергеевна рассказывала: «Помню, как появилась у Васи “болезнь” – увлекся книгами. Всегда у него под ремень в брюках была книга подоткнута. Читал без разбора, подряд. Читал и по ночам: карасину нальет, в картошку фитилечек вставит, под одеялом закроется и почитывает. Ведь, что думаете, – однажды одеяло прожег. Стал неважно учиться, я тогда и вовсе запретила строго-настрого читать. Так нет – стал из школьного шкапа брать тайно от меня. Ох, и помаялась я с ним, не знала уж, что и делать дальше, как отвадить от чтения-то!»
«А мама не давала жечь лампу: керосину мало было тогда. Выручал всегда Володин Георгий Михайлович, секретарь райкома, который у нас жил на квартире», – вспоминала Наталья Макаровна, и это очень характерный поворот сюжета, который потом не раз в судьбе Шукшина повторится: партийные власти, а точнее, партийные люди во власти будут ему помогать. «Мне везло на добрых и умных людей» – не случайно именно так назовет Шукшин одну из своих публицистических статей, и среди партийных таковые ему нередко встречались. Возможно, по этой причине Василий Макарович никогда не будет открыто демонизировать советскую власть или испытывать неудобство от собственного членства в КПСС, хотя и зла на партию у него накопится порядочно.
Но это все будет потом, а пока рано выучившийся читать деревенский мальчик без разбору читал все подряд, впадал в мечтательность, выныривал из нее в реальность, снова забывался, спасался от одиночества, от враждебного окружения… Нетрудно предположить, как стремительно расширялось пространство вокруг него, как причудливо отражались, переплетались в его душе житейские и книжные впечатления. Эту пору своего детского обручения с литературой он позднее очень нежно описал в уже упоминавшемся рассказе «Гоголь и Райка»: долгие зимние вечера, когда ему ужасно хотелось читать не только для себя, но и вслух, чтобы самые близкие ему люди вместе с ним проживали чужие судьбы. В этой потребности сопереживания и кроется, наверное, его первое, смутное желание написать что-то самому, обрести и завоевать своего читателя, слушателя, зрителя.
Поскольку Шукшин неважно учился в школе, однажды встревоженная мать пошла за советом, как быть, к учительнице географии, приехавшей из блокадного Ленинграда. То был, пожалуй, единственный плюс, который принесла в деревню война – эвакуированные из больших городов учителя. Сколько слов благодарности, сколько рассказов на эту тему можно вспомнить. В войну произошло великое смешение социальных слоев, реальное, хоть и вынужденное хождение интеллигенции в народ. Обескровив деревню физически, война кое-где невольно вдохнула дух городской культуры, пусть даже позднее Шукшин деление культуры на городскую и деревенскую отрицал, но для деревенского подростка встреча с ленинградской учительницей, которая составила ему список книг, необходимых для чтения, была не менее важной, чем для героя Валентина Распутина из «Уроков французского». То было его первое соприкосновение с кругом людей, который впоследствии будет его привлекать, раздражать, удивлять, возмущать, вдохновлять – со столичной интеллигенцией. И как бы ни бранили эту беспокойную породу недоброжелатели Шукшина за то, что это она пригрела, взростила, себе на беду, «злого алтайского дикаря», сам Василий Макарович недаром позднее сказал, что «всем обязан интеллигенции», и первый его поклон был обращен к учительнице Анне Павловне Тиссаревской.
Однако любил он не только читать, но и выступать: так с детства два таланта в нем сосуществовали. «Вася любил участвовать в концертах, они у нас каждую неделю в субботу проходили. Не было такого, чтобы наш класс не приготовился: Вася настаивал, он у нас организатором был», – рассказывала одноклассница Шукшина Валентина Безменова.
А вот еще более выразительное свидетельство другого одноклассника, Александра Куксина: «В 1943 году к нам приехала концертная бригада. Мы сидели на почетном месте в третьем или четвертом ряду: Венька Соломин, Ванька Баранов, Колька Быстров, Василий и я <…> но вот вышел на сцену конферансье и стал читать “Сын артиллериста” К. Симонова <…> Васю трясло мелкой дрожью, он весь был во внимании, ничего не слышал и не видел кругом, кроме происходящего на сцене».
Если вспомнить эту балладу с ее темой двойного отцовства, кровного и приобретенного, вспомнить ее рефрен – «Ничто нас в жизни не может вышибить из седла», – фактически ставший шукшинским принципом, рыцарским девизом, нетрудно понять, почему на четырнадцатилетнего подростка эти строки так подействовали. Но дело не только в Симонове и его стихе. Участник школьной художественной самодеятельности Вася Попов впервые в жизни увидел профессиональных артистов, и какими бы они в той рядовой концертной бригаде ни были, он явно почувствовал зов, ощутил, что его место там, среди тех, для кого сочинять, как Симонов, или выступать перед публикой, как эти артисты, – и есть дело жизни. Оттого и задрожал, забылся – даже вечная его скрытность не помогла.
НУ ЧО, НЮРА, ПОЙДЕМ
Однако всё это – и интеллигентная учительница, и книги, и Симонов с его стихами, и артисты – было связано с городом, не с деревней. К тому же город не был далекой абстракцией, всего в тридцати пяти километрах от Сросток располагался Бийск, за день можно пешком дойти (и в юности Шукшин не раз это расстояние проходил). Это не затерянная Тимониха Василия Белова, не Аталанка Валентина Распутина и уж тем более не Веркола Федора Абрамова. Сростки – это фактически пограничье между городом и той великой алтайской деревенской цивилизацией, что начиналась дальше по Чуйскому тракту, обреталась в долинах, межгорьях и по берегам горных рек. Сростки были дверью в этот мир, а Бийск пусть не губернский, не областной, но вместе с тем не такой уж маленький город.
В 1944 году Шукшин окончил семь классов и объявил матери о том, что собирается бросить школу и ехать учиться в Бийск. Мария Сергеевна была против его намерения. К тому времени она овдовела. Павел Николаевич Куксин погиб в 1942 году под Москвой, и у нее остались лишь воспоминания о том, «как Павла призвали, а перед отправкой на фронт три дня на площади перед вокзалом держали»: «…я с ним там всё это время была. Отправляли партиями, а народу – видимо-невидимо, и теплушек-то не хватало. Где-то в голос ревут, где-то песни поют и пляшут, где-то своих успокаивают, мол, мы этого фрица шапками закидаем и через месяц-два дома будем. Эх, кабы так». Позднее Шукшин напишет рассказ «Сны матери», полный ее женских предчувствий и тревог, очень точно отражающий мистическую натуру его вещей матери, которая во многом напитала и предопределила его собственную творческую природу. Эти же предчувствия не давали Марии Сергеевне покоя и тогда, когда она думала о сыне и словно наперед угадывала его долю и ничего не могла в ней изменить.
Расставаться с сыном ей было неимоверно тяжело. К тому же она попросту боялась его от себя отпускать: «андел Васенька», повзрослев и понабравшись отроческого опыта, ангельским поведением не отличался, и если прежде она могла хотя бы отхлестать нашкодившего сына веревкой или ремнем (а такое бывало, и нередко: «Тетя Маруся встретила сурово, отходила Васю веревкой, а я унес ноги домой… Матери всыпали нам по первое число и потом долго не выпускали из дома», – вспоминал один из таких случаев друг Василия Макаровича Вениамин Михайлович Зяблицкий, впоследствии ставший даже не прообразом героя, а прямым героем рассказа «Мой зять украл машину дров»), то в свои пятнадцать лет он окончательно сделался, что называется, трудным подростком и без материнского догляда и вовсе мог пропасть.
Однако и сам Василий, как можно предположить, не хотел более под этим доглядом оставаться, и одной из причин, по которой он решил Сростки покинуть, были конфликты с матерью. Это никак ни в его прозе, ни в воспоминаниях не отразилось, хотя проглядывается в более поздних письмах к Марии Сергеевне и в редких, осторожных высказываниях сестры Натальи, не желавшей разрушать семейные предания, но шукшинский миф о «великой матери» нуждается в уточнении. Этот миф, очевидно, включал в себя и вину перед Марией Сергеевной, уходившую в те зеленые годы, когда сильный Шукшин самоутверждался вопреки своей сильной матушке, это была своего рода психологическая дуэль, в которой он не имел права проиграть, а она – выиграть.
К этой поре никаких проблем в общении со сверстниками, судя по всему, у него не было. В их воспоминаниях о Шукшине (особенно у Зяблицкого) можно прочитать множество увлекательных историй про грехи его юности – от тайного курения до посягательств на личную собственность отдельных зажиточных граждан Сросток в виде огурцов, яблок, арбузов, меда, и везде Вася – коновод, везде предводитель, хулиган.
Такой Вася нравился и девочкам, с которыми молодые люди ходили вместе на тырло, как называлось место посиделок сростинской молодежи. Василий Макарович и тут первенствовал.
«Вася увел у меня девчонку, – вспоминал Зяблицкий. – Я Аню Ковалевскую любил. А когда девчонка нравится, тут какая-то робость берет. Ну я и мешкал. А он подходит: “Ну чо, Нюра, пойдем”. Она вроде колеблется, молчит. Он взял ее под руку и увел… У меня такая обида запала! Я с ним не разговаривал недели две, дулся.
Он в этих делах был молодец! Во-первых, он внешне интересный был парень, во-вторых, играл на гармошке. К тому же он начитанный был, более развитый и разговаривал с девчонками посмелее: знал, что они на него засматриваются».
И это было только начало…
НЕ ДОНЫРНУЛ
«Семь классов закончили, надумали все поступать в Бийск в автомобильный техникум. Словно сговорились сорванцы меж собой. Я против сразу была и не хотела отпускать: кончай, говорю, сынок, десять классов. Вот придут всей оравой и уговаривают, упрашивают меня. И Вася просится: “Мам, поеду с ребятами”. Уговорили. Согласилась».
Понятно, деваться матери было некуда. В ее сорванце очень рано обозначились воля, упрямство и решимость самому строить свою судьбу, и ни к каким уговорам он не прислушивался ни тогда, ни позднее. Да и Мария Сергеевна разве не мечтала о том, что ее сын устроится в городе, но чтобы это произошло так скоро и он выучился бы всего-навсего на шофера либо механика? Она сыну другую приуготовляла судьбу.
Шукшин то время вспоминал так:
«Мы, четверо пацанов: Шуя, Жаренок, Ленька и я, шагаем с сундучками в гору. Поступаем в автомобильный техникум. Через три с половиной года будем техниками-механиками по ремонту и эксплуатации автотранспорта. Техникум – в городе, точнее, за городом, километрах в семи, в бывшем монастыре. Идти надо обрывистым правым берегом широкой реки. Это мой второй приезд в этот город. Душа потихоньку болит – тревожно, охота домой. Однако надо выходить в люди. Не знал я тогда, что навсегда ухожу из родного села. То есть буду еще приезжать потом, но – так, отдышаться… Вот уж не знал! Городские ребята не любили нас, деревенских, смеялись над нами, презирали. Называли “чертями” (кто черти, так это, по-моему, – они) и “рогалями”. Что такое “рогаль”, я по сей день не знаю и как-то лень узнавать. Наверно, тот же черт – рогатый. В четырнадцать лет презрение очень больно и ясно сознаешь и уже чувствуешь в себе кое-какую силенку – она порождает неодолимое желание мстить. Потом, когда освоились, мы обижать себя не давали. Помню, Шуя, крепыш парень, подсадистый и хлесткий, закатал в лоб одному городскому журавлю, и тот летел – только что не курлыкал. Жаренок в страшную минуту, когда надо было решиться, решился – схватил нож… Тот, кто стоял против него – тоже с ножом, – очень удивился. И это-то – что он только удивился – толкнуло меня к нему с голыми кулаками. Надо было защищаться – мы защищались. Иногда – так вот – безрассудно, иногда с изобретательностью поразительной. Но это было потом. Тогда мы шли с сундучками в гору, и с нами вместе – налегке – городские. Они тоже шли поступать. Наши сундучки не давали им покоя.
– Чяво там, Ваня? Сальса шматок да мядку туясок?
– Сейчас раскошелитесь, черти! Все вытряхнем!
– Гроши-то куда запрятали?.. Куркули, в рот вам перо!
Откуда она бралась, эта злость – такая осмысленная, нечетырнадцатилетняя, обидная? Что, они не знали, что в деревне голодно? У них тут хоть карточки какие-то, о них дума, там – ничего, как хочешь, так выживай. Мы молчали, изумленные, подавленные столь открытой враждебностью. Проклятый сундучок, в котором не было ни “мядку”, ни “сальса”, обжигал руку – так бы пустил его вниз с горы».
Независимо от того, насколько точно Шукшин воспроизвел обстоятельства своего путешествия в город и нового опыта жизни в нем, грань обозначена очень четко: мы и они. Два мира, две России, обе тяжко живущие, голодающие, враждующие друг с другом, и даже выигранная всем народом война эти две России не примирила. Дикое, страшное свойство русских людей – враждовать по принципу места, социального происхождения, положения, образования, имущества – вот что станет его темой, его болью, предметом его размышлений, которые позднее отольются вопросом: что с нами происходит? Не менее важно и свидетельство однокурсника Шукшина, его троюродного брата Александра Павловича Борзенкова, того самого Шуи, что «закатал в лоб городскому журавлю»: «Кровное родство, пожалуй, осознали мы только там. Приходилось защищать свое достоинство».
Именно так – чтобы сплотиться, потребовалась внешняя угроза, и в будущем он такую угрозу находил, только вот биться ему всегда приходилось в одиночку.
Об учебе Шукшина в Бийском автомобильном техникуме сохранилось не так много воспоминаний, но все мемуаристы сходятся в одном: учиться парню там было неинтересно. «Математику, теоретическую механику, физику, по-моему, тихо ненавидел. К своей будущей специальности относился равнодушно… его даже вождение не привлекало», – вспоминал Борзенков.
Василий действительно не любил технику, ему не давались точные науки, он был малодисциплинирован и позднее рассказывал писателю Юрию Скопу: «Нам лекцию говорят, а мне петухом крикнуть хочется… Я это здорово умел – под петуха… В Сростках петухи наиредкостные… Не петухи – Лемешевы…»
Зато хорошо писал сочинения – особенно на свободную тему – и читал, читал, читал… С удовольствием ходил в кино, тратил последние деньги на билеты. А кроме того, записывал что-то в блокнот с металлической обложкой, на которой было оттиснуто распятие, за что получил два прозвища: Папа римский и Баснописец.
Жизнь в общежитии была непростая. «Жутко мерзли, особенно по ночам. Холодно, а укрыться разом нечем, и кому-то из нас, кажется, Васе пришла в голову мысль: двухъярусные кровати поставили в два ряда, на них настелили плахи – что твои деревенские полати. Вверху теплее. Без изучения физики народ издавна это знал. Спали вповалку. Но, пожалуй, страшнее мороза был голод. Всегда хотелось есть. Как-то повезло нам: с низовья Бии на плоту везли сыр, и чуть выше Борового его разбило. Рыбаки обнаружили этот продукт. Мы, как тараканы – к берегу. Пустили в ход лодки, плотики, багры, крючки, палки. Изобретательности хватало. Спрятали сыр в подполье. До апреля питались», – вспоминал А. П. Борзенков.
Про этот сыр Шукшин позднее написал в «Выдуманных рассказах». Там та же история – о том, как он с одноклассниками ловил в реке сыр с разбитого плота, но совсем другой финал. «Ловил, да не поймал – не донырнул. А другие донырнули и потом ели. Но попробовать кусочек не дали – такова жизнь, и обижаться на нее не надо. НЕ ДОНЫРНУЛ».
Кто ближе к истине – мемуарист Борзенков с его «коллективистским» воспоминанием или писатель Шукшин с его жестким индивидуалистическим рассказом, вряд ли теперь мы узнаем. Однако можно предположить, что Шукшин создавал свой текст как урок, как наказ и секрет будущего успеха: не донырнешь – ничего не получишь. И нечего никого обвинять. Никто тебе ничего не должен. Во всех своих неудачах вини одного себя. Фактически – это конспект романа воспитания, его личная история о том, как закалялась сталь и почему не донырнувший в детстве, он смог донырнуть потом, как сделал правильные выводы из жестоких уроков жизни.
Однако было в пору учебы в техникуме и другое, о чем бывшие ученики ни вспоминать, ни сочинять выдуманные либо невыдуманные рассказы не хотели. Не случайно во время службы в армии Шукшин писал матери: «Что это вспомнилось тебе, как жил я в техникуме? Вот уж чего не следует делать, так это вспоминать, да еще переживать. Одно горе переживается раз».
Вот так – горе! Егора Прокудина в «Калине красной» тоже будут звать Горе.
И дальше в этом же письме характерное признание: «Только с пивом-то можно не торопиться: я ведь не пью. Я уже писал об этом, но очень хорошо знаю: ни ты, ни она (сестра Наталья. – А. В.) не поверили этому».
…Проучившись в техникуме два с половиной года, Шукшин оставил его, причем в разных источниках причины ухода излагаются по-разному. В автобиографии, датированной 1953 годом, Шукшин писал о «трудном материальном положении, сложившемся к тому времени», как главной помехе на пути к образованию, но едва ли эта уклончивая формулировка отражала истинное положение дел. Скорее его выгнали либо за плохую успеваемость, либо за хулиганское поведение, а возможно, за всё вместе. В комментариях к письмам Шукшина, опубликованных в восьмом томе его Собрания сочинений (Барнаул, 2009), приводятся три версии ухода из техникума. Первая принадлежит самому Шукшину – «из-за непонимания поведения поршней в цилиндрах», вторая версия схожа с первой – Шукшин не сдал экзамены после практики и, наконец, согласно третьей, Василий Макарович хамски повел себя на уроке английского языка по отношению к учительнице. Последняя версия находит подтверждение и в деликатных воспоминаниях Натальи Макаровны. «Еще на втором курсе техникума у Васи не сложились отношения с учительницей английского языка, и на третьем он решил оставить его. Мама переживала, а он ей говорил: “Я все равно по этой специальности работать не буду, если даже закончу техникум”».
Драматизм ситуации усиливался еще и тем, что учительница английского языка Шукшину симпатизировала, и этот сюжет отразился впоследствии в рассказе «Сураз» – в сцене конфликта Спирьки Расторгуева и учительницы английского. Но, пожалуй, самая краткая и красочная причина излагается опять же в «Выдуманных рассказах»: «…петухом пел на уроках, а рта не открывал – долго не могли понять, кто это. Узнали – особенно оскорбились и обозлились».
Уход из техникума за год до окончания был сильным ударом для Марии Сергеевны с ее постоянной тревогой за сына, а также с несомненным честолюбием и большими материнскими надеждами. В самом деле, что же ее сын – хуже других, не смог одолеть то, что другие одолели? И если его выгнали из автомобильного техникума, где ж он будет ума-разума набираться? Кто его возьмет, куда примет? Или это ее заблуждение – не выйдет из него большого человека? Понимал это, надо думать, и сам Василий Макарович, которому тоже самолюбия и стремления к успеху ни в какую пору жизни было не занимать. Позднее в устных воспоминаниях мать довольно подробно описала возникшую ситуацию:
«В техникуме не доучился: не поглянулось ему там. Вернулся в Сростки.
Я прихожу с работы, а у меня матрасик, подушка, одеяльце завернуто лежит там в сеночках. Я говорю:
– Дак это мое ведь все… А-ах! Это что же это с ним случилось-то?
Захожу, а он все-таки это… – волнуется: “Что мать скажет? Три года, надо же! Такое тяжелое время – мать обидится, заругается…”
Я зашла.
– Вася! Что с тобой?
– Да… ничо, мама. Я не болею, так… Только я… не буду учиться, мама, там больше.
А я постояла, подумала-подумала: “Что же мне это делать-то? Если мне на него так это обрушиться, вроде заругаться! Там самый такой возраст нехороший, и… Боже спаси! Еще чо ни случись с ребенком…” И вспомнила опять: “Мне ить не глянулась эта специальность. Я ить помню, какая это специальность! Они вон шоферами работают, эти сами техники-та”. Вот так-от думаю… Так ему и сказала.
А он так рад! Подбежал, схватил – Господи! Сам меньше еще меня почти, а таскал-таскал меня по избе! Радый-нерадый, что мать не заругалась на ево.
– Ну, теперь куда, – говорю, – в колхоз идти работать. Покамест? Скоро в армию…
Он говорит:
– Нет, я поеду поближе к Москве, мам».
Вот что должно было прозвучать громом с ясного неба – поближе к Москве! Как к Москве?! К какой Москве, откуда Москва, почему, для чего? Понятно, что оставаться в Сростках парню не хотелось и стыд выедал глаза, но сразу в Москву? Кто из Сросток эту Москву видал, кто в нее ездил? Ну ладно, Бийск, Барнаул, ладно Новосибирск, даже Томск, Красноярск – свои родные сибирские города, но Москва, Россия? Каким образом вообще могла в голову семнадцатилетнего парня прийти эта безумная идея? Да и была ли она, эта Москва, на самом деле или это так, фикция, мираж, радиоточка, обратная сторона Луны? И если уж мать была против учебы в Бийске, то как она могла отнестись к тому, что сын поедет в Москву?!
Нет сомнения, что дальше все пошло через скандалы, слезы, упреки, горькие вдовьи мысли о том, что отхлестать бы его веревкой, как хлестала, когда был мальчонкой, что нет отца, нет мужа, который такую бы Москву огольцу показал… Можно представить, как убивалась «мать-старушка», отпуская его от себя, как рыдала и боялась после двух убитых мужей (фактически именно Москвой убитых: один – казненный по московскому приказу, второй – под Москвой погибший, и от обоих не осталось даже могил) потерять в верховном городе еще и сына, и как он переступил через эти материнские слезы, ведомый своей судьбой и своей волей. Мало этого – он не смог бы вообще никуда уехать, если бы мать не сделала для него одного бесценного дела, речь о котором пойдет в следующей главе. Но и тут она ему уступила, или же – что тоже очень возможно – он таил свою «ужасную мечту» о Москве, свою цель, соблюдая конспирацию до самого последнего мига.
«Столкнулись две сильные натуры. Мамы и Васи», – единственный раз высказалась на одной из шукшинских конференций о подоплеке отношений двух близких ей людей Наталья Макаровна, а в широко известных воспоминаниях о брате писала нежней, утешительней, словно рассказывала страшную сказку со счастливым концом: «…И сказал нам, что поедет в Москву, потому что посылал рассказы в журнал “Затейник” и ему написали, чтобы он приехал в редакцию. Это был обман. Мне тоже было жалко с ним расставаться, мы втроем плакали, а он, шмыгая носом, нас уговаривал. Вроде уговорил, но денег нет, да он и не рассчитывал на большие деньги. Мама решилась продать корову, но Вася не соглашался. Она начала его уговаривать, мол, купим теленочка и вырастим его, а Райка все равно мало молока дает. Продали все-таки Райку. Мама уложила в деревянный чемоданчик все необходимое для Васи, он сверху положил книги, тетради, и мы проводили его в никуда».







