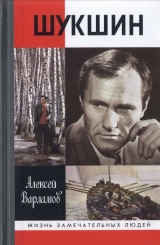
Текст книги "Шукшин"
Автор книги: Алексей Варламов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 36 страниц)
ВРАЖОНОК
Было ли это на самом деле, кто знает. В судьбе Шукшина реальное и мифологическое переплелось так тесно, что отделить одно от другого едва ли возможно, о многих вещах приходится судить по признакам косвенным. Но вот вопрос: ребенком, отроком как он все это переживал, как вмещал в себя то, что и взрослому-то человеку вместить не под силу? Как рос, взрослел, как узнавал, осознавал, что у него нет отца, что думал о нем, ждал ли, надеялся ли на его возвращение, насколько и когда начал понимать, что он не просто безотцовщина, но сын врага народа, контры? Что говорили ему об этом мать, родня, что рассказывали бабка и дед Поповы, а что Шукшины?
До конца мы этого никогда не узнаем. Тайна расколотого человеческого сердца в случае Шукшина особенно глубока и сокровенна. Но то, что детство далось ему непросто, а точнее сказать, жизнь давалась ему непросто с самого детства, с осознания себя в мире, сомнения не вызывает. И кроме того, наивно было бы предполагать, что в Сростках все сочувствовали семьям репрессированных.
«Бывало, выйдешь к колодцу, тебе кричит вся деревня: “У-y, вражонок!” Ни сочувствия, ни милосердия от земляков-сельчан».
Это – слова Шукшина из воспоминаний сценариста Анатолия Гребнева. Словам этим, конечно, нельзя полностью доверять, как вообще нельзя брать на веру ничью прямую речь в мемуарах, да и Гребнева легко заподозрить в тенденциозности, в том, что он все сочинил, приписал Шукшину свой образ мышления и вообще слепил из Василия Макаровича антисоветчика. Однако, во-первых, Гребнев лишь от Шукшина мог узнать обо всех этих подробностях, а во-вторых, он был в своих воспоминаниях не одинок. Сестра Шукшина Наталья Макаровна писала о том, что односельчане звали ее мать сибулонкой, и звучало это отнюдь не ласково. Это было оскорбительное, унизительное слово: «…в селе-то к таким семьям не было ни сочувствия, ни уважения». О том же рассказывал позднее со слов Шукшина подружившийся с ним режиссер бийского телевидения Федор Иванович Клиндухов: «Односельчане сторонились их».
А вот рассказ родственницы Шукшина, его троюродной сестры Надежды Алексеевны Ядыкиной (Куксиной): «Обычно в праздничные дни “сибулонки”, как их называли в деревне, старались получить коня или хотя бы сбрую для коровы, чтобы привезти соломы, дров с острова или по осени привезти с поля картошку, – так как в будни сбруя была занята, а “сибулонкам” все давали в последнюю очередь… Оплакивали <они> свое одиночество с непосильными трудностями, нуждой, беспросветным будущим <…> Потом шли по селу с песней провожать друг друга. Замужние женщины осуждали их. Мама рассказывала, что они с ненавистью говорили: “Вы посмотрите-ка, сибулонки-то загуляли”».
И недаром по Сибири гуляла тогда им вослед злорадная частушка:
Сибулонка кудри вьет,
На вечер собирается,
Сибулоночка, не вей,
Тебе не полагается!
Им много чего не полагалось, женам и детям репрессированных. Их могли легко выселить из родного дома, могли арестовать, отдать под суд, могли унизить, оскорбить, они ощущали постоянную хрупкость бытия («Жили в страхе и всегда были готовы к ночному стуку и к слову “собирайтесь”», – вспоминала Наталья Макаровна Шукшина). Возможно, взрослеющий ребенок осознавал это особенно остро и с самых ранних лет был постоянно готов к обиде и самозащите, что позднее станет приметой многих рассказов Шукшина и определит образ его поведения.
Часто пишут, и справедливо пишут, о том, что Шукшин тяжело входил в город, в городскую жизнь, с трудом пробивался во ВГИК, в кино, литературу, в чужую для него среду, преодолевал невероятное сопротивление, насмешки, высокомерие и обрастал колючками, как еж для самозащиты, но изначальный конфликт у него случился со своими в детские, скудельные годы. В отличие от конфликтов городских об этом самом первом противостоянии, первой тяжбе с обществом он не сказал в своей прозе ни слова, он в каком-то смысле о ней забыл, простил ее и в одном из самых последних рассказов «Чужие» написал о «милости к падшим» со стороны простой деревенской женщины, которая велит маленькому герою отнести пяток яиц заключенным:
«…бабка оглянулась кругом и тихо досказала: – этим отнеси, на сашу (на шоссе).
На шоссе (на тракте) работали тогда заключенные, и нас, ребятишек, к ним подпускали. Мы носили им яйца, молоко в бутылках… Какой-нибудь, в куртке в этой, тут же выпьет молоко из горлышка, оботрет горлышко рукавом, накажет:
– Отдай матери, скажи: “Дяденька велел спасибо сказать”».
Деревенский мир времен шукшинского детства выглядит в его рассказах пусть не идиллическим, но все же милосердным, на свой лад гармоничным, счастливым, полным дивных впечатлений, ощущений и очарований – алтайская природа, Катунь, ее острова, восхищение стариками, семья, мать, сестра, мальчишеская дружба, корова Райка, пес Борзя. Однако из воспоминаний о Шукшине мы знаем, что он часто бывал молчалив, замкнут, иногда обиженный кем-то убегал на Катунь.
Одноклассница Шукшина Анна Зубкова (в девичестве Гилева) рассказывала в недавнем интервью, опубликованном в «Алтайской правде»: «Вася сидел на второй парте второго ряда от учительского стола. Запомнила, что он почему-то был за партой один. Серьезный мальчишка, не хулиганистый. Почти всегда за его поясом какая-то книжка – очень любил читать. А еще он активно участвовал в самодеятельности, ставили какую-то постановку».
А вот еще одно воспоминание – Надежды Ядыкиной:
«Василия Макаровича Шукшина я помню как простого мальчишку. Часть пути в школу у нас была общей, и иногда в переулке мы появлялись вместе. Но мы с ним не разговаривали, он идет по одной стороне, а я, прижимаясь к крапиве, по другой стороне. Я стеснялась, он, наверное, тоже. Это наши детские годы. И когда он подрос, то был малообщительный, замкнутый.
Если когда он заглядывал на вечёрку, то почти сразу за ним приходила тетя Маня и со словами “Пошли, сынок” уводила его домой. С нами на вечёрках он не участвовал».
«Характером Вася замкнутый был. Друзей у него было немного. В основном все время проводил за книжкой», – вспоминал дальний родственник Шукшина Михаил Григорьевич Гапов.
Он был по-своему высокомерен, горд, самолюбив, упрям («Заупрямится – залезет под кровать, ничем не вытащишь. Уговаривают его – ни в какую», – рассказывал Гапов), требовал, чтобы его звали Василием, но это происходило от обостренного в силу обстоятельств чувства собственного достоинства, он рано познал страдание, боль, зло, рано понял, что окружен людьми разными, в том числе и недоброжелательными, ему приходилось с детства самоутверждаться, доказывать свое право на первородство, драться и побеждать. Собственно, история Шукшина – это и есть история победы над невыносимыми обстоятельствами жизни, победы любой ценой. И не случайно, говоря о Шукшине, часто цитируют очень важные слова из его рабочих записей: «Никогда, ни разу в своей жизни я не позволил себе пожить расслабленно, развалившись. Вечно напряжен и собран. И хорошо, и плохо. Хорошо – не позволил сшибить себя; плохо – начинаю дергаться, сплю с зажатыми кулаками… Это может плохо кончиться, могу треснуть от напряжения». Все это тоже уходит корнями в его детство.
ПАСЫНОК
И еще одним детским или, точнее, недетским испытанием для него стало новое замужество матери. Брак был заключен весной 1936 года. Мы не знаем, сразу ли полюбила Мария Сергеевна посватавшегося к ней Павла Николаевича Куксина или вышла замуж от безысходности, с одной лишь надеждой облегчить свое положение и положение детей, вырваться из проклятой сибулонской доли. Судя по сохранившимся воспоминаниям, отношения между супругами были не всегда ровными, хотя и по-своему трогательными.
«Правильный-то муж у ей по линии взятый был. Тогда это по линии-то брали. Помните? Да. С Павелом она жила, – рассказывала Софья Матвеевна Пономарева, та самая, в чьей памяти остался сидящий на окне и болтающий ногами маленький Вася Шукшин. – Он, Павел, был заготовителем. Ну, шкуры эти принимал. Вот уедет в эту… Барду, Стару Барду. Приедет назад. Она начинат его и начинат, Марья Сергеевна: ты там у женщин был. Она ревниста была. Ху-у, чо делала: “Собирайся, уходи”. Он счас соберется, к родителям уйдет, Павел. Ночует там ночь, она пойдет к нему: “Пойдем, Павел, пойдем”. Опеть его обратно зовет. Ну и приведет опеть его… Так вот они жили. Это правда. Она карахтерна была все-таки…»
Забегая вперед заметим, что не иначе как от матери унаследовал Василий Макарович не только великий талант рассказывать сказки, но и всплески дикой ревности, и порывистость, и «карахтерность», от которой приходилось порою страдать окружавшим его людям, а детские впечатления навсегда врезались в его натуру, и счастье с несчастьем были перемешаны там отнюдь не в равных долях. Семейная жизнь Марии Сергеевны и ее второго, «неправильного» мужа складывалась непросто. Алтайская журналистка Тамара Петровна Дмитриенко пишет о том, что в Красногорском районе (соседним со Сростками) ей рассказывали, что мать Шукшина некоторое время жила здесь с мужем. «Они были вынуждены скрываться, т. к. родственники были против этого брака».
Речь скорее всего идет о родственниках Павла, которым вряд ли его женитьба пришлась по душе, что подтверждается и воспоминаниями Натальи Макаровны: «Перед войной мама вышла замуж за Куксина Павла Николаевича, добрейшего человека, который увез нас в село Старая Барда (ныне Красногорское) от этого страха и неприятных разговоров его матери. Наверное, можно понять мать нашего отчима и ее недовольство…»
Наконец об отношениях со вторым мужем очень откровенно рассказывала и сама Мария Сергеевна уже после смерти Василия Макаровича своему лечащему врачу Людмиле Сергеевне Форнель: «Паша-то холостой, молодой, красивее всех в деревне был, а взял меня с двумя детьми и вскоре увез в село Старая Барда. Хорошо зажили, во всем ладили. Я забеременела, но никому об этом не говорила и ни о чем не думала. Раздумывать начала позже, да до сих пор жалею, что не туда мои думки направились. Как-то в бане подходит ко мне женщина и спрашивает: “Мария, ты никак в положении?” Я и говорю, что да, вот уже два с половиной месяца. Села она рядом и давай мне всякие страсти-мордасти рассказывать. А свелось всё к тому, что Паша любить ребеночка будет, ко мне охладеет, а деток моих и замечать перестанет, тем более что Василий отчима не признаёт и всячески это подчеркивает. Всю жизнь своим умом жила, а тут как заворожили, ну и согрешила я перед Богом и Пашей: согласилась. А сделали так, что я в больнице оказалась. Четыре раза следователь приходил, всё выспрашивал, чьих это рук дело? Я знала, что подсудное это всё, и отвечала, что надорвалась и само всё получилось. Он, конечно, не поверил, но дело заводить не стал. Те женщины каждый день в больницу ко мне ходили, передачи носили, плакали, умоляли, чтобы не выдавала. И каждый раз их успокаивала: мол, сама дура, что согласилась, а потому и на себя всё взяла. Вот только сейчас Вам и сказываю, как это было. После того не могла я больше забеременеть».
В этих драматических, исторически достоверных воспоминаниях к Шукшину прежде всего имеет отношение одна деталь: маленький Василий Макарович Попов отчима не принял, в отличие от своей сестры Натальи, которая сразу же Павла Николаевича полюбила и вспоминала, как отец – она была младше и воспринимала его как отца – ездил по селам на лошади и, возвращаясь, всегда привозил детям сладости. «Больше всего мне нравились баночки с леденцами. А Вася демонстративно отказывался от подарков, делая вид, что он от него ничего не возьмет, так что обе баночки доставались мне. Но когда мы оставались одни, Вася изображал такую просящую мину, что мне становилось его жаль, и я делилась с ним лакомством».
Потом в рассказах, написанных во второй половине 1960-х годов, Шукшин каялся, пришло понимание, что Павел Николаевич Куксин, холостой красивый парень, взявший в жены сиболонку с двумя детьми, был добрым, совестливым, благородным человеком, а Мария Сергеевна, несомненно, была по-женски очень привлекательна, раз сумела такого парня увлечь. Но ребенком Василий страдал, отчуждался от матери и ее мужа, хотя в его мемуарной прозе это страдание приглушено, смягчено, что вообще-то для его резкой, колючей манеры письма нехарактерно.
А отчим действительно был не только добрым, но и очень заботливым, хозяйственным человеком. Спустя некоторое время он купил в Сростках дом, точнее, это была половина дома – но какого! – такого не было даже у председателя колхоза. Мария Сергеевна устроилась в больницу сиделкой, Павел Николаевич работал заготовителем кож, и таким образом оба оставались фактически вне колхоза, что давало им большую свободу действий и перемещений.
В 1940 году Павел Николаевич и Мария Сергеевна перебрались в Бийск, и Шукшин оставил о том художественное свидетельство – грустную, очень трогательную историю мальчика и девочки, которых против их воли и желания осенней ночью привозят в незнакомый, огромный город, в чужой дом со своими обычаями, обидами, подозрениями, и назавтра дети из этого дома сбегают. Однако это – поэтическое воспоминание поздних лет, рассказ личный, едва ли не покаянный, заканчивающийся чудесным возвращением на деревенскую родину, а в жизни все было иначе, и разница между художественной прозой и прозой жизни в этом случае весьма показательна. В рассказе инициатором переезда выступает отчим (которого недолюбливающий его пасынок – вот любопытная лингвистическая деталь – зовет папкой, в то время как умершего отца вспоминает как тятю), в реальности – это было решение Марии Сергеевны, женщины очень активной, предприимчивой, которая – можно предположить – искала в городе шанс переменить судьбу и уйти от нависавшего над нею сибулонского прошлого и непростых отношений с мужниной родней.
В рассказе дети возвращаются в деревню буквально на следующий день, в действительности же они прожили в городе целый год, учились в школе имени члена Бийского ревкома Георгия Савича Щацкого, и то было опять очень непростое для одиннадцатилетнего мальчика время. «С городскими мальчишками Вася сходился нелегко, но игра в ножичек, в чижа увлекала его, даже и меня он научил играть в эти игры. Я думаю, он тренировался со мной для того, чтобы не выглядеть размазней или “деревней” среди городских парнишек», – вспоминала позднее Наталья Макаровна. И можно не сомневаться: ему там было очень тяжело. В деревне – сын сибулонки, в городе – деревенщина. Вот откуда его сжатые кулаки.
Позднее Шукшин описывал свое первое впечатление от Бийска довольно иронично, но вместе и тепло: «Вот прошел я в первый раз по скрипучему качающемуся, с легким провесом, наплавному мосту… Это было первое чудо, какое я видел. Понемногу я стал открывать еще другие чудеса. Например, пожарку. Каланча вконец заворожила меня. Я поклялся, что стану пожарником. Потом мне захотелось быть матросом на пароходе “Анатолий”, еще шофером – чтобы заехать на мост, а он бы так и осел под машиной. А когда побывал на базаре, то окончательно решил стать жуликом – мне показалось, что в таком скоплении людей и при таком обилии всякого добра гораздо легче своровать арбуз, чем у нас на селе, у тетки Семенихи из огорода…»
Еще один бийский след в его прозе – в выдуманном рассказе «Мох», где речь идет о том, как горожане продавали «деревенским дуракам» одеяла, набитые мхом: «Сверху ваты положат, а внутрь – этого мха. То же делали и с бальками камышовыми – подушки делали. Она сперва-то мягкая, а потом сваляется – на ней хоть голову руби».
Много лет спустя Шукшина обвинят в том, что он противопоставляет город и деревню. А что ему еще оставалось, если он с этим чувством рос?
Но все же главное даже не эти чудеса, шалости, обиды и обманы, а то, что первый детский опыт большого путешествия, первый опыт насильственного разрыва с деревней, с одной стороны, довольно рано обострил его тоску по родине, ностальгию, которой он будет болеть всю жизнь, а с другой – этот опыт дал ему ту легкость, те решительность и готовность все изведать, переменить судьбу, с чем через шесть лет он переступит порог даже не родного дома, а родного края и пустится из деревни в далекое, многодневное странствие по жизни.
ОН ВОРУЕТ КНИГИ ИЗ ШКОЛЬНОГО ШКАФА
Это странствие случится позднее, а в 1941-м, сразу после начала войны семья вернулась в Сростки («…как-никак свой дом с огородиком, опять же – родня, знакомые. Мне казалось, что там нам легче будет пережить это трудное время», – вспоминала Мария Сергеевна). Однако целый год городской жизни в последующих рассказах Шукшина о детстве, за исключением выше цитированного фрагмента из интервью Василия Макаровича Бийскому телевидению, полностью выпадает, и сам отбор фактов в художественном преобразовании действительности, писательская, авторская «режиссура» – показательны. Шукшин с любовью описывает деревню своего детства и – фактически исключает либо сильно сокращает город, и такая избирательность по отношению к событиям собственной жизни в его творчестве повторится и станет художественным принципом.
Поздняя автобиографическая проза Шукшина, обращенная к его детским деревенским годам, предвоенным и военным, вообще в значительной степени создает идеализированный образ тех лет. Вот почему автоматически проецировать эту прозу на его биографию нельзя. Не случайно в цикле рассказов «Из детства Ивана Попова» Шукшин нарекает автобиографического героя другим именем. В этом смысле очень любопытна нравоучительная точка зрения барнаульского протоиерея Сергея Фисуна: «Невозможно без внутреннего содрогания перечитывать горестные картины сиротства, голода, неустроенности, чужести, если не враждебности окружающего мира в биографическом цикле рассказов “Из детских лет Ивана Попова”. Перед нами пугающий образ опустошенного ребенка. Ваня Попов словно не знает даже азов нравственности. Он пытается курить, ворует в огородах, ворует книги из школьного шкафа, помогает матери в воровстве колхозного сена, в тринадцатилетнем возрасте матерится и лжет на взрослых колхозных полевых работах…»
Всякий, кто прочитает или перечитает эти рассказы, убедится в том, что они написаны без всякого ужаса, содрогания, желания что-либо разоблачить, обвинить, и лишь строгое пастырское око способно разглядеть грехи маленького героя и его матери, на самом деле очень светлых нравственных персонажей, несмотря даже на курево и воровство колхозного сена, не говоря уже о похищенных книжках из старого школьного шкафа. Тут, при всем уважении к иерейскому сану, можно вспомнить слова Шукшина, сказанные по другому поводу и в адрес другого критика: «Тетя шуток не понимает». Но вот в чем отец Сергий несомненно прав: за лиричностью рассказов Шукшина о детстве стоит жесткая реальность, только автор эту реальность преображает и пишет о том, как, невзирая на все эти обстоятельства, детство всё же их победило и осталось детством. Возможно, победило не тогда, а позже – в воспоминаниях, в творчестве. Можно и так сказать: в рассказах о долгих холодных и голодных зимних вечерах в Сростках, о тяжкой летней поре, когда подростки работали в поле вместо взрослых, – всё правда, но не вся правда. И эмоционально шукшинская правда не яростна, а печальна – именно так описана, например, гибель коровы Райки в рассказе «Райка и Гоголь».
«Весны-то мы кое-как дождались, а вот Райки у нас не стало… У меня и теперь не хватает духу рассказать все подробно. У нас уж в избе раскорячился теленочек – телочка! – цедил на соломенную подстилку тоненькую бесконечную струйку. Мы ели картошку и запивали молочком.
Сена, конечно, не хватило. А уж вот-вот две недели – и выгонять пастись. Только бы эти две недели как-нибудь… Мама выпрашивала у кого-нибудь по малой вязанке, но чего там! Райке теперь много надо: у ней теперь молоко. И мы ее выпускали за ворота, чтобы она подбирала по улице: может, где клочок старого вытает или повезут возы на колхозную ферму и оставят на плетнях… Иногда оставляют на кольях по доброй горсти. Так она у нас и ходила. А где-то, видно, забрела в чужой двор, пристроилась к стожку… Стожки еще у многих стояли: у кого мужики в доме, или кто по блату достал воз, или кто купил, или… Бог их там знает. Поздно вечером Райка пришла к воротам, а у ней кишки из брюха висят, тащатся за ней: прокололи вилами».
Этот же рассказ о корове повторится потом в «Калине красной» – киноистории горестной жизни и смерти Егора Прокудина: интонация осуждения, сарказм, гнев, раздражение, часто у Шукшина встречающиеся в рассказах, условно говоря, городских, сменяются интонацией сожаления.
Как бы ни скорбел повествователь в рассказе «Райка и Гоголь» по корове, убитой злыми соседями, он понимает их правоту – они ведь защищали себя, свое хозяйство. Своя правда есть и у лесника, который отнимает топоры у жителей села, занимающихся незаконной вырубкой берез, но и людей этих – оставшихся без мужей женщин, вдов, стариков, детей – понять можно. И к ним в первую очередь был позднее обращен голос Шукшина:
«Редкого терпения люди! Я не склонен ни к преувеличениям, ни к преуменьшениям национальных достоинств русского человека, но то, что я видел, что привык видеть с малых лет, заставляет сказать: столько, сколько может вынести русская женщина, сколько она вынесла, вряд ли кто сможет больше, и не приведи судьба никому на земле столько вынести. Не надо.
Они не сознают этого. Да и сам я начал понимать это много лет спустя. И вот захотелось рассказать о них… И о них, и о других людях моей деревни».
Он и рассказывал: и в прозе, и в фильмах, и главным его чувством – была благодарность. Каким бы трудным и физически, и психологически ни было деревенское детство Шукшина, его затмили другие, более тягостные воспоминания юности, и чем дольше он жил, тем милее, больше, глубже детство становилось. Воспоминания о деревне, об утраченном, пусть даже мифологизированном, светлом мире детства поддерживали и спасали его в драматические минуты жизни. Сердечное умиление, нежность, прошение были не художественным приемом, но интимным переживанием, частью личности автора, единственным, говоря словами Пришвина, неоскорбляемым уголком души, тем драгоценным запасом, к которому он то и дело обращался. Не случайно позднее Шукшин писал старшей дочери Екатерине: «…вспоминаю то время с хорошим чувством. Хотел бы туда вернуться, да нельзя…» А еще полностью не разрушенная, цельная деревня с ее укладом, ее моралью становилась для Шукшина камертоном, в том числе и камертоном художественным, эстетическим.
«Я вырос в крестьянской среде, где представления о том, что такое искусство и для чего оно вообще существует, были особыми. А представления эти таковы, что они уводят искусство больше к песне, к сказке, к устному рассказу и даже к складному вранью, но весьма творческого, замечу, характера, – рассказывал Шукшин в интервью киноведу Валерию Фомину. – Хорошо помню, что независимо от того, что рассказывалось или пелось тогда в народе – веселое или печальное, совершенно не воспринималось или воспринималось очень враждебно всякое неуместное выдрючивание, пустое баловство, холодная игра ума и все тому подобное. Народное представление об искусстве всего этого не допускало. Вот отсюда у меня многое и пошло… Помню устные рассказы моей матери. Помню, как мужики любили рассказывать всякие были и небылицы, когда случалась какая-то остановка в работе, когда они присаживались перекурить или перекусить в поле».
Вот что было самым дорогим для него, идеалом, на который он ориентировался, к которому стремился, и чем дальше уходил от него по времени, тем сильнее это притяжение ощущал. Если в раннем романе «Любавины» деревня изображена предельно жестко, страшно, то позднее Шукшин умиротворял, просветлял и прославлял картины деревенской жизни прошлого времени: «Собственно вокруг работы и вращалась тогда жизнь. Она начиналась рано утром и затихала поздно вечером, но она как-то не угнетала людей, не озлобляла – с ней засыпали, к ней просыпались. Никто не хвастался сделанным, не оскорбляли за промах, но – учили…» Об одном из таких учителей он вспомнил в рассказе «Дядя Ермолай» (кстати, единственном рассказе, опубликованном при жизни Василия Макаровича в его родном краю, на Алтае):
«Ермолай Григорьевич, дядя Ермолай. И его тоже поминаю – стою над могилой, думаю. И дума моя о нем – простая: вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка. Простая дума. Только додумать я ее не умею, со всеми своими институтами и книжками. Например: что был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они ее прожили. Или – не было никакого смысла, а была одна работа, работа… Работали да детей рожали. Видел же я потом других людей… Вовсе не лодырей, нет, но… свою жизнь они понимают иначе. Да сам я ее понимаю теперь иначе! Но только когда смотрю на эти холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее? Не так – не кто умнее, а – кто ближе к Истине. И уж совсем мучительно – до отчаяния и злости – не могу понять: а в чем Истина-то? Ведь это я только так – грамоты ради и слегка из трусости – величаю ее с заглавной буквы, а не знаю – что она? Перед кем-то хочется снять шляпу, но перед кем? Люблю этих, под холмиками. Уважаю. И жалко мне их».
Ни к кому больше – только к этому поколению – он будет испытывать благоговейное, почти религиозное, чистое чувство и сознавать свое собственное несовершенство…







