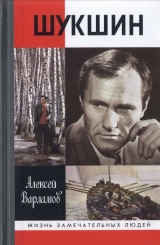
Текст книги "Шукшин"
Автор книги: Алексей Варламов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 36 страниц)
ТАК ГОВОРИЛ ШУКШИН
В «Странных людях» в роли деревенского кузнеца Кольки Буранова, изготовляющего скульптуру Степана Разина, снялся по шукшинской традиции непрофессиональный актер – писатель Юрий Скоп. По воспоминаниям иркутского журналиста Андрея Ступко, произошло это следующим образом:
«На киностудии Шукшин проводил пробу на главную роль короткометражного фильма. Нужен был молотобоец, истинно русский умелец. Под “юпитеры” вышел какой-то парень, ударил молотом…
– Да разве так бьют! – не удержался Скоп, который забрел на пробу из любопытства.
– Не так? – вскинулся Шукшин. – Ты-то знаешь как? Знаешь? А ну, покажи!
Юрку, конечно, трудно было смутить, он решительно крякнул, скинул пиджак, закатал рукава сорочки и, загоревшись, схватил молот.
– Давай!
А когда ударил, Шукшин воскликнул:
– Стоп! Хватит. То самое. Тебе и быть молотобойцем.
Так Скоп стал главным героем фильма Шукшина. Фильм я видел, он демонстрировался по телевидению. Особенного успеха он не имел. Но, замечу, не по вине главного героя – Скоп провел свою роль превосходно. В дальнейшем Скоп коротко сошелся с Шукшиным, они стали друзьями».
Юрий Скоп действительно сделался наряду с Василием Беловым и Глебом Горышиным одним из немногих шукшинских друзей в писательском мире, возможно, не столь близким, как те двое, о чем косвенно говорит отсутствие между ними переписки (или же письма пока не опубликованы). Но эти отношения были примечательны тем, что иркутский журналист и начинающий писатель, впоследствии работавший и в литературе, и в кино, прославившийся романом «Техника безопасности» и ставший лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (той же награды, которую получил в свое время Василий Макарович), смотрел на Шукшина как на мэтра, как на человека, добившегося успеха, о котором и сам мечтал, и Шукшин это чувствовал и сочувствовал.
Скоп чем-то ему понравился, пришелся по душе, совпал с ним, и Василий Макарович помогал ему пробиться, сделался для него наставником, советчиком, литературным опекуном. Он писал на его произведения рецензии, пристраивал его вещи в толстые журналы (сохранилось письмо Шукшина главному редактору «Сибирских огней», «понимающему меня, головастому мужику» Н. Н. Яновскому с просьбой напечатать повесть Скопа «Волчья дробь»), дал ему рекомендацию в Союз писателей: «Бумажка-то больно серьезная. Соображаешь? Тут бы чего-нибудь такое… сделаем вот так… – наклонился к листу и коротко дописал под своей подписью – «В. Шукшин, член КПСС». (Этот «козырь» В. Шукшин вытаскивал в самых крайних случаях, например, когда надо было пробить фильм или квартиру.)
Он учил своего младшего друга уму-разуму и благословлял переехать из Сибири в Москву, о чем вспоминал Скоп («Совсем немного о друге»): «Уезжай. Наша родимая перифериюшка – бабенка злопамятливая. Ты после хоть кем стань, все одно не простит. Не забудет. Ткнет и не раз, пальцем в сердце. Не забудет. А Москва, она большая. В ней на всех места хватит. Только выжить надо суметь. Вы-жить».
И злопамятность малой родины, и выживание в столице имело отношение прежде всего к истории самого Шукшина, который хорошо знал цену этого вопроса и те неизбежные риски, которые при его решении возникают: «Можно выиграть, а можно и проиграть. Дело хозяйское. Так что езжай. Выживешь – хорошо. Славно. Не получится – будь уверен, литература от этого не пострадает».
В этих жестких, по-своему безжалостных словах не было высокомерия. То же самое Шукшин мог бы сказать и о себе; известно еще одно его высказывание на эту тему, зафиксированное Скопом: «Ни ты и ни я Львами Толстыми не будем. Мы с тобой уйдем в навоз. Только ты вот чего должен понять… Только на честном навозе может произрасти когда-нибудь еще что-то подобное Льву Николаевичу. Только на честном!»
Шукшин был, без сомнения, очень честолюбив, но при этом никогда не страдал от завышенной самооценки, в этом допинге не нуждался, что, как известно, свойственно многим, в том числе и очень талантливым людям (Андрею Тарковскому, например – достаточно прочитать его «Мартиролог»), и, возможно, две эти редко встречающиеся вместе черты – жажда успеха и трезвый взгляд на самого себя – многое предопределили в его судьбе.
«Критическое отношение к себе – вот что делает человека по-настоящему умным. Так же и в искусстве и в литературе: сознаешь свою долю честно – будет толк», – писал он в рабочих тетрадях. Но в еще большей степени в Шукшине говорил дух борьбы, дух соревнования, то неприятие зеленого света, о котором он твердил на кухне у Рениты Григорьевой. И надо отдать должное Скопу за то, что он все это зафиксировал и в воспоминаниях показал «кухню Шукшина», о чем Василий Макарович не говорил никогда в интервью, что оставалось в потаенной части его натуры.
Ручаться за подлинность прямой речи ни в чьих мемуарах мы, разумеется, не можем, но все же складывается впечатление, что именно так говорил Шукшин младшему другу: «…исполнится тебе сорок, ты придешь ко мне и завякаешь – мол, ни черта не получилось, Вася. Пропадаю… Чего я тебе скажу? А ничего. Пропадай. Я же свою голову на твои плечи не переставлю. Нет. А че тогда?.. Я иногда по ночам на кухне, когда заторчу над рассказишком, встану к окну и гляжу… Москва – ё-моё! – неохватная… Огонечки, огонечки – не спит уйма народу. И сколько же среди них таких вот, как я, значит, которые тоже подошли к окошкам, курят, глядят, а за спиной у них на столиках недописанное, а? И надо, чтобы оно получилось-то лучше всех. Иначе – труба. Страшное, скажу я тебе, дело. Но – кровь разгоняет. Тут, брат, не заквасишься. Тут такой естественный отбор получается, что только держись…»
Вот что он понимал, вот что его возбуждало, вдохновляло, заставляло сжимать кулаки, нырять в глубину и работать как одержимому, сверхсрочно, сверхурочно, не обращая внимания ни на какие бытовые трудности, о чем очень хорошо рассказывала жена Василия Макаровича: «Я мыла пол в маленькой квартирке, где мы жили, Вася работал на кухне. Когда дошла очередь до пола в кухне, я сказала: “Вася, подними ноги”. Он поднял ноги, сидел и писал. Я вымыла пол, убралась и тогда на него посмотрела. Вася все пишет, пишет, пишет, а ноги все так же вытянуты – он забыл их опустить».
…В воспоминаниях Скопа важен возраст, который называет Шукшин: сорок лет. Обыкновенно с ним связывают так называемый кризис среднего возраста, и вот вопрос: испытывал ли его Шукшин и был ли он так уж удачлив, успешен на пятом десятке лет? В самом деле – что было у него к этой поре? Три фильма, успех которых шел по ниспадающей: «Ваш сын и брат» был принят хуже, чем «Живет такой парень», а «Странные люди» хуже, чем «Ваш сын и брат» (не случайно позднее Шукшин в одном из интервью от всех этих фильмов фактически отречется, сказав, что создал всего два фильма: «Печки-лавочки» и «Калину красную»). Сценарий с «Разиным» зарезан и будет ли разрешен, неизвестно. Актерская карьера складывалась как будто неплохо, но до подлинных звезд советского кино Шукшин в конце 1960-х недотягивал, а главное, к этому и не стремился: в его иерархии ценностей актерство было все же на последнем месте.
В литературе тоже нельзя сказать, чтобы все было блистательно. Книга «Сельские жители», опубликованная в 1963-м, «Любавины», вышедшие маленьким тиражом в 1965 году, сборник рассказов «Там, вдали…» в 1968 году и журнальные публикации – их было немало, да, но все-таки серьезным, крупным писателем Шукшин не считался, и не исключено, что именно к этому периоду относится знаменитая и очень часто цитируемая запись из его рабочих тетрадей: «Всю жизнь свою рассматриваю, как бой в три раунда: молодость, зрелость, старость. Два из этих раунда надо выиграть. Один я уже проиграл». Косвенно отнесенность этой мысли как раз к сорокалетнему юбилею подтверждается и свидетельством актера Алексея Ванина, с которым Шукшин был душевно очень близок. Повторяя шукшинскую мысль о жизни как бое в три раунда, Ванин уточнил предварительные итоги и продолжительность каждого из них: «Я верил в Василия Макаровича, как в какую-то силу, в трудные минуты мне было достаточно подумать, что есть Шукшин… Как-то в разговоре он сказал: “Я жизнь разделил на три раунда – по двадцать лет. Два из них я уже проиграл. И только третий начинаю выигрывать”. Только последние пять лет его удовлетворяли…»
Но это будет потом, в пору фильмов «Печки-лавочки» и «Калина красная», сборников прозы «Характеры» и «Беседы при ясной луне». Критика о прозе Шукшина писала, но оценивалась она очень по-разному. Еще будучи новичком в литературе, Василий Макарович удостоился отрицательной оценки академика Виноградова, раскритиковавшего язык молодого писателя, спорили из-за него Генрих Митин и Вадим Кожинов, но как-то вскользь, используя в качестве примера в разговоре об общих проблемах литературы. А по-настоящему открыл Шукшина-писателя молодой, острый, внепартийный критик Лев Аннинский.
Он его не расхваливал, не приглаживал, не лил елей, но был первым, кто Шукшина запеленговал как Шукшина, не просто как одного из подающих надежды молодых писателей, не просто еще одного «деревенщика», сибиряка, бытописателя – он увидел в нем явление, неслучайное, ожидаемое, «специалиста по межукладному слою», представителя и выразителя той массы крестьян, которая покинула деревню ради города и на себе испытала весь драматизм этого перехода. И хотя позднее мама Шукшина сокрушалась, что есть-де в Москве такой зловредный ядовитый Лёв, который про ее Васю и пишет и пишет, а что пишет, не понять, хотя были очень недовольны Василий Белов и Анатолий Заболоцкий, относившиеся к Аннинскому как неприятелю или диверсанту, проникшему на их суверенную территорию, на самом деле не пиши Лёв про Васю, не будоражь общественное мнение, не провоцируй критиков и критикесс, на Шукшина и вовсе могли бы не обратить внимания в 1960-е годы, пропустить как этнографический казус и лишь потом опомниться: это где ж мы все были?
СПРОС НА РАЙСКИЕ ШАЛАШИ
Среди тех, кого зажег Лев Аннинский своими парадоксальными, возмутительными статьями[43]43
По свидетельству Льва Александровича, они с Шукшиным не были знакомы лично, но однажды Шукшину предложили провести в ЦДЛ обсуждение его новой книги, а ведущим пригласили Аннинского. Шукшин, как передавали польщенному Аннинскому, сжал кулак левой руки, втиснул его в ладонь правой и с угрозой произнес: «Аннинский? Хорошо…» К сожалению, вечер не состоялся.
[Закрыть], оказались, как водится, не любимые Шукшиным женщины (даром, что ли, Макарыч, по воспоминаниям Белова, весьма одобрительно отнесся к инициативе Ленинградского обкома ограничить прием «их сестры» в партию). Только если удары по Шукшину справа, из стана консерваторов «Октября», последовательно наносила Лариса Крячко, то слева, от лица либералов – при некоторой условности этого деления, – ударила в почтеннейшем журнале «Вопросы литературы» молодая, талантливая критикесса Алла Марченко.
В ее статье «Из книжного рая» не было критики политической, не было стремления раздавить, запретить, тут скорее была критика экспертная, претендующая быть объективной. «Той же широко распространившейся сейчас модой (вплоть до архангельских прялок и вологодских кружевных затей) объясняется, на мой взгляд, и успех Василия Шукшина, успех преждевременный и преувеличенный, а также та легкость, с какой В. Шукшин, “преображая действительность”, творит свои “жизнеподобные мифы”, – писала Алла Марченко, подозревая лицедея Шукшина в грехе профессиональном – в том, что «он “играет” своих героев», что «в его исполнении перед нами прошла длинная вереница колоритных сибирских типов».
«Они не могут не понравиться. Не может не понравиться и артистизм, с каким писатель передает и образ мыслей, и склад речи своих героев. И что привлекает больше всего – так это непринужденность в обращении с простым человеком. Но только до тех пор, пока мы не начинаем понимать, что это всего лишь естественность талантливого актера, демонстрирующего мастерство перевоплощения. <…>…главное в том, что изображение деревенской жизни было Шукшиным самим же искажено в угоду тем представлениям о деревенской жизни, которые мы если и называем “кинематографическими”, то придавая этому слову более широкий, не профессиональный смысл».
В этих сентенциях была высказана одна сущностная вещь, одна претензия, которую предъявлял Шукшину и Василий Белов, а позднее Михаил Шолохов, а именно – невозможно быть одновременно писателем, актером и режиссером. Одно неизбежно будет делаться в ущерб другому. Но если Белов и Шолохов призывали Шукшина бросить киношку, потому что «ты же писатель», то Марченко, хоть и не говорила этого прямо, подразумевала противоположное: бросай писать, ты же актер. Критикесса была, очевидно, недовольна тем, что некий киношник профанирует высокое предназначение русского писателя, она пыталась представить Шукшина человеком водевильного, легкого склада, избегающим острых, конфликтных ситуаций: «Скандал, чем бы он ни кончился, в какую бы сторону его ни занесло, потребовал бы от В. Шукшина серьезного, трезвого и глубокого изучения, именно изучения, исследования тех сложных отношений, какими связана сегодняшняя деревня с сегодняшним городом. А это одна из тех проблем, перед которыми – эту истину В. Шукшин твердо усвоил – не стоит останавливаться надолго, если хочешь остаться в роли писателя, приятного во всех отношениях… Шукшин отлично понимает: и спрос на миф, на райские шалаши так же верен, как и спрос на правду».
Фактически это был приговор, публичное предъявление гражданину Шукшину Василию Макаровичу тяжкого обвинения по статьям, предполагающим наказание за легкомыслие, конъюнктуру, погоню за успехом и лакировку действительности. Не исключено, что эта статья, опубликованная в журнале, к которому Шукшин относился с большим уважением и автором которого сам был, крепко его задела. Сохранилось предание, будто бы именно по этому поводу он произнес фразу: «Тетя шуток не понимает». Однако письменно отвечать на критику на сей раз не стал – он ответил иначе, творчески, художественно. Именно после статьи Марченко пусть не сразу, но появляются такие откровенно «скандальные», «конфликтные» рассказы Василия Шукшина, как «Материнское сердце», «Срезал», «Крепкий мужик», «Сураз» (первое название «Скандалевич»), «Жена мужа в Париж провожала», «Обида», «Пьедестал», о которых ни один шукшинский недоброжелатель либо самый взыскательный критик не сказал бы, что это «райские шалаши», а их автора ну никак бы не заподозрил в стремлении быть писателем, «приятным во всех отношениях».
Значит ли это, что Шукшин «прислушался к критике»? Едва ли… После, как говорит латинская пословица, не значит – потому что. Шукшина критика ни сбить, ни направить не могла, его талант был вольным и самодостаточным, постоянно развивающимся и обновляющимся. Случай Шукшина тот самый, когда литературная справедливость восторжествовала пусть при жизни не автора, к несчастью, нарушившего известную заповедь – «писатель в России должен жить долго», но его зоила, и Алла Максимовна Марченко уже которое десятилетие может убеждаться в вопиющей ошибочности своего прогноза сорокапятилетней давности о преждевременности и преувеличенности успеха Шукшина, чьи произведения издаются, изучаются, ставятся на прославленных сценах как у немногих из русских писателей второй половины XX века.
То, что с успехом Шукшина все оказалось с точностью наоборот, справедливо сказал уже много позднее Валентин Распутин:
«Василий Шукшин!
При этом имени что-то всякий раз с такой силой вздрагивает в нас и обмирает, что мы, кажется, в себе и не знаем. Сознание наше, когда мы обращаемся к нему за разъяснениями, отсылает нас к чувству, чувство робеет; нет, это не у меня. Это где-то дальше. И, пожалуй, самое близкое, с чем может быть поставлено это ощущение, – какая-то невольная, незатухающая вина перед Шукшиным, стыд, сравнимый разве что со стыдом за несдержанное обещание. Что-то мы не сделали после Шукшина, что-то необходимое и важное в чем-то, за что он бился, мы его не поддержали. И это при том, что слава его… после смерти стала не меньше, а больше, чем была, слава его по мере переиздания книг и появления нового поколения читателей и зрителей расширилась и углубилась, установилась в надежном своем качестве, и те, кто склонен был объяснять популярность Шукшина его преждевременной смертью и сердобольностью русской души, а то и определенной модой на Шукшина, вынуждены теперь призадуматься…»
ВАСИЛИЙ ПОДКОНВОЙНЫЙ
Сорокалетний юбилей Шукшина был отмечен не одной только критической статьей в «Воплях» (как в обиходе называют «Вопросы литературы»). По всей вероятности, как раз в связи со своим первым (и последним) «юбилеем» Василий Макарович получил по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 сентября 1969 года звание заслуженного деятеля искусств за заслуги в области советской кинематографии. Тут, конечно, учитывалось все: и режиссура, и сценарии, и актерская игра, к которой он вернулся после сравнительно большого перерыва, когда в течение трех лет, с 1963-го по 1966-й, им не было сыграно ни одной роли, и создавалось впечатление, что актерство так и останется в молодости.
Но нет – в 1967 году Шукшин сыграл в картине Александра Аскольдова «Комиссар», а также в фильмах с более благополучной судьбой – в «Журналисте» у Сергея Герасимова и в «Трех днях Виктора Чернышева» Марка Осепьяна. Затем последовали роли в советско-венгерском фильме «Держись за облака» и в «Любови Яровой». Какие-то роли Шукшину сыграть не довелось, хотя мы знаем о кинопробах (широко известна фотография Шукшина в гриме Достоевского, относящаяся к 1969 году). От некоторых ролей он отказывался – так, существует свидетельство Элема Климова о том, что Шукшину предлагалась роль Григория Распутина в «Агонии», которую блистательно сыграет Алексей Петренко, но можно представить, каким бы получился сибирский мужик, обвороживший царицу необозримой страны, в исполнении алтайского мужика. Однако, пожалуй, главной актерской работой Василия Макаровича в эти годы стала роль инженера Черных в фильме Сергея Герасимова «У озера», который снимался на Байкале в июле – августе 1969 года, то есть как раз тогда, когда Шукшин отмечал свое сорокалетие.
Фильм, в котором в паре с Шукшиным сыграла Наталья Белохвостикова, оказался невероятно популярным, он-то и принес Шукшину настоящую актерскую славу, а потом и высокую государственную награду, в связи с чем есть смысл процитировать два очень любопытных текста.
Один – воспоминание Ивана Попова.
«Однажды Василий пришел за нами на просмотр кинофильма “У озера”. По иронии судьбы кинотеатр построили на том месте, где стоял крестовый дом деда Василия – Попова Сергея Федоровича. Я хорошо помню этот дом, мы бывали там с Василием. Дом был еще крепкий, но вот… снесли его и построили кинотеатр “Катунь”.
Мы шли по селу втроем. Вечерние Сростки, все до боли знакомое. Тот же запах вечернего неба. Вот только не было в нашем детстве здесь асфальта и электричества. В кинотеатре Василию устроили торжество. Пионеры в галстуках с горнами и барабанами выстроились в ряд. Вызвали выступать Василия, он, немного смущаясь, рассказал о съемках этого фильма на Байкале. Потом, как обычно, – вопросы. Вася отвечал. В общем, все прошло нормально. На просмотр пришли мать Василия, сестра, почти все его тетки, другая родня».
А другой такой – и это как в случае с мемуаром Борзенкова про автомобильный техникум и шукшинский «Сыр» (там, где не «донырнул») – противоречащий мемуарной пасторали «выдуманный рассказ» самого Василия Макаровича «Молодец».
«Молодец – это я в глазах земляков. Смотрели они картину “У озера” (на второй день Троицы), половина зала спали, даже с храпом. Причем их осторожно будили и неловко оглядывались на меня. После фильма никто ничего не говорил. Потом узнали, что мне за роль в этой картине дали государственную премию. И стали говорить: “Вот молодец! Смотри-ка… Вот это – не зря поехал в Москву!”».
…Во время съемок фильма «У озера» Шукшин писал, адресуясь годовалой дочери:
«Дорогая доченька Оля-ля!
Я живу теперь на древней земле наших отцов, дедов и прадедов, преображенной великой созидательной силой. Здесь очень красиво, всюду вышки. Жизнь бьет ключом. На душе, как поется в песне: “И тревожно, и радостно”. Но больше, конечно, радостно. И ты тоже, доченька, радуйся. И мама пусть радуется, и Маша – мы все будем радоваться».
Он был очень привязан к своей семье, к детям, и когда мы видим на шукшинских семейных фотографиях счастливые лица двух маленьких дочерей рядом с отцом, это были не постановочные кадры. Известны и часто цитируемые строки из письма Шукшина своим родным.
«Жилы из себя вытяну, а научу Маню:
1. Двум иностранным языкам;
2. Танцам (классическому, ча-ча-ча и русскому народному);
3. Понимать литературу (хорошую);
4. Варить суп-лапшу;
5. Гордости (“Я – Маня!”)
Олю:
1. Толкать ядро;
2. Водить машину;
3. Гордости».
Что из этих планов сбылось, судить тем, кому письмо адресовано, но нетрудно заметить: при том, что программа воспитания для дочерей различается, был в ней один общий пункт – девичья гордость, предмет ранней отцовской тревоги. Однако – говоря шире – внимание к детям, безоглядная любовь – все это вещи, без которых Шукшин будет не понятен, не полон. На детей, а не на взрослых в его мире вся надежда – будь то Юрка из рассказа «Космос, нервная система и шмат сала», или сын Андрея Ерина Петька из «Микроскопа», который, нет сомнения, сделает то, что не удалось сделать чудику-отцу: победит смерть. Дети – это последняя нить, которая связывает, удерживает распадающиеся из-за войны мужей и мещанок-жен семьи (так, из-за дочери не уходит из семьи, но уходит из жизни Колька Паратов в рассказе «Жена мужа в Париж провожала»). Дети – это итог, высший смысл жизни («Дочери – лучшее, что от меня останется», – говорил Шукшин) – и все эти вещи, казалось бы очевидные, Шукшин сумел наполнить таким чувством и умом, что все это звучит вовсе не банально, как, например, в рассказе «Алеша Бесконвойный»: «Алеша любил детей, но никто бы никогда так не подумал, что он любит детей: он не показывал. Иногда он подолгу внимательно смотрел на какого-нибудь, и у него в груди ныло от любви и восторга. Он все изумлялся природе: из чего получился человек?! Ведь не из чего, из малой какой-то малости. Особенно он их любил, когда они были еще совсем маленькие, беспомощные. Вот уж, правда что, стебелек малый: давай цепляйся теперь изо всех силенок, карабкайся. Впереди много всякого будет – никаким умом вперед не скинешь. И они растут, карабкаются».
Любопытно, что в этом рассказе – безусловно, одном из корневых шукшинских произведений, фактически его третьем романе – есть очень характерное противоречие. С одной стороны, Алеша испытывает «желанный покой на душе», потому что «ребятишки не болеют». С другой – через несколько страниц мы читаем его диалог с женой:
«– У Кольки ангина опять.
– Зачем же в школу отпустила?
– Ну… – Таисья сама не знала, зачем отпустила. – Чего будет пропускать. И так-то учится через пень-колоду.
– Да… – Странно, Алеша никогда всерьез не переживал болезнь своих детей, даже когда они тяжело болели, – не думал о плохом. Просто как-то не приходила эта мысль».
Тут дело не в герое – в авторе. Герой – совершенный, идеальный человек, по отношению к которому даже его создатель испытывает ущербность. Если бы Алеша за детей боялся, переживал за их болезни, если бы дурные мысли приходили ему в голову, то он уже не был бы «бесконвойным», то есть – свободным. А Шукшин в этом смысле свободным не был. И три девочки, три дочери – Катя, Маша и Оля – были конвоем Василия Макаровича, его личными конвоирами по жизни. (И в не меньшей степени – двое племянников.)
Шукшинский страх за детей, его сердечные переживания, отразившиеся в рассказе «Как зайка летал на воздушных шариках», рассказе-антониме по отношению к «Алеше Бесконвойному», все это было неподдельное, выстраданное. Анатолий Заболоцкий вспоминал: «Когда заболевали дети, заболевал и Макарыч. Как же он переживал за них, при слове о детях он забывал обо всем. <…> Семейная жизнь была у него сложнейшая, не зря он часто называл ее “чесоткой”. Детей любил и работу любил. Работа его спасала». Тот страх, который испытывал Василий Макарович, когда речь заходила о детях, отмечали и другие мемуаристы – он физически не мог видеть, как детям делают, например, уколы. «Если, не дай Бог, какой из его девочек приедут укол ставить – на лестницу выскакивал. Видеть не мог, как ребенка колют, – вспоминала сестра Василия Макаровича. – Маша как-то заболела и попросила отца рассказать сказку про зайку, а он эту сказку забыл. И побежал звонить другу, чтобы тот срочно садился в самолет и вылетал – сказку Машеньке рассказывать».
Больше того, как раз в связи с «детским» рассказом очень характерно движение от авторского замысла к его реализации. Если в наброске девочка умирает, потому что долго добиравшийся брат главного героя стал рассказывать сказку неправильно («Стал рассказывать, да забыл. Девочка плакать – не так. А потом и померла»), то в рассказе ребенок выздоравливает. Замысел таким образом был еще сильнее, пронзительнее получившегося рассказа, но Шукшин не был готов жертвовать всем ради искусства, здесь была его личная, красная черта, он как будто боялся нарушить что-то в хрупком детском мире, самом дорогом из существующих на земле миров. Другое дело, что не так часто это полное семейное счастье случалось у человека, которому приходилось много ездить по белу свету.
«Здравствуйте, дорогие мои!
Пишу вам из Венгрии, из Будапешта. Я здесь в связи со съемками одного фильма. Как актер». Это уже октябрь 1969-го…
И дочек, и жену он снимал в своих фильмах, и это было то, что сближало их, но вызывало ворчание у сурового друга Беловича. А Шукшин в 1973 году писал матери про ее внучек: «Они летом будут опять сниматься, но уже не у меня, а у другого режиссера, вместе с Лидой. Пошли в гору девки! Пускай, пока маленькие: побольше будут, все силы приложу, чтобы отвадить их от киносъемок: это плохая, нервная и трудная жизнь, своим детям (всем!) не желал бы этого. Я его сам скоро брошу к чертям собачьим, вот маленько на ноги станем, Бог даст».
И тем не менее не бросал, снимал. И в этом противоречии по отношению к самым важным сущностям – семье, вере, обществу – весь Шукшин. Анатолия Гребнева поражал тот факт, что во время их пребывания в болшевском Доме творчества Шукшин в будние дни охотно общался с соседом, обсуждая политические новости, но в выходные «происходили какие-то странности: Вася с женой Лидой и двумя девочками, я их помню в шубках, укутанных, два таких колобка – удалялся к себе, и эти два дня мы почти не общались. В воскресенье вечером, проводив их на электричку, Вася возвращался и уже с порога оживленно, как ни в чем не бывало, обращался ко мне, потирая замерзшие руки: “Ну что, чайку? Как там твой кипятильник – цел?” И так – до следующих выходных…».
А он просто очень дорожил этими выходными…
Вот и возвращение в актерскую профессию было отчасти вызвано заботой о семье: маленькие героини «Странных людей» и «Печек-лавочек» Мэри Шук и Оля-ля росли в тесной свибловской квартирке, где их отцу приходилось писать ночами на кухне. Да к тому же как раз в эти годы родная сестра Василия Макаровича Наталья собиралась купить кооперативную квартиру в Бийске, и ей тоже надо было помочь, и матери – помочь. И Шукшин помогал. Рассуждая экономически, он оказался чрезвычайно выгодным предприятием: каждый рубль, вложенный в его образование в голодные сороковые и пятидесятые годы, приносил в шестидесятые и семидесятые сверхприбыль.
Но едва ли дело только в деньгах. Василий Макарович любил играть, а кроме того, игра в чужих фильмах подготавливала его к двум ролям в собственных будущих картинах, о чем он, может быть, тогда и не думал, но думала за него судьба, – и все это снова и снова ставило и Шукшина, и его поклонников, и критиков перед вопросом: так кто же он больше – актер, режиссер, писатель? Или публицист, может быть, если учесть, что во второй половине 1960-х вышло несколько статей Василия Макаровича (и одна из них понравилась даже Алле Марченко). А с другой стороны, зачем ему при всех его талантах и заботах еще и публицистика? Но ведь зачем-то была нужна.







