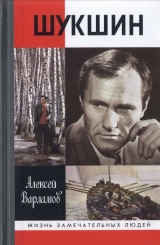
Текст книги "Шукшин"
Автор книги: Алексей Варламов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 36 страниц)
КАКО ВЕРУЕШИ?
Однако – вот что примечательно – всего через год Шукшин опубликует, а значит, напишет еще раньше, рассказ «Охота жить», герой которого, старый таежный охотник, скажет своему будущему убийце, сбежавшему с зоны (и здесь четко прослеживается диалог с самим собой, с рассказом про Степку и с фильмом «Ваш сын и брат»): «За убивство тебя Бог накажет, не люди. От людей можно побегать, а от Него не уйдешь».
В рассказах Шукшина этого времени отношение к Церкви, к Богу, к священству гораздо сложнее, многозначнее, чем в яростном романе, но важно, что это была та тема, мимо которой пройти, вынести ее за скобки Василий Макарович не мог. Иван Попов вспоминал о том, как его троюродный брат дождливым, холодным летом 1969 года «прочитал вдруг такую лекцию о религии, о христианстве… К чему бы? Непонятно. Но говорил он долго и интересно…».
О чем говорил, как, мы не знаем. Очень может быть, что и ругал, критиковал, низвергал. Но не это важно. Важно то, что христианство влекло его неотвратимо, раздражало, мучило, возмущало, но именно из таких строптивых, горячих, а не теплохладных, людей и выходили, как известно, самые крепкие верующие. Шукшин просто не успел к этому прийти, но, забегая вперед: смерть застала его на пути истинном, свидетельством чему его последние письма, только путь этот был долог, извилист, ухабист. Были на этом пути неудачные попытки встретиться с владимирским архиереем («патриархом», как называл его Попов) во время съемок фильма «Странные люди» в 1968 году и состоявшаяся встреча с настоятелем Псково-Печерского монастыря Алипием в 1970 году, о которой вспоминал Анатолий Заболоцкий: «В Псково-Печерском монастыре нежданно тепло принял Шукшина, а с ним и всех нас, наместник монастыря отец Алипий. Затевался откровенный диалог. Шукшин, как после признавался, расшифровываться не решился, боялся, а вдруг и отец-наместник “подсадной”. “Подождем другого случая”»[36]36
А вот это точно зря. Отец Алипий, легендарный «Великий Наместник» Псково-Печерского монастыря, в миру Иван Михайлович Воронов, боевой офицер, ветеран Великой Отечественной войны, фактически спас обитель в годы советских гонений. Приведем несколько фрагментов из книги о. Тихона Шевкунова «Несвятые святые», посвященных Алипию:
«Зимним вечером в кабинет отца Алипия вошли несколько человек в штатском и вручили официальное постановление: Псково-Печерский монастырь объявлялся закрытым. Наместнику предписывалось уведомить об этом братию. Ознакомившись с документом, отец Алипий на глазах у чиновников бросил бумаги в жарко пылающий камин, а остолбеневшим посетителям спокойно пояснил:
– Лучше я приму мученическую смерть, но монастырь не закрою.
К слову сказать, сожженный документ являлся постановлением Правительства СССР и под ним стояла подпись Н. С. Хрущева.
Историю эту описал очевидец – преданный ученик Великого Наместника архимандрит Нафанаил».
Или другие два эпизода:
«Когда пришли отбирать ключи от монастырских пещер, отец Алипий скомандовал своему келейнику:
– Отец Корнилий, давай сюда топор, головы рубить будем!
Должностные лица обратились в бегство: кто знает, что на уме у этих фанатиков и мракобесов?
Сам же наместник знал, что отдает подобные приказы не на воздух. Однажды, когда в очередной раз пришли требовать закрытия монастыря, он без обиняков объявил:
– У меня половина братии – фронтовики. Мы вооружены, будем сражаться до последнего патрона. Посмотрите на монастырь – какая здесь дислокация. Танки не пройдут. Вы сможете нас взять только с неба, авиацией. Но едва лишь первый самолет появится над монастырем, через несколько минут об этом будет рассказано всему миру по „Голосу Америки“. Так что думайте сами!»
Жаль, что Шукшин этого не знал. Как бы ему это все понравилось! Быть может, он и сказку «До третьих петухов» написал бы совсем иначе.
[Закрыть].
«Двигался ли к Богу сам Шукшин? – задавал себе вопрос воцерковившийся в последние годы жизни Василий Белов. – Мне кажется, да. Некоторые его поступки указывали на это вполне определенно, не говоря о литературных. Вспомним кое-какие его рассказы, хотя бы “Залетный” в сборнике “Земляки”, изданном в 1970 году. (Он надписал мне эту книжку в октябре того же года.) Долог и труден наш путь к Богу после многих десятилетий марксистского атеизма! Двигаться по этому пути надо хотя бы с друзьями, но колоннами к Богу не приближаются. Коллективное движение возможно лишь в противоположную сторону… Мое отношение к пляшущему попу (рассказ “Верую”) и при Макарыче было отрицательным, но я, не желая ссориться с автором, не говорил ему об этом. Сам пробуждался только-только… Страна была все еще заморожена атеистическим холодом. Лишь отдельные места, редкие проталины, вроде Псково-Печерского монастыря, подтачивали холодный коммуно-еврейский айсберг. Но и такие места погоду в безбожной России еще не делали. Однажды я оказался свидетелем встречи фальшивого печерского монаха с новомировцем Юрием Буртиным. Этот “монах” (наверняка с одобрения КГБ) проник в Печерский монастырь со своими тайными целями, жил там несколько лет и собрал, записал большой компромат на всех насельников. Теперь он решил извлечь из этого компромата материальную выгоду и притащил свои записи в “Новый мир”».
Можно предположить, что и недоверие Шукшина к отцу наместнику шло от подобных «монахов», а скорее даже от интеллигентских слухов о влиянии КГБ на церковную среду, зачастую преувеличенных. Но, несмотря ни на что, Шукшина тянуло к воцерковленным верующим, а особенно к клирикам как к своего рода чудикам: кто они эти странные люди, в век научно-технического прогресса верящие в Бога, – жулики, дураки, умники, хитрецы, мученики? Отсюда и не понравившийся Белову рассказ «Верую» с жаждой главного героя докопаться до сути дела. Или вспомним, как в «Сапожках» деревенские мужики спорят о том, сколько денег получает молодой священник:
«Видели на улице молодого попа и теперь выясняли, сколько он получает. Больше других орал Витька Кибяков, рябой, бледный, с большими печальными глазами. Даже когда он надрывался и, между прочим, оскорблял всех, глаза оставались печальными и умными, точно они смотрели на самого Витьку – безнадежно грустно.
– Ты знаешь, что у него персональная “Волга”?! – кричал Рашпиль (Витьку звали “Рашпиль”). – У их, когда они еще учатся, стипендия – сто пятьдесят рублей! Понял? Сти-пен-дия!
– У них есть персональные, верно, но не у молодых. Чего ты мне будешь говорить? Персональные – у этих… апостолов. Не у апостолов, а у этих… как их?..
– Понял? У апостолов – персональные “Волги”! Во, пень дремучий. Сам ты апостол!
– Сто пятьдесят стипендия! А сколько же тогда оклад?
– А ты что, думаешь, он тебе за так будет гонениям подвергаться? На! Пятьсот рублей хотел?
– Он должен быть верующим!»
И кажется, что это уже крик не безнадежно грустного Рашпиля, но – самого взыскующего веры Шукшина, в отличие от очень многих современных ему писателей пытавшегося публично осмыслить уцелевшую, несмотря на гонения и дух шестидесятничества, русскую религиозность (тут разве что еще Владимир Тендряков вспоминается).
Протоиерей Сергей Фисун точно подметил противоречие между формой и содержанием шукшинских поисков: «В правдивом, великолепном с художественной точки зрения рассказе “Как помирал старик” на предложение жены: “Я позову Михеевну – пособорует”, – умирающий старик отвечает: “Пошли вы!.. Шибко он мне много добра сделал…” Он – это, конечно, Бог».
Но вместе с тем Шукшин создает примерно в это же время рассказ «Думы», впоследствии вошедший в кинофильм «Странные люди» с его очевидной религиозной доминантой.
«Взвыл человек от тоски и безверья» – вот ведь что лежит в основе рассказа «Верую!». Рассказ можно, наверное, по-разному, как и в целом отношение Шукшина к христианской вере, истолковать, но очевидно одно: в его сердце не было равнодушия, теплохладности, окаменелости чувств, все в нем было – порывистость и страстность, волнение и борьба.
Шукшин пройдет через точки падений и взлетов, и его русский мятежный дух скажется в том, как однажды, по воспоминаниям Виктории Софроновой, «Василий Макарович пошел в храм. Как он говорил, “мимо шел”. На ступеньках споткнулся и потерял равновесие. Символичная картина. Он и сам ее так воспринял, тогда же, потому что, поднявшись на ноги, повернул стопы свои и в церковь не зашел. Как бы, говорил он, меня не пустили. Это неверно, конечно, но очень хорошо иллюстрирует борения и метания самого Шукшина». И еще более отчетливо этот мотив звучит в воспоминаниях фотографа Анатолия Ковтуна, который сослался на рассказ актрисы Людмилы Зайцевой о том, как однажды «на Пасху Шукшин остановился перед храмом, упал на колени и… заплакал. С его уст слетали слова, каких раньше никто от него не слышал: “Грешен… грешен я… Господи! Прости меня…”». Да и оператор Заболоцкий недаром приводил в мемуарах покаянные слова своего режиссера: «Разве мог Разин рубить икону? – так было в сценарии. – Он же христианин. Ведь это я, сегодняшний, рублю».
И возвращаясь к Разину и невольному пушкинскому акценту в шукшинском замысле, – главный смысл этого бунта, главный его урок заключается не в царской власти, не в боярской спеси, а в том предательстве, которое совершают казаки по отношению к мужикам. Вот где проходит самый трагический раскол, самый узел, самый нерв русской истории, чрезвычайно для Шукшина болезненный, поскольку он любил и тех и других, любовался и теми и другими, но честно признавал, и здесь как раз шел вслед за Пушкиным, изобразившим, но не осудившим в «Капитанской дочке» вероломность казаков. (Осужден Швабрин, потому что к нему предъявляется дворянский счет чести.) Как и у Пушкина, у Шукшина самой трагической оказывается фигура преданного вождя, с той лишь разницей, что вряд ли Пушкин так же плакал, убивался и будил жену, как плакал Шукшин, дойдя до сцены гибели своего героя. «Шукшин писал последние страницы… Попросил: “Ты сегодня не ложись, пока я не закончу казнь Стеньки… я чего-то боюсь, как бы со мной чего не случилось…”» Лидия Николаевна, уставшая от домашних дел, часам к двум ночи сама не заметила, как заснула. Пробудилась же в половине пятого от громких рыданий, с Василием Макаровичем была нервная истерика, сквозь стенания едва можно было разобрать слова: «Тако-о-го… му-жи-ка… погу-у-били… сво-ло-чи…»
И разве мог он отказаться от своего замысла? Разве мог за него не биться? Разве хорошо, что он этот фильм не снял?
ЛИТЕРАТУРА И ЕЕ ГЕНЕРАЛЫ
Впрочем, главные бои за Разина были все впереди. А пока снова забуксовавшего в кино Шукшина, как встарь, утешила литература. Несчастливый в том, что касалось судьбы фильма о Степане Разине, юбилейный для всей страны 1967 год – торжественно отмечалось пятидесятилетие революции – оказался необыкновенно плодоносным для Шукшина-писателя. Вышли сразу две подборки рассказов в «Новом мире» – в первом номере («Волки», «Начальник», «Вянет, пропадает») и в девятом («В профиль и анфас», «Думы», «Как помирал старик», «“Раскас”», «Чудик»), а также подборка в «Москве» («Случай в ресторане», «Внутреннее содержание», «Горе»), рассказ в «Советской России» («Два письма»). И, кроме того, несколько ранее напечатанных рассказов («И разыгрались же кони в поле», «Охота жить», «Волки») были опубликованы в пятом томе «Библиотеки современной прозы и поэзии». Пожалуй, именно после этих публикаций к Шукшину стали всерьез относиться как к писателю. Хотя формально он вступил в Союз писателей СССР еще в 1965 году, однако рекомендации ему тогда давали Георгий Березко, Сергей Антонов и еще один писатель (чье имя ради интриги назовем чуть позднее), которые были известны не только как прозаики, но и как сценаристы, и, таким образом, в писательской судьбе Шукшина изначально проявился кинематографический акцент.
В 1967 году Шукшин получил два очень важных письма от «чистых» писателей старшего поколения. Сначала от Федора Каманина, возможно, малознакомого современному читателю, а это был замечательный прозаик с очень драматической судьбой, среди старших друзей которого значились Михаил Пришвин и Андрей Платонов. Письмо Каманина Шукшину не сохранилось, но известен ответ Василия Макаровича, опубликованный дочерью Федора Георгиевича Галиной Аграновской (и ей же принадлежит пронзительный очерк «Отец», напечатанный в 2002 году в журнале «Вопросы литературы»):
«Дорогой Федор Георгиевич! Меня поразило Ваше письмо – неподдельно добрым чувством. То ли мы заняты, то ли нам так некогда, но доброе слово, напутствие становится редкостью. Понимаете, какую радость принесло мне Ваше письмо. Спасибо! – только и мог сказать Вам. Только мне хотелось бы, чтобы Вы в этом вежливом “спасибо” почувствовали изначальный смысл – “Спаси Вас бог” – будьте здоровы, и всего Вам доброго, и еще раз здоровья! Еще раз охота сказать: когда слышишь доброе напутственное слово, только тогда вдруг понимаешь, как, оказывается, это нужно людям! Это – как первый раз отец посадил на коня и подстегнул его – держись! Страшно, но сзади смотрит отец – нельзя упасть, надо удержаться. А лошадка-жизнь несет, бывает, и повод вырвет из рук, тут же – за гриву, но… Сзади смотрит отец.
Еще раз спасибо! (Боюсь быть навязчивым с этим “спасибо”, но как еще сказать: “Спасибо – Вы добрый человек”.)
Как хорошо, что вы такие есть, добрые, опытные – и не “генералы”.
С уважением, Шукшин. Март 1967 г.».
Однако несколько месяцев спустя, после второй новомирской подборки, Шукшину пришло письмо от самого что ни на есть настоящего, всамделишного литературного генерала, да еще какого!
«Уважаемый Василий Макарович, сейчас, получив верстку 9-го номера “Нового мира”, прочитал два Ваших рассказа и после первого сразу схватил перо, чтобы написать Вам – о чем? – только о том, как растроган, взволнован отличной Вашей прозой художника! Думал – похвалою рассказа “В профиль и анфас” ограничусь, но, складывая листы, остановился на рассказе “Как помирал старик” и тоже прочитал, и тоже растрогался.
Знаю, Вы поймете меня: в рассказах нет и тени сентиментальности, да и я никогда не страдал этой болезнью. А трогает, будит чувство разительная верность Вашей речи, воспринятой от героев и словом писателя героям возвращенной.
Я и прежде не один раз дивился Вашему острейшему уменью изображать лица средствами диалога. В мастерстве этом Вы, кажется, совершенствуетесь все больше.
У меня нет никаких иных целей, кроме желания сказать Вам по-читательски – спасибо за доставленную радость превосходного чтения. Пишу же Вам, дорогой товарищ, с настоящим удовольствием.
Будьте здоровы и – счастливо идти Вам по нелегкой дороге сочинителя, – да будет она для Вас и долгой, и славной.
Конст. Федин.
Сентябрь 25-го 1967 г.».
«Дорогой Константин Александрович! – отвечал Шукшин моментально. – Знаю, Вы за свою славную, наверно, не всегда легкую, жизнь ободрили не одного, не двух. Но вот это Ваше бесконечно доброе – через Москву – прикосновение к чужой судьбе будет самым живительным (приму на себя смелость и ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – обещать).
Получив Ваше письмо, глянул, по обыкновению, на адрес и… вздрогнул “От К. Федина”. Долго – с полчаса – ходил, боялся вскрыть конверт. Там лежал какой-то мне приговор. Вскрыл, стал читать… Захотелось скорей проскочить письмо, и потом помучиться, помычать и сесть и писать совсем иначе – хорошо и крепко. А потом перечитывал письмо, немножко болело, но крепло то же желание: писать лучше. “ Бог с ним, думаю, но отныне нигде не совру, ни одно слово не выскочит просто так”.
Спасибо Вам, Константин Александрович!
У Вас добрая, теплая, наработавшаяся рука.
Дай Вам бог здоровья!
Спасибо.
30 сент. Вас. Шукшин».
Опять же это написал не Твардовский, а тот, кого Твардовский презирал за трусость, лукавство, конформизм, непоследовательность, зависть, в том числе и из-за Солженицына, ибо Константин Александрович не просто вынужденно принимал участие в травле, но был одним из самых яростных, ревностных гонителей, и здесь возникает чрезвычайно любопытный поворот сюжета, как раз с Солженицыным и связанный.
«Ужасен в своем бесстыдстве и потакании самым подлым антисолженицынским настроениям был Федин», – записывал Твардовский в дневнике 23 сентября 1967 года, на следующий день после того, как состоялось заседание секретариата Союза писателей СССР под председательством Федина, где против Солженицына поднялась союз-писательская команда, и хотя, конечно, все это могло быть простым совпадением, но получается так, что, отправив письмо Шукшину три дня спустя после этого позорного действа (о котором выразительно напишет Александр Исаевич в автобиографической книге «Бодался теленок с дубом»[37]37
«На лице Федина его компромиссы, измены и низости многих лет впечатались одна на другую, одна на другую и без пропуска (и травлю Пастернака начал он, и суд над Синявским – его предложение). У Дориана Грея это всё сгущалось на портрете, Федину досталось принять – своим лицом. И с этим лицом порочного волка он ведет наше заседание, он предлагает нелепо, чтоб я поднял лай против Запада, с приятностью перенося притеснения и оскорбления Востока. Сквозь слой пороков, избледнивший его лицо, его череп еще улыбается и кивает ораторам: да не вправду ли верит он, что я им уступлю?..»
[Закрыть]), Федин как бы замаливал грех перед русской литературой или же – сознательно или бессознательно – искал Солженицыну альтернативу, обретая ее в Шукшине. А если предположить, что высокая оценка рассказов Шукшина лукавым советским классиком была до Твардовского доведена, то и симпатий Трифоныча к Макарычу она не прибавляла, хотя, понятное дело, Шукшин тут был совершенно ни при чем.
Однако для биографии нашего героя тот факт, что именно Федин, первый из крупных русских писателей, не считая Виктора Некрасова, его благословил, был важен еще и потому, что за Фединым, этим «министром собственной госбезопасности», этим «Горьким сегодня», как говорили о нем в секретариате Союза писателей СССР, стояла не только бесславная и почетная старость, но и великая традиция, восходящая к литературе европейской, литературе русского зарубежья, к «Серапионовым братьям», к знаменитому петроградскому «ДИСКу» – «Дому искусств», где Федин вместе с Гумилёвым, Георгием Ивановым, Ходасевичем, Зощенко спасал литературу во времена голода и разрухи. Это уже совсем другой уровень и другой авторитет, чем у А. М. Дроздова из докочетовского «Октября», не говоря уже о самом Кочетове. У Федина была не только расчетливая осторожность, так раздражавшая главного редактора «Нового мира», но и безупречный литературный вкус, культура, эрудиция, даже некоторый снобизм, преодолеть который дорогого стоило. И наконец, еще один момент: Федин в течение многих лет вел семинары в Литературном институте, и с этой точки зрения благословение мастера означало нечто вроде вручения диплома с отличием несостоявшемуся студенту Лита, в котором (дипломе) Шукшин, может быть, особенно и не нуждался, но профессиональное признание было ему позарез необходимо. Федин своим письмом брал под защиту, выдавал охранную грамоту тому, кого многие из московских высоколобых критиков и критикесс признавать не желали и презрительно кривили губы – Шукшин, какой Шукшин, это который актер, который выскочка, литературный самозванец, эпигон?[38]38
В заключение сюжета с Фединым скажем, что в 1971 году Шукшин обратился к нему с просьбой написать предисловие к однотомнику своих рассказов. «Честно говоря, до сих пор не знаю: может, я на себя много взял? Если так, то не придавайте этому письму значения, этой моей просьбе, и даже не отвечайте: я отчетливо сознаю, сколько мало у Вас времени и как дорого оно Вам». Федин Шукшину ответил, но что именно, неизвестно, однако книга «Беседы при ясной луне» вышла без предисловия в 1974 году.
[Закрыть]
Как писателя – а не только актера и режиссера – Шукшина принимали теперь и на родине. Весной 1967 года Василий Макарович встречался с читателями Бийской центральной библиотеки, честно признавшись, что выступать перед земляками ему труднее всего, но и так же трудно было руководству библиотеки эту встречу организовать, преодолев сопротивление местных властей, относившихся к Шукшину весьма подозрительно. Тогда же он снялся в телевизионном фильме, посвященном Бийску («На съемках Шукшин был немногословен. Мы не чувствовали давления его авторитета. Больше того, он как бы стеснялся, – вспоминал Ф. Клиндухов. – Так же прост и стеснителен он был и со своими земляками. Я помню его встречу с жителями поселка Лесной»), однако самым запоминающимся в этой поездке оказалось выступление в бийской воспитательно-трудовой колонии для несовершеннолетних, мимо которой он не раз в своей жизни проезжал и признавался начальнику колонии И. Д. Кремневу, что «нередко думал о том, чтобы побывать в колонии».
Что влекло его в это мрачное место – творческий интерес (а по воспоминаниям Кремнева, Шукшин расспрашивал его о ворах в законе) или мысли о собственной беглой юности, но можно почти не сомневаться: глядя в эти мальчишеские лица, Шукшин не мог не вспоминать самого себя, ушедшего из родного дома в семнадцать лет в большую, неизвестную жизнь, когда только чудо и материнские молитвы спасли его от той беды, в какую попали эти ребята. И слова, сказанные Шукшиным после посещения колонии: «Нет, мама, жив не буду, если я для этих мальчишек чего-нибудь не сделаю», – отражают ту боль, которую он, очутившись в этих стенах, испытал и позднее выразил в «Калине красной», «…посещение ваших детей его просто подтолкнуло к созданию повести “Калина красная”», – недаром написал алтайской исследовательнице творчества Шукшина А. С. Пряхиной Иван Попов. А в воспоминаниях Марии Сергеевны Куксиной, матери Шукшина, рассказывается о том, что «Вася оттуда вернулся слишком поздно и каким-то не таким, расстроенным… Прилег на кровать. Курил папиросы одну за другой». А на ее вопрос: «Чо-нибудь, поди, случилось?» – отвечал: «Если бы ты, мама, только знала, как жалко мне этих ребят: ведь среди них хороших-то поболе, однако, чем плохих. И думаю я, ну почему они такими стали? Отчего?.. Я со многими там беседовал, расспрашивал о жизни, о родителях и вот расстроился окончательно…»
ВАСЯ БЫЛ СЧАСТЛИВЫЙ, ЧТО ТЫ У НЕГО БЫЛА
«А у меня родилась дочка Мария. А я рад, как дурак. Глебушка, пьян», – писал Шукшин еще одному своему хорошему другу-писателю, великану Глебу Горышину в мае 1967 года, а через несколько месяцев сообщал приземистому и коренастому Белову: «Маня растет…» И в другом письме: «Маню видал? Славная девка, русская! Я ее зову по-иностранному – Мэри Шук».
Маму этой девочки знают в нашей стране не меньше, чем самого Василия Макаровича Шукшина. Лидия Николаевна Федосеева – выпускница ВГИКа, уже известная в ту пору, несмотря на молодость, поразительной красоты, таланта и обаяния актриса, с которой Шукшин познакомился летом 1964 года в Крыму на съемках фильма «Какое оно, море?» (а до этого они пересекались еще во ВГИКе). Эта встреча стала для Василия Макаровича гораздо большим событием, нежели просто увлечение или курортный роман, хотя именно так беззаботно, молодо и ни к чему не обязывающе все начиналось.
Лидия Николаевна любила вспоминать о том, как она не хотела сниматься вместе с Шукшиным из-за слухов о его постоянных загулах и пьянстве и как все переменилось, когда они оказались в одном купе по дороге на юг: «Я потихоньку наблюдала за Шукшиным: глаза у него зеленые – веселые, озорные и хулиганистые. Компания оказалась на редкость приятной, и я запела. И запела – “Калину красную”. Он вдруг странно посмотрел на меня и подхватил… Когда же все заснули, чувствую, как кто-то входит в купе. Смотрю – Вася. Тихонько присаживается ко мне и говорит: “Ну, давай, рассказывай о себе”. Всю ночь мы проговорили. Когда ехали в автобусе в Судак, остановились в лесочке. Помню, я первая вошла в автобус, а Шукшин за мной и что-то под пиджаком держит. Спрашиваю: зверька поймал? А он мне – маленький букетик цветов. Потом узнала, что это были первые цветы, которые он подарил женщине. Я долго хранила их».
Это ощущение непрекращающегося праздника, возникшее в Крыму, подтверждается и другими мемуаристами. «Шукшин был оживлен, часто пел. В один свободный от съемок день вместе с Лидией Николаевной Федосеевой, будущей женой Василия Макаровича, мы поехали гулять в Новый Свет. Было солнце, было весело. Шукшин был счастлив», – вспоминал Виталий Гинзбург.
Все это так, однако это было то самое лето, когда в Судаке Василий Макарович писал письма и в тревоге ждал ответных от Виктории Софроновой, уже носившей под сердцем его ребенка, а по возвращении из Крыма поехал с Софроновой в Сростки, и рано или поздно ему предстояло сделать нелегкий для себя выбор. Да и мать на него давила: как выглядело это в глазах сельских жителей, от которых ничего скрыть было невозможно – женился на Шумской, но жить с ней не стал, зато каждое лето приезжал с новой подругой: в 1963 году с Александровой, в 1964-м – с Софроновой, в 1965-м – с Федосеевой? Мария Сергеевна желала, чтобы сын определился, а он признавался своей второй маме, О. М. Румянцевой, что запутался в женщинах.
«Вася оказался меж двух огней, – вспоминала Виктория Анатольевна Софронова. – Он жил то с Лидой, то со мной. Ему дали квартиру в Свиблове, и когда у него что-то с ней не заладилось, она ушла, он пригласил нас с Катей к себе. Мы приехали, но мне было там неуютно, к тому же Вася пил. Мы уехали к себе…»
За этими скупыми строками угадывается вполне понятная женская история: трудно быть хозяйкой в таком доме, трудно жить с таким человеком, трудно терпеть. А Лидия Николаевна вернулась и некоторое время спустя стала женой Шукшина.
…Об этой женщине написано, снято, рассказано, наврано невероятно много. Ее семейной жизни с Шукшиным так и не было суждено остаться личным делом двоих, и очень многие, знавшие Василия Макаровича, не раз высказывались на эту тему, в том числе его ближайшие друзья – Василий Белов и Анатолий Заболоцкий.
Так, Василий Иванович вспоминал о том, как Шукшин порой уходил из дома, как подолгу жил у Заболоцкого («В ответ на мой вопросительный взгляд Макарыч крякнул: “Да не могу я с ней сладить! Вот к Толе сбежал…”»), или как однажды, приехав к Шукшиным в Свиблово, застал своего друга с бокалом сухого вина в руке, а у дверей стоял большой чемодан: «Мы разводимся, – сказала Лида, заметив мое недоумение по поводу чемодана».
Другая сцена: «Когда я спросил Макарыча о причине очередного скандала, он отмахнулся: “Деньги… Бабам нужны деньги, больше им ничего не нужно… Я удочерил девочку… Ну, ту, которая у Вики. А то больно уж непонятная фамилия…”».
Вообще в мемуарах Василия Ивановича Лидия Николаевна представлена не с лучшей стороны (возможно, здесь сыграли свою роль ее судьба после смерти Шукшина, а также политические взгляды в 1990-е годы), однако в письмах – которым веры всегда больше – возникает иной образ:
«Лида, наверно, обиделась на меня. Не надо. Ты передай ей большой поклон, – писал Белов Шукшину 16 сентября 1965 года. – Она же хорошая у тебя, умница». И в других письмах 1960-х годов: «Лиде сердечный поклон», «Лиде очень кланяюсь». «Обнимаю тебя и передавай привет Лиде».
Очень тепло, милосердно написала о Лидии Николаевне Ася Самойловна Берзер в статье «Таким я его помню»:
«Для меня Шукшин всегда делился на два периода – до Лиды и с Лидой. Помню ее вопрос при самом первом знакомстве: что я считаю у Васи самым главным. И свой ответ – прозу.
– И я тоже, – сказала она.
И фразу, которую Лида повторяла много раз как-то по-шукшински:
– Только бы Вася писал. Только бы Вася писал…»
«Жили они хорошо. “Я его не вижу и не слышу, – говорила мне Лида, – он дома, но его нет. Встал, морду умыл – и к своим тетрадям”», – рассказывала не без иронии и ревности Нонна Мордюкова в интервью журналу «Бульвар Гордона» (2008. 29 января).
А вот голос Лидии Николаевны: «Шукшин мог две-три недели пить, был агрессивный, буйный. Я выгоняла из дома всех, кого он приводил. На себе его не раз притаскивала. Был даже случай, когда увидела мужа лежащим около дома, а я тогда была беременная. Лифт не работал. Что делать? Взвалила на себя и потащила. Думала, рожу… До этого два года у нас не было детей, для меня это было трагедией. Когда же родилась Маша, он бросил на время пить. Дети его спасли… Он за 10 лет нашей жизни только раза три, от силы пять, объяснялся мне в любви, да и то – от обиды или ревности. И вместе с тем хорошо знал меня, понимал… Василий Белов после похорон сказал мне: “Вася был счастливый, что ты у него была. Он мне это сам говорил”. А я от мужа таких слов никогда не слышала».
Однако быть женой Шукшина оказалось непросто не только в силу этих, условно говоря, бытовых обстоятельств. Существовали и более глубинные, бытийные причины. Среди рабочих записей Василия Макаровича встречается такая: «Я – сын, я – брат, я – отец… Сердце мясом приросло к жизни. Тяжко, больно уходить», – и отсутствие позиции мужа здесь очень показательно, как и то, что незадолго до смерти он написал: «Буду помирать, последняя моя мысль будет о Родине, о матери, о детях». Не о жене, и дело тут не в том, какой была его жена, а в том, что Шукшин принадлежал к той породе мужчин, для кого мать важнее всего на свете. Вспомним еще раз слова Буркова, с которым Василий Макарович был предельно откровенен: «…однажды Шукшин сознался мне, что он тоже “маменькин сынок”», и это обидное выражение имело в шукшинских координатах совсем другой, глубинный смысл. Недаром он так боялся мать потерять, умереть позже, чем умрет она, и здесь тоже есть что-то андрей-платоновское, уводящее в детство, против которого любая женщина кроме матери бессильна – так, в «Сокровенном человеке» Фома Пухов «вернулся к детской матери от ненужной жены».
А что касается Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной, то всем печальникам шукшинской судьбы, всем сокрушавшимся и сокрушающимся, что он-де не на той женился и как она могла потом… да как она посмела… да что она себе думала… – всем этим людям стоило бы припомнить слова Пастернака, сказанные, правда, в связи с другим литератором, но в данном случае более чем уместные: «Бедный Пушкин! Ему следовало бы жениться на Щеголеве и позднейшем пушкиноведении, и все было бы в порядке». Так же и с Шукшиным…







