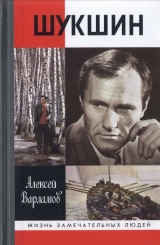
Текст книги "Шукшин"
Автор книги: Алексей Варламов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 36 страниц)
НЕОХОТА УЖ ТАК ПИСАТЬ
В 1970-е годы проза Шукшина менялась и стилистически, и интонационно, причем эти перемены были в определенном смысле обратно пропорциональны тому, что он делал в кино. Если там наученный горьким опытом «Странных людей» Василий Макарович стремился к большей простоте, доступности, мелодраматичности, динамике, к народности своих картин, то проза его год от года становилась глубже, изощреннее, сложнее, богаче внутренними смыслами и откровенной игрой.
Шукшин сказал об этом в беседе с Валерием Фоминым:
«В литературе – другое. Там боязнь, что тебя не поймут, что можешь показаться неинтересным, как-то меньше терзает. Когда пишешь рассказ, меньше думаешь о том, как он будет восприниматься. Конечно, тоже беспокоишься, но не так, как в кино. Книга уходит с прилавка – что с ней дальше? Кто ее читает? Как? Тут трудно уследить, даже если и захочешь.
А в кино ты весь как на ладошке. Тут все наглядно очень проявляется. Зал сидит, затаив дыхание, смеется, кто-то слезы вытирает. Значит, задел за душу. Либо, глядишь, фильм только-только начался, а народ уже к выходу повалил. Тут вот и наступает для тебя самая жуткая казнь. Видишь сам, что промазал, оказался беспомощным, сказал что-то не то или не так. И тут не может быть для тебя другой более лютой казни, чем этот на глазах редеющий зал. Вот почему я не могу позволить себе роскошь снимать фильмы так, чтобы их не понимали».
Фильмы – не мог позволить, а рассказы – мог. И еще как позволял. Поздний Шукшин за редким исключением вообще как-то меньше известен среди любителей литературы, навеки пристегнувших его к безобидным «чудикам», хотя поздняя проза – это, может быть, самое интересное, самое неожиданное из того, что он написал. Достаточно цельный при всех своих противоречиях художественный мир Шукшина 1960-х годов, в 1970-е не то чтобы раскалывается, но дает побеги в разные стороны. Наряду с документализмом рассказов, условно говоря, автобиографических («Рыжий», «Мечты», «Кляуза») и, как это ни парадоксально, мистических («Сны матери», «На кладбище»), у Шукшина выходили произведения откровенно анекдотические, хулиганские, экстремальные – такие, как объединенные в мини-цикл под названием «Две совершенно нелепые истории», рассказы «Как Андрей Иванович Куринков, ювелир, получил 15 суток» и «Ночью в бойлерной». И это совсем другой, неожиданный Шукшин. Какой-то андеграунд, диссидентская усмешка либо пародия на «самиздат».
«– Нам известно про всю вашу деятельность.
– Какую дея…
– Молчать! Сядьте! Сесть!
Закройщик сел.
– Нам все известно, даже чего вам неизвестно» («Как Андрей Иванович Куринков, ювелир, получил 15 суток»).
Менялся и герой Шукшина. В рассказе «Вечно недовольный Яковлев» главный герой – это еще один представитель шукшинских чудиков, но теперь этот персонаж описан почти без симпатии – по крайней мере у читателя он таковой не вызывает (авторское отношение, надо полагать, несколько сложнее: драчливый Яковлев чем-то напоминает молодого Шукшина, который наскакивал на Василия Белова на пустынной площади перед Савеловским вокзалом), а противопоставленный ему человек середины, человек нормы, семьянин, дружно живущий со своей пучеглазой женой, напротив, симпатичен очень. И если внимательно приглядеться к поздней шукшинской прозе, то таких смысловых, а как следствие и стилистических сдвигов можно найти немало. Все его «Выдуманные рассказы» – эти, еще меньше, к сожалению, известные читателю, абсолютные шедевры малой прозы Шукшина, его «крохотки», его «затеси», его «опавшие листья» – тому свидетельство.
«Завидки берут русского человека – меры не знает ни в чем, потому завидует немцу, французу, американцу.
Все было бы хорошо, говорит русский человек, если б я меру знал. Меру не знаю. И зависть та тайная, в мыслях. На словах, вслух, он ругает всех и материт. И анекдоты рассказывает» («Завидки»).
Это опять полемика с самим собой, со своим когда-то восхищением крайностями русского характера и даже покушение на национальную самобытность и самодостаточность, но вместе с тем – абсолютная неотделимость себя от этого же народа.
Или такая история, чем-то антонимичная по отношению к думающему герою из фильма «Живет такой парень»: «Мужик (шофер) собирается в загранку. Важен. Спесив. 30 р. советских денег. Водки не пить. С бабами чужими – ни-ни… Очень важный (дорогу едут в Монголию строить). На вопросы отвечает с паузами. Все думает, думает…» («В загранку»).
В последнее время литературоведы заговорили о модернистских и постмодернистских чертах шукшинского творчества, но суть не в формальных определениях, а в том, что поздний Шукшин спорит с ранним, пародирует, а то и отрицает раннего. Это он и сам понимал, о чем говорил Фомину: «Сравниваю свои первые вещи с теперешними и сам замечаю: вместо лирики, теплоты, мягкого беззлобного юмора по отношению к герою накапливается нечто иное. Все чаще в строку просится ирония, подчас горькая и весьма ядовитая. Идет внутреннее борение самого с собой: не могу забыть войны и того, каким виделись тогда люди, а с другой стороны, сегодняшний мой опыт заставляет подчас смотреть на своих современных персонажей куда как построже… Порой это противоречие между тем, что было, и тем, что стало, меня просто разрывает. Такое ощущение, что народ наш сегодня просто на карачки опустился…»
Так жестко о народе он прежде не говорил. То почти благоговейное отношение к деревенскому миру, которое исповедовал Шукшин в своем творчестве в 1960-е годы, то, о чем он писал в проникновенных публицистических статьях во славу деревни, частично изменилось. Он уже прошел через это, оказался впереди и смотрел на вещи иначе, становясь ироничнее, злее, жестче по отношению к тому, что некогда яростно защищал от «горожан»: «Может быть, высшая форма уважения к человеку и заключается в том, чтобы не скрывать от него, каков он есть на самом деле… Я писал и снимаю о людях села, и рассказы мои долгое время были однообразно-почтительными по отношению к моим сельским героям. Теперь это не устраивает меня. Дело не в том, что я разлюбил их. Любовь осталась, любовь не уйдет. Но она должна быть более трезвой. В этом я вижу настоящую писательскую мудрость… Про сельских людей – якобы непременно чистых душой и невинных телом – писать становится все сложнее. Неохота уж так писать. Да и раньше я не считал, что писать так надо. И все-таки что-то порой заставляло писать в таком духе. А теперь уже не могу. Отношение к герою меняется. Да и герои-то, похоже, тоже меняются. Напрашивается сатирическая струя. Из души рвется разговор горький, немного даже ожесточенный. Жизнь меняется. И нам надо меняться. И разговор о том, что дорого, и о том, что ненавидишь, надо вести уже другой».
Подходило ли это все «Нашему современнику»? Ему скорее подошел бы Шукшин «октябрьский» или «новомирский» (а вот в «Новом мире» Твардовского Шукшин 1970-х прозвучал бы мощнее), тот самый, который «мужика и сам не тронет». А теперь – трогал.
«Повесть в “Современнике” мне завернули, на мой взгляд, вовсе безобидную. Говорят: “Мы в течение года не будем давать ничего острого”. Завалили журнал. Я больше туда не пойду. Где возьмут сразу, без разговоров, туда и отдам», – сообщал он Белову в 1974 году, и эти строки и жесткая оценка деятельности редколлегии «Нашего современника», а также готовность напечататься где угодно – говорят сами за себя.
И в следующем письме: «Раньше бы расстроился, а сейчас – лежи, хоть что (может, перелечился?). Нет, какой-то Новый этап наступает, несомненно. “Ничего-о, думаю, это еще не конец. Буду писать и складывать”».
«Отклонили 11 рассказов, из 15 листов осталось 9. Я был там, говорят: “Ну, это тоже неплохо”, – писал ему же раньше, и очень существенно продолжение этой мысли: – Оно, знамо, неплохо… Но в отличие от тебя я и не зависаю в безденежье – шут с ними. С паршивой овцы… Это редкое удовольствие – сказать: не подходит? – прекрасно!»
Василий Шукшин, признанный русский, советский писатель, был готов уйти со своими рассказами в подполье, писать в стол, но не сдавать позиций, однако тут есть один существенный момент: кинематографист Шукшин, в отличие от большинства советских писателей, никогда не рассматривал литературу как основной источник дохода и мог позволить себе держаться с редакторами и издателями независимо. А когда очень жали мерзавцы, писал наверх Демичеву с какими-то делано простонародными, ерническими в духе «Внезапных рассказов» интонациями и прямо просил помочь с изданием романа «Я пришел дать вам волю»:
«Простите меня, Петр Нилович, за надоедливость, но я подумал-подумал – чую сердцем – больше нигде не помогут. Хоть бы ясность какую-то… четвертый год я с этим “Разиным” вошкаюсь, устал от одних разговоров в кабинетах, совестно околачивать пороги в издательстве. Я уж, грешным делом, и “на испуг” Лесючевского (главного редактора издательства «Советский писатель». – А. В.) брал, говорю: “Не обижайтесь, буду жаловаться”. Он весело смотрит на меня и спокойно говорит: “Жалуйтесь”. Нет, вижу, не боится – что-то у него такое есть, что мои “угрозы” не действуют. Но прямо не говорит. Это гнетет меня, я работаю, но – то ли мне думать о “Разине”, то ли отстать душой, да и жить дальше. Главный тормоз в издательстве, от этой “печки” я бы и в кино “пошел танцевать”, чую».
Ну кто бы еще так в ЦК мог позволить себе написать? То был, пожалуй, первый из известных нам случаев, когда Василий Макарович обращался к начальству не по поводу кино, а по поводу литературы, но опять-таки по той единственной причине, что книга должна была помочь фильму и служила средством достижения цели, ибо зажимать Шукшина стали и здесь. Если в 1960-е годы мы не найдем его жалоб на то, что не печатают, то в 1970-е – они появились.
«Я как-то спросил его: вам, наверное, сейчас легко печататься, все-таки лауреат Госпремии и прочее? – вспоминал Евгений Попов свой разговор с Шукшиным в начале 1970-х. – Как бы не так, говорит, каждый раз свои тексты приходится пробивать, вот сейчас мы с тобой расстанемся, и я пойду в гостиницу, там редактор из Питера приехал, буду его, как проститутка, обхаживать…»
Иногда печатали, снабжая публикацию дурацкими врезами, полностью искажающими авторский замысел, как случилось в журнале «Сельская молодежь» с рассказом «Пьедестал» (первоначальное название «Странности Константина Смородина», опять же новый поворот в теме «чудиков»). Но Шукшин шел и на это – если вспомнить выражение Андрея Платонова – «сливочное масло» от издательства[50]50
Вот это предисловие: «Герой рассказа „Пьедестал“ – человек, далекий от искусства, от творчества, не обладающий искрой таланта. Но ему внушили, что все это у него есть. И он усиленно пробивается в „гении“, избирая, казалось бы, самый верный, самый безотказный путь – создать нечто настолько выходящее из ряда вон, чтобы поразить всех. Поэтому он не просто пишет, он „придумывает“ картину. И здесь, как всегда, писатель удивительно точно попал в цель, изобразив типичный путь в „гении“ иных современных „ремесленников от искусства“, рядящихся в тогу модернизма. Рассказ написан в манере острой сатиры, гротеска. От былого добродушного юмора, который был уместен по отношению к героям, симпатичным писателю, не остается и следа».
Тут вот что обращает на себя внимание: рассказ много сложнее и неоднозначнее и по замыслу, и по исполнению. И когда инфернальная жена Смородина, Зоя, запрещает мужу писать картину «про передовика какого-нибудь», вспоминаются строки Василия Макаровича из письма сестре, объясняющие замысел и выбор героя «Калины красной»: «Конечно, про передовиков – меня хвалить будут, но не хочу».
[Закрыть], и его писательская работа, которой он отдавал все больше времени и сил, была творческим ответом на все запреты и невзгоды, его ударом, для которого сильнее сжимались кулаки, но недаром, по воспоминаниям Георгия Буркова, Шукшин задавал «странный и зловещий» вопрос: «Если что случится, тебе есть куда бежать?» И отвечал на него: «К матери!»
Психология беглеца, кержака, готового уйти от чрезмерного давления, – вот где можно обнаружить след подлинной шукшинской судьбы с ее пушкинском акцентом:
…Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.
Такой обителью были для Шукшина Сростки, материнский дом, этот потерянный рай, сон о прощенном детстве, духовный тыл.
«Между матерью и сыном через тысячи километров была натянута струна, по которой шло напряжение высочайшей духовной силы, – рассуждал Бурков. – Мария Сергеевна осталась в Сростках, и даже не порываясь переехать в Москву, по-моему, сознательно, специально. Она надеялась, нет, она знала, сын вернется на Родину. Навсегда. Я даже подозреваю, что это была их общая тайная программа. Мать держала территорию до прихода сына. Догадываюсь, что это было нелегко».
Это было действительно нелегко, но удерживать территорию Марии Сергеевне не позволяло здоровье: она навсегда переехала из Сросток в Бийск в 1972 году, а Шукшин жаловался ей на свою режиссерско-актерско-писательскую долю: «Тянуть эти три воза уже как-то не под силу становится. И вот мечтаю жить и работать с удовольствием на своей родине. <…> Сплю и вижу, как мы с тобою вместе живем».
Если учесть, что эти строки (опять заставляющие вспомнить пушкинский стих с его «а мы с тобой предполагаем жить») писались из больницы, куда Василий Макарович угодил с язвой, то можно понять, как тяжело ему эта насыщенность давалась, а вот что касается жить и работать на родине, с этим все оказалось много сложнее…
СВЕТЛЫЙ, ВЕСЕЛЫЙ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ, ПРОНИКНУТЫЙ ЛЮБОВЬЮ К СОВЕТСКОМУ ЧЕЛОВЕКУ
В том же письме к матери Шукшин сообщал: «…впереди огромная работа (три фильма о Степане Разине) – года на четыре запрягусь». В то, что ему удастся рано или поздно этот фильм сделать, вымечтать у судьбы, он, похоже, не сомневался, но прежде нужно было снять кино на современную тему.
После двух не слишком удачных картин Шукшин не имел права на ошибку. Если бы провалился и новый фильм, его просто могли бы отправить в резерв, за штат, на скамейку запасных, эта неудача могла бы стать еще одним аргументом для «антиразинской» коалиции, и Шукшин все это хорошо понимал, как понимал и то, что позднее точно сформулировала Лариса Ягункова: «К концу 60-х годов в кинематографических кругах у Шукшина сложилась репутация неудачника, вроде бы много обещавшего, но ничего толком не сделавшего». А Заболоцкий не менее справедливо замечал, что в кинематографической среде к Шукшину относились как «к парню не без способностей»: «Все эти годы в общественное мнение кинематографистов внедрялась оценка – Шукшин талантливый артист, книг тогда еще не печатали, а как режиссер – бездарь, ну середняк. Я слышал об этом на каждом углу».
Заболоцкий имел в виду как раз период до «Печек-лавочек», а в том, что касалось книг, конечно, ошибался – книги были[51]51
Еще более странным выглядит утверждение Анатолия Дмитриевича Заболоцкого в «Русском вестнике» в 2011 году: «Опубликовать написанное была главная забота его жизни. До его смерти он успел опубликовать всего один том из восьми томов, опубликованных в Барнауле в 2009 году. Вот сколько текстов лежало у него в столе». Достаточно открыть комментарии к шукшинскому восьмитомнику, для того чтобы убедиться: за очень небольшим исключением вся проза, что в эти восемь томов вошла, была при жизни Василия Макаровича опубликована.
[Закрыть]. Но насчет кино – все так и обстояло. Шукшин должен был сложившуюся репутацию сломать и снять классное, кассовое, успешное кино, должен был, перефразируя самого себя, изогнуться, завязаться узлом, но не кричать в пустом зале, сделать так, чтобы зритель не уходил с его фильма, чтобы фильм себя оправдал, окупил. И Василий Макарович начал действовать.
Во-первых, он использовал собственный оригинальный сценарий, основанный не на рассказах, а на киноповести, с одним главным героем, Иваном Расторгуевым, очень динамичный, живой, разнообразный, в котором была масса смешных ситуаций, положений, изменений. И четко обозначил жанр, который приносил наибольший успех, – комедия. Права называться так у этого фильма было не больше, чем у «Такого парня», однако в 1964 году молодой режиссер громко протестовал против определения «комедия». «Герой нашего фильма не смешон», – возражал он. Но разве Иван Расторгуев смешнее Пашки Колокольникова? И все же теперь соглашался, хотя и уточнял, что «разговор должен быть очень серьезным».
Связь между двумя картинами «Живет такой парень» и «Печки-лавочки» (и как бы вынесение за скобки двух «неудачных» фильмов) отразилась и в заключении Сценарно-редакционной коллегии, которая будто каялась перед режиссером за Разина и заключала устами вчерашних гонителей: «В сценарии много юмора, характерного для творчества Шукшина, отличного знатока русской деревни. Киносценарий “Печки-лавочки, продолжающий линию фильма В. Шукшина “Живет такой парень”, может стать добротной основой для постановки комедии на материале жизни наших современников».
Во-вторых, он частично поменял команду. В «Печках-лавочках» с Шукшиным работал новый оператор, чье имя так часто встречается на страницах этой книги и кто стал не только автором весьма пристрастных, острых, спорных, политнекорректных, великолепных возмутительных мемуаров и запальчивых открытых писем, но прежде всего – другом, сотрудником и соратником Шукшина, а кроме того, высочайшим профессионалом.

«Тихая моя родина…»

Печки-лавочки Василия Шукшина
Историю своего знакомства с Василием Макаровичем в конце 1960-х Анатолий Заболоцкий вспоминал так: «…когда посмотрел на студии только что законченный производством фильм “Странные люди”, мне показалось, что картина неряшливо снята, хорошо написанные диалоги и актерское исполнение требуют иного отбора со стороны художника и оператора. Появившись в очередной раз в Москве (адрес Макарыч мне оставил), я приехал с утра на улицу Русанова, на звонок открыл сам Макарыч с беленькой девочкой на руках, тут же, ногу ему обвив, выглядывала другая: “Видишь, вот настрогал, и попробуй займись добрым делом”.
Пошли на ту самую, всеми поминаемую, малометражную кухню. Напрямик высказал, зачем к нему с вокзала привернул: “Вася, твой фильм снимать должно лучше, чувствую и предлагаю свои услуги”. Он посмотрел с усмешкой, показалось, даже зло, игранул желваками. По скулам рукой провел: “А может, лучше так: читай любой рассказ, бери, ставь сам, я тебе право на экранизацию даю. Будь автором”. – “Нет, Вася, иная моя профессия. Я оператор, своим делом овладел, хочу помочь, чтобы твое дело выглядело убедительнее, правда, для добычи нужен еще художник, а лучше и композитор”. – “Э, брат, разве моя воля собирать артель? Не позволительно. У меня хозяин Бритиков во где сидит…”».
В итоге с прежним оператором Валерием Гинзбургом Шукшин действительно мирно расстался, а Заболоцкий сделался его оператором во всех последующих картинах, хотя все прошло не слишком гладко. «На всю оставшуюся жизнь запомнился эпизод, случившийся на съемке объекта “квартира профессора”, – писал Заболоцкий. – Я ставлю свет, из гримерной приходят Санаев и Зиновий Гердт. Шукшин начинает разводить сцену. Прошлись по точкам. Вася спрашивает меня: “Когда объявить обед?” Я замешкался, в эту паузу вышагивает ко мне Гердт и четко произносит в глаза Василию: “Ты думаешь, мы простим тебя за то, что ты Валю <Гинзбурга> поменял на этого”, и указал рукой в ту сторону, где я онемелый стоял. Молчание длилось… Наконец Вася изрек: “Обед”. И после такого Шукшин от меня не отрекся. Тяжкая была атмосфера, но съемочная группа была за меня, и, слава Богу, съемки завершились».
Конечно, это был вызов, но Шукшин на него пошел и впоследствии Заболоцкого всегда отстаивал[52]52
К этому стоит добавить фрагмент из книги В. Фомина «Пересечение параллельных»: «Вопреки ожиданиям, камера Заболоцкого не перечеркнула, а подчеркнула достоинства шукшинского „разговорного“ кинематографа, добавив к ним и достоинства истинно кинематографической культуры выражения». Тут главное – это многозначительное «вопреки ожиданиям». Как же – не дождались!
[Закрыть]. Но самое главное, что Шукшин сделал для нового фильма «Печки-лавочки», – провел кастинг, в результате которого стал исполнителем главной роли – тракториста Ивана Расторгуева. Хорошо известна история о том, что на роль главного героя предполагался Леонид Куравлев, но тот сниматься у Шукшина не захотел, поскольку готовился сыграть в другой картине, и вспоминал свое объяснение с режиссером, некогда его открывшим.
«Иду я по длинному-длинному коридору Студии имени М. Горького к Т. Лиозновой – на кинопробу с Л. Броневым в “Семнадцати мгновениях весны” – и вдруг вижу: навстречу движется Шукшин. Бежать некуда, да и глупо бежать, бездарно бежать – взрослый же я человек… Встречаемся: глаза в глаза. У Василия Макаровича по скулам знаменитые желваки загуляли, левая рука в кармане брюк, левым плечом к стене привалился:
– Постой-постой! Поговорим!
А я стою, как мальчишка, потому что – о чем говорить? Я же перед ним – подонок… А он глаза сузил и говорит:
– Что ж ты мне под самый-то дых дал?!»
«Шукшину было больно предательство Куравлева – какие тут объяснения? – рассуждал Василий Белов. – Теоретически он понимал предательство слабых людей, хотя бы того же Куравлева. Только ведь одно дело понять умом, другое – сердцем. Сердце его кровоточило».
«На моих глазах происходила эта житейская игра, драма болезненная, внутрь спрятанная, – вспоминал Заболоцкий. – Я был кровно заинтересован, чтоб Куравлев, а не Макарыч играл главную роль. Мне лучше снимать, когда режиссер от камеры наблюдает за организацией в кадре, а не сам всегда в кадре, занятый исполнением главной роли. Он не видит, что творится на всем пространстве, фиксируемом объективом. В первом же разговоре, состоявшемся с Куравлевым по поводу роли, Макарыч почувствовал предательство и не мог этого скрыть: “Таких печальных глаз, Леня, ни у кого ты не видел и не увидишь, наверно”. В первый приход Макарыч понял: Куравлев не хочет играть роль. “Я же вижу, материал для него малахольный. Робинзона Крузо, Шелленберга играть хочет… Ах ты, – говорил в нос, – и он уже звезда, выпорхнул Леня. Это по-русски, – подбадривал себя Шукшин. – Не получается артели, мать твою в барабан”. Но еще надеялся – подождем, может, одумается. Не одумался Леня».
Все это так, но тот факт, что в 1973 году Шукшин в день своего рождения подарил Куравлеву свою книгу «Характеры»: «Лене Куравлеву, с глубоким уважением, с любовью. 25 июля 1973 г.», а позднее написал очень доброжелательную статью «О Куравлеве», говорит о том, что он либо видел все иначе, либо умел прощать и не осуждать, либо благодарен был Куравлеву за то, что именно тот внушил ему мысль сыграть главную роль самому.
«– Вась, ну кто лучше тебя сыграет? Ну кто? Я-то лучше не сыграю! – В этом я был в высшей степени искренен. – Ты написал, ты знаешь… Ну, кто – лучше тебя?
Бывает, что самая простая, для всех очевидная мысль тебе самому никогда и в голову не приходит, другие видят, а ты – нет. Так и в тот раз; я почувствовал, что этого Шукшину не то что никто не говорил – он и сам не думал. Я просто понял по его очень острой реакции: Василий Макарович вдруг насторожился, лицо подобрело.
– Да? – спросил он, словно не веря.
– Ну конечно! Играй сам!»
Так это было или не так, но Шукшин и сыграл. (А Куравлева предполагал на роль одного из соратников Степана Разина, «в высшей степени жестокого человека, но доброй воли».)
В заявке на картину «Печки-лавочки» Шукшин написал слова, ставшие хрестоматийными:
«Через страну едет полноправный гражданин ее, говоря сильнее – кормилец, работник, труженик. Но с каких-то странных пор повелось у нас, что деревенского, сельского надо беспрерывно учить, одергивать, слегка подсмеиваться над ним. Учат и налаживают этакую снисходительность кому не лень: проводники вагонов, дежурные в гостиницах, продавцы… Но разговор об этом надо, очевидно, вести “от обратного”: вдруг обнаружить, что истинный интеллигент высокой организации и герой наш, Иван Расторгуев, скорее и проще найдут взаимный интерес друг к другу, и тем отчетливее выявится постыдная, неправомочная, лакейская, по существу, роль всех этих хамоватых учителей, от которых трудно Ивану.
И всем нам.
Если попытаться найти в данном сюжете жанр, то это комедия. Но, повторяю, разговор должен быть очень серьезным.
Под комедией же здесь можно разуметь то, что является явным несоответствием между истинным значением и наносной сложностью и важностью, какую люди пустые с удовольствием усваивают. Все, что научилось жить не по праву своего ума, достоинства, не подлежащих сомнению, – все подлежит осмеянию, т. е. еще раз напомнить людям, что все-таки сложность, умность, значимость – в простоте и ясности нашей, в неподдельности».
Члены ГСРК высказали режиссеру два пожелания. Первое – герой не должен выпивать: «Режиссеру будущего фильма следует подумать над тем, чтобы его картина не стала “пропагандистом” дурной наклонности, против которой наше общество должно вести активную и непримиримую борьбу». И второе – не должно быть излишеств и перехлестов в осуждении издержек прогресса, ибо «наша сегодняшняя деревня ставит задачу сближения с городом, беря на вооружение его благоустройство, культуру, средства коммуникации и т. д.».
Шукшин с этими замечаниями на словах согласился, и довольный Бритиков докладывал начальнику Главного управления художественной кинематографии Павленку о том, что «в режиссерском сценарии главный герой предстает как умный и хитрый человек, веселый и очень общительный, без какого-либо намека на алкоголизм», а также пообещал, что будет создан «светлый, веселый, художественный фильм, проникнутый любовью к советскому человеку».







