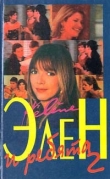Текст книги "На семи ветрах"
Автор книги: Алексей Мусатов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
Глава 3
После обеда Федя отправился на ферму.
В полутёмном парном коровнике с низкой соломенной крышей он услышал хрипловатый, напористый голос матери.
– Опять твоя мамаша шумит, – сказала Феде пожилая доярка Пелагея Конькова.
«Что там случилось?» – с тревогой подумал Федя. Он знал, что мать была крикливая, неуступчивая, не умела молчать о непорядках в хозяйстве и обычно высказывала своё недовольство резко и прямо.
По узкому проходу между стойлами Федя прошёл в глубь коровника.
Разномастные коровы, громко фыркая, жевали кисловатый силос.
В конце коровника на скользком полу лежала рыжая корова Лыска. Бока её вздувались, как кузнечные мехи, фиолетовые глаза смотрели тоскливо и жалобно. Около Лыски стояли заведующая фермой Марина Клепикова и несколько доярок.
Федина мать сидела перед коровой на корточках и бережно гладила её судорожно вытянутую ногу.
– Мам, что с Лыской-то?
– Беда, Федька… Корова ногу покалечила… – Мать показала на дыру в гнилой половице. – Шла с прогулки и провалилась.
– Слышь, Евдокия, – сказала Марина. – Имею распоряжение зоотехника: корову прирезать и составить акт. И всё будет по закону, чин чином. Лыска списана ввиду несчастного случая.
– Ах по закону!.. – Евдокия выпрямилась и тяжелым взглядом окинула заведующую.
Мать была широкая в кости, на голову выше Марины, и Феде показалось, что она сейчас толкнёт и выгонит её из коровника. Он даже подался вперёд, чтобы на всякий случай остановить мать. Но она только вытерла о фартук красные руки с растопыренными пальцами.
– Да ты что, хозяйка! Тебе бы только бумажкой прикрыться, списать да сактировать. Лыска же дно золотое, удойница. Я её на две коровы не променяю.
– Да не жилец она на белом свете, не жилец, до утра не протянет… – настаивала заведующая. – Кто тогда отвечать будет? Так уж лучше прирезать Лыску, мясом попользоваться. Вот и Семён пришёл! – Она кивнула на стоящего в воротах мужа, моложавого широколицего мужчину с аккуратными усиками и завидным румянцем на щеках.
Семён Клепиков работал в колхозе шофёром на грузовой машине, но, когда его просили, мог прирезать корову и освежевать свинью.
– А ты отвечать будешь! Ты! – Евдокия повысила голос. – Сколько раз тебе про пол говорено… Гнильё одно – вот-вот беда грянет. Разве же это ферма?
– Ну вот что… – Марина с деловым видом подняла руку. – Митингов устраивать не будем… Сейчас у нас дойка, мойка. Давайте-ка по местам. А ты, Стрешнева, Лыску готовь. Надо будет её на улицу вытащить… Помогай, Семён!
Раскинув руки, Евдокия загородила корову.

– Ну, ну, не самоуправничай, – нахмурилась Марина. – Сказано тебе – с зоотехником по всем статьям согласовано.
– Всё равно не дам Лыску губить! – закричала Евдокия.
– Ну что ж! – зло сказала Марина. – Придётся председателю доложить. Уж он-то распорядится!
– Иди-ка ты отсюда, не мешайся, – отмахнулась Евдокия. – И кстати, ветеринара пришли. Лыску лечить надо.
Марина с Семёном вышли из коровника. Пелагея Конькова сказала, что ветеринар с утра уехал в город, и посоветовала позвать Прохора Михайловича – он когда-то неплохо лечил коров и лошадей.
– В самом деле, сбегай-ка за отцом, – кивнула Феде мать.
Федя помчался в ремонтную мастерскую, где работал отец. Прохор Михайлович не заставил себя ждать и вскоре пришёл на ферму. Он осмотрел Лыску, промыл ногу, смазал и заключил её в твёрдую лубяную шину.
– Срастётся нога, Лыска ещё побегает, – успокоил он доярок. – Тут главное – покой да кормёжка.
Корову перетащили в дальний угол на мягкую соломенную подстилку, напоили, задали корму, и только тогда Федя с отцом и матерью вернулись домой. Но через час Евдокия, прихватив ведро с тёплым пойлом, уже снова побежала на ферму.
Ужинать Стрешневы сели только в девятом часу вечера.
Семья собралась большая: отец, мать, старший брат Николай, сестра Ольга и младшее поколение – Федя и Ромка.
В это время в избу вошёл Семён Клепиков. Он потоптался у порога и сказал, что завтра едет в город, – не надо ли что-нибудь купить Стрешневым.
– Спасибо, вчера сами были, – ответила Евдокия, подозрительно косясь на соседа и не понимая, зачем он явился.
В семье Стрешневых не очень-то жаловали Семёна Клепикова. В Родниках постоянно жила его жена Марина, а сам он уже несколько раз уходил из колхоза. То работал весовщиком на станции, то продавцом в городе, то шабашничал по округе с артелью плотников. Потом Семён вновь возвращался в деревню. Последний год он работал в артели шофёром, а чаще всего выступал в роли колхозного толкача и доставалы.
Он уезжал на несколько дней куда-то на грузовике, что-то привозил и увозил, говоря, что действует по особому поручению колхозного начальства.
Домой Семён возвращался навеселе, сорил деньгами и любил похвалиться перед соседями, что с таким председателем, как Фонарёв, жить на свете можно – сыт, пьян и нос в табаке.
«Приблудный он какой-то на нашей земле, непутевый, – говорил про соседа Федин отец. – И за что только в колхозе его держат?»
Наконец Семён присел на лавку и с лёгким упрёком обратился к Евдокии:
– И чего ты опять с моей Мариной схватилась? С фермы чуть её не выгнала, наговорила невесть что…
– И поделом ей, – сказала Евдокия. – Ишь моду взяла – коров изводить.
– Так ей виднее. Начальство всё-таки, заведующая фермой.
– А мы кто ж?.. Как горох в погремушке: тряхни посильнее – мы и загремим: «Ах, как всё хорошо, отрадно!»
– Ты, Евдокия, не расходись. – Семён нахмурился. – Шумишь вот, скандалишь – а толк какой? Вот и дядя Прохор вроде тебя. Был бригадиром, в начальниках ходил, а теперь что? А всё через свой характер…
– Зато, вижу, ты тепло устроился, с начальством спелся, – насмешливо сказал Прохор. – А оно тебе и нарядик получше, и работку почище. А ты притулился и помалкиваешь, что кругом делается…
– Да ну вас! – обиделся Семён. – Я к вам по-хорошему, а вы и слушать не желаете. А только вам с Мариной ссориться не след, лучше в мире жить. Мы всё же соседи, пригодимся ещё друг другу. – Он потёр шершавый подбородок и окинул острым взглядом Федю. – А тебя вот о чём хочу спросить… Ты чего ныне Димку насчёт удобрений пытал?
– Ну и пытал, – помедлив, признался Федя. – Вы же удобрения вместе с ним со станции возили… Вот я и хотел узнать, куда вы их свалили.
– Ну знаешь, Федька!.. – вспылил Семён. – Ты моему парню допросы не устраивай… Соплив ещё, зелен.
– Да в чём дело-то? – вмешался в разговор Прохор. – Что за секреты у вас?
Семён объяснил, что Федька обнаружил в Епишкином овраге суперфосфат, и начал болтать, что в третьей бригаде его не внесли с осени под пашню.
– Да быть того не может! – ахнул Прохор.
– Вот о том и разговор, – кивнул Семён и вновь обратился к Феде: – Тебе председатель объяснил насчёт удобрений?
– Объяснил, – буркнул Федя.
– Так оно и было. И я подтверждаю. Заруби себе это на носу и не болтай чего не следует. А ты, сосед, попридержи-ка парня, как бы он дров не наломал.
Семён ушёл.
– Ох дела наши артельные! Тут и взрослый не разберётся, не то что малый, – вздохнул Прохор и задумался.
Глава 4
Задумался и Федя. С малых лет он помнил, как отец работал в колхозе бригадиром. Поля третьей бригады раскинулись окрест Родников на много километров, но отец, как свои ладони, знал каждый участок земли, каждый лужок, каждый овражек.
Федя всегда удивлялся тому, как отец без запинки и в любое время, без всяких карт и записей, мог сказать, на каком поле в бригаде почва суглинистая, на каком – супесчаная, где в низинке застаивается вода, где почва быстрее всего просыхает. О земле он обычно говорил почтительно, с уважением, как о живом существе: «С землей не балуй», «Землю, её слушаться надо», «Земля, она своё скажет». А как сердился отец, когда обнаруживал в поле мелкую вспашку, огрехи или неровные, кривые борозды! «Поганцы, бесстыдники! – кричал он на трактористов. – Вам бы только землю царапать, пенки снимать!» – и заставлял перепахивать всё заново.
До сева было ещё далеко, а Прохор уже выводил колхозников на работу. Они вывозили на поля дымящийся навоз со скотного двора, рассыпчатый чёрный торф. Чтобы задержать на полях побольше снега, ставили щиты из хвороста и соломы, бороздили поля огромными снегопахами.
Когда же наступала весна, отец почти совсем не бывал дома и целыми днями пропадал в поле.
«Иди корми нашего пахаря», – говорила мать, собирая узелок с едой. И Федя отыскивал отца то у сеялок на пашне, то у высоких копён сена на клеверище, то у молотилки на полевом току.
Отец встречал сына весёлый, оживлённый, пропечённый солнцем, усаживал его с собой обедать, а потом говорил: «Поел малость, а теперь поклонись земле. Понюхай, чем она пахнет».
К осени с полей третьей бригады в колхоз тянулись подводы, гружённые полнотелым розовым зерном, душистым клеверным сеном, глазастой картошкой.
«У Прохора опять сам-десят уродилось», – говорили про бригадира в деревне.
Но тут началось что-то непонятное.
Всё чаще в колхоз начали наезжать уполномоченные из района и давать советы, указания, рекомендации, как вести хозяйство, где и что сеять в поле. Потом поступило строжайшее распоряжение перепахать посевы клевера и люцерны, изгнать из полей овёс и вику и занять лучшие земли под «королеву полей» – кукурузу.
Прохор бросился к председателю колхоза Фонарёву:
– Это как понимать, Кузьма Егорыч?.. Живём на земле, а от земли отворачиваемся. Ни слушать её, ни понимать не хотим. – И он принялся доказывать, что кукуруза хоть и «королева», но не для наших полей: пострадаёт от холода, вымокнет от дождей.
– Ничего не поделаешь, директивные указания… Начальству, ему виднее, – обрывал его Фонарёв. – Так что не супротивничай, выполняй.
Скрепя сердце Прохор перепахал для виду немного клевера, что поближе к дороге, а остальные посевы, около сотни гектаров, не тронул.
Через несколько дней побывавший в колхозе корреспондент напечатал в областной газете статью о том, что председатель колхоза Родники потакает бригадиру-травопольщику, который обманным путём сохранил клевера.
Взбешённый Фонарёв собрал правление колхоза и на чём свет стоит разнёс Прохора, который посмел на всю область опозорить их Родники.
Он потребовал от бригадира, чтобы тот в недельный срок перепахал клевера.
– Не могу… рука не поднимается… – отказался Прохор и ушёл с правления.
Тогда после двукратного голосования с перевесом в один голосе его сняли с поста бригадира.
Узнав об этом, Прохор запил. Три дня он бражничал в колхозной чайной, плакал пьяными слезами и шумел, что люди потеряли совесть, отвернулись от земли. А земля – она ведь памятливая, может и отомстить.
Когда же Прохор узнал, что назначенный вместо него бригадир начал перепахивать клевера, он бросился в поле и, раскинув крестом руки, встал перед трактором:
– Дави!.. Заминай!.. С места не сойду. Не дам добро губить!
Трактористы оттащили Прохора в сторону, облили водой и сдали его на руки прибежавшим в поле Федьке с матерью.
Проспавшись, Прохор собрал вещички и уехал в совхоз, сказав домашним, что в Родниках ему больше делать нечего.
– Узнаю, что и как… Может, в другом месте к земле прилепимся. Ждите моей команды.
Это были тягостные для Феди дни. Он ходил в школу, слушал на уроках учителей, встречался с ребятами и то и дело ловил укоризненный шепоток, что отец у него сбежал из колхоза.
Но Феде трудно было поверить, что отец, спорый и неугомонный в работе, отлично знающий каждый клочок земли в Родниках, навсегда оставил родную деревню. Неужели ему не быть больше бригадиром, не сзывать по утрам ударом молотка о кусок рельса людей на работу, не обходить лёгким шагом колхозных полей?! Ни весной, чтобы потрогать рукой прогретую солнцем землю и определить, поспела ли она к севу; ни летом, чтобы приметить острым взглядом сорные травы в посевах; ни осенью, когда надо определить время уборки хлебов…
Но от отца никаких команд не поступало.
Не могла примириться с уходом из колхоза Прохора Стрешнева и учительница Ведерникова. Они были давние друзья и единомышленники. Прохор Михайлович с интересом наблюдал за опытнической работой Варвары Степановны и учеников на пришкольном участке, охотно перенимал у них всякие агрономические новинки, а учительница не знала лучшего знатока земли, чем бригадир Стрешнев, и часто водила ребят на его поля.
Узнав от Феди, куда исчез его отец, Варвара Степановна дважды ездила в совхоз. Федя не знал, о чём она разговаривала с отцом, но месяца через два, поработав в совхозе рядовым трактористом, Прохор Михайлович вернулся обратно в колхоз.
– Полсотни лет в Родниках прожил, – признался он домашним, – каждую былинку тут помню, а как дома худо пришлось – сразу же и в бега… на чужую сторону. Как перекати-поле какое. Нет, не могу… А насчёт земли, может, люди ещё и образумятся… Жизнь – она своё покажет…
И Прохор Михайлович попросил Фонарёва зачислить его в старую бригаду рядовым трактористом.
– Что, брат, побегал, пошукал, а лучше Родников ничего не выглядел… – усмехнулся Фонарёв и сказал, что с новым бригадиром ему, пожалуй, не ужиться. – Вот если во вторую бригаду пожелаешь, там как раз трактористов не хватает.
– Можно и во вторую, – согласился Прохор.
За новую работу он, как всегда, принялся напористо, без понуканий, и это на какое-то время примирило председателя с Прохором Михайловичем.
– Удачлив ты, Стрешнев, и дело понимаешь, – похвалил его Фонарёв. – Если бы не твоя строптивость да упрямство, мог бы по сей день в бригадирах ходить.
– Нет уж, Егорыч, не ужиться нам вместе, – ответил Прохор. – По-разному мы землю понимаем.
И он по-прежнему оставался таким же беспокойным, неугомонным, часто шумел на собраниях, то и дело одолевал Фонарёва новыми замыслами – хорошо бы раскорчевать запущенные земли, перепахать луга, удобрить их да засеять травами.
Но председатель мало считался с Прохором, отмахивался от его предложений, напоминал ему, что он заядлый травопольщик и упрямец.
– И что ты всё с председателем цапаешься! – останавливали Прохора его приятели. – Разве ж он наш голос будет слушать!
– Нет, вы погодите, – не унимался Прохор. – Жив-здоров буду, я своё докажу. Мы на этой земле пуд сели съели. Нас со счётов не скинешь. Мы ведь тоже голос имеем.
Глава 5
Ветер крепчал, посвистывал, с шорохом волочил сухой снег, переметая узкую тропинку у палисадников. Подняв воротник, Федя шёл по улице к Канавиным. Вот показалась их изба. Она была причудливо пёстрая, словно рубаха в заплатках. Нижние венцы из свежих смоляных брёвен, простенки тоже новые, а верхние брёвна старые, щелястые, потемневшие от времени. Одна половина кровли покрыта дранкой, другая лохматится бурой соломой. Крыльцо недоделано, вокруг избы в беспорядке свалены брёвна, доски, кирпич, смёрзшийся песок. В сенях при свете лампы Парамон тесал топором сучковатое бревно.
– Всё ещё латаешь? – спросил Федя, вспоминая, как Парамон с матерью почти всё лето перестраивали старую избу: они добывали где могли строительный материал, нанимали пришлых плотников, но больше делали своими руками.
– Да нет, заканчиваем уже, – буркнул Парамон.
Федя кинул взгляд в угол сеней, где навалом лежали какие-то обрезки сучьев и корневищ.
– Как твои поделки поживают?
Парамон пожал плечами:
– Не до них сейчас!
Федя нагнулся и принялся рыться в куче сучков.
Верно, немало людей прошло мимо этих причудливо изогнутых природой кусков дерева, ничего в них не различая. Но вот на них посмотрел человек с задатками художника, взял их в руки и обрадовался, потому что увидел в нелепых сучьях и корневищах такое, чего не смогли увидеть другие. В одном – напряжённую, в могучих складках шею и задранную вверх морду ревущего быка, в другом – косматую голову лесного чудовища, в третьем – точёную фигуру красавца лося, застывшую в стремительном прыжке. Парамону пришлось лишь кое-где тронуть куски дерева ножом, стамеской, чтобы сделать их ещё выразительнее.
– А здо́рово! – ахнул Федя, вертя в руках Парамоновы поделки. – Чудище-то какое! Прямо леший. И борода, и глазища. А бык-то какой свирепый… Ловко же у тебя получается… Тебе бы поучиться этому делу…
– Да когда мне?..
– Да, Парамон… – помявшись, заговорил Федя, – ты с матерью, Семёном и Димкой суперфосфат со станции возил?
– Чего это ты вспомнил? Это когда было-то? Осенью…
– А куда вы его сваливали?
– Куда начальство приказало, туда и сваливали.
– В овраг, значит, под ёлки?
– А ты откуда знаешь?
Федя рассказал о залежах суперфосфата в Епишкином овраге.
– Подумаешь, удивил!.. – хмыкнул Парамон. – Мало ли чего у нас в колхозе бывает!..
– Так надо кого следует на чистую воду вывести.
– Тю, скаженный, – удивился Парамон. – А как докажешь?
– Так вы же всё собственными глазами видели.
– Нашёл на кого ссылаться! Семён с Димкой против Фонарёва слова не молвят.
Федя с надеждой посмотрел на приятеля:
– Ну, а вы с матерью… Вы ведь душой кривить не будете, по-честному скажете?
– А что из того, если скажем? – усмехнулся Парамон. – Всё равно нам никто не поверит. А у Фонарёва всюду рука, всюду дружки-приятели…
– Что ж теперь – так и будем молчать? Давай хоть учителям всё расскажем… Или в газету напишем.
– А это как знаешь, – мрачно отозвался Парамон. – Шуми, пиши, если уж ты такой вояка за правду. Отец твой тоже шумел. А что получилось? Сам знаешь…
– А ты всё-таки подумай… Может, нам с тобой свидетелями придётся быть.
– Ладно, Федька, – отмахнулся Парамон. – Ты меня в это дело не втягивай… И подальше держись от меня. А то ещё скажут: спутался с таким-сяким Канавиным.
– Да ты что… – вспыхнув, опешил Федя.
Разве с малых лет они не были с Парамоном добрыми товарищами? Но вот с год тому назад от Канавиных ушел отец, бросив жену и четверых детей. Мать отчаянно горевала, опустилась, а Парамон почувствовал себя взрослым, связался с парнями, то и дело пропускал занятия, нахватал двоек и считался самым отпетым учеником.
– Гонишь, значит? В чистюли меня записал? – обиделся Федя. – Что ж теперь, и в дом к тебе заглянуть нельзя?
– Заходи, коль охота. Тепла не жалко, – бросил Парамон и, взяв лампу, направился в избу.
Изба была полна дыму, и в этом дыму гремела задорная полька-бабочка.
Протерев кулаком глаза, Федя наконец понял, что к чему. Дениска сидел на корточках у печки-подтопка и, надув щёки, с ожесточением раздувал огонь. Сырые дрова шипели, пламя занималось нехотя, и чадный дым густыми клубами валил в избу.
Братишка поменьше, большеголовый и мрачноватый, с деловым видом крутил ручку патефона, а шестилетняя босоногая сестрёнка Парамона, с замурзанными от киселя щеками, не в такт музыке пыталась танцевать полечку. Она скользила по холодному полу, кружилась, приседала, счастливо взмахивала руками.
– Я кому говорил! – сердито прикрикнул Парамон, кидая на кровать шапку и кожушок. – Патефон не крутить!.. Вещь чужая, поломаете.
Подойдя к младшему братишке, он привычно щелкнул его по затылку и остановил пластинку. Потом кивнул Феде:
– Забери свой агрегат… Доломает его эта плотва!
– Парамоша, мы же только одну полечку… – Сестренка умоляюще взглянула на старшего брата.
– Я тебе покажу полечку! – Парамон сгрёб девочку в охапку и, сунув в постель, закутал в одеяло. – Чего босиком прыгаешь?.. А горло опять заболит или уши… Возись с тобой.
– И ничуть не заболит… – заспорила сестрёнка. – Я нынче уже песни пела… И снег мы с Мишкой ели.
Парамон грозно посмотрел на Мишку.
– Да не давал я ей… Она сама потихоньку.
– Эх вы, плотва! – сокрушённо вздохнул Парамон, присел на корточки рядом с Дениской и заглянул в печку. – Да кто так топит, голова с дыркой!
– Печка же такая… Весь дым обратно гонит.
– А ты зачем сырых поленьев натолкал? Давай растопку.
Парамон вытащил из печки отпотевшие дрова, разжёг лучину, потом осторожно, клеткой, уложил на них поленья. Огонь вскоре занялся, но дым продолжал вырываться в избу.
– Я ж говорю, труба не тянет, – упрямо сказал Дениска.
– Потянет, заставим…
– А всё ты, мастер-ломастер… Печку тоже взялся чинить. Вот и напортачил – теперь дымом давимся.
– Помолчи! – окрысился Парамон. – Сказал: починю, и баста.
– Ты починишь, – не отступал Дениска. – Зачем вот дядю Силантия выгнал… Он печник хоть куда…
– Шарага он, твой Силантий, хапуга! – озлился Парамон. – Такую цену загнул – хоть корову продавай. И поделом выгнал. Пусть больше в дом и носа не кажет.
– Расходился тоже мужик горячий!.. – начал было Дениска, но, заметив дёрнувшееся плечо старшего брата, отскочил к двери и налетел на входившую в избу мать.
Василиса Канавина, худощавая, с вытянутым лицом и запавшими глазами, бросила у порога охапку дров и подозрительно покосилась на ребят:
– Опять вздорничаете!
– А чего он… – буркнул Дениска. – Слова ему не скажи…
– Ты хоть бы со своими-то не собачился. – Мать с укором посмотрела на Парамона и потом завела с ним разговор о сене – опять оно на исходе.
Чем же теперь кормить стельную корову? Василиса уже обращалась сегодня за помощью к председателю – отказал. Говорит, что мало выработала за лето трудодней: не положено выдавать сено. Может, у кого из соседей разжиться?
– Сходил бы ты к Клепиковым, – обратилась мать к сыну. – Может, выручат.
– Опять попрошайничать, – вспыхнул Парамон.
– Что ж теперь… Такой уж год невезучий – вернём когда-нибудь… – сказала мать и, заметив недовольное лицо сына, со вздохом шагнула к двери. – Топи печку, коли так… Сама поклонюсь…
– Ладно… схожу. – Парамон остановил мать. – Дай вот пожевать чего-нибудь. Голодный я как зверь. – Он вдруг поймал на себе вопрошающий Федин взгляд и насупился. – Слушай, ты иди себе… – кивнул он. – У нас тут свои дела. И патефон забирай.
Сделав вид, что не слышит про патефон, Федя молча вышел на улицу. На душе у него было тяжело и тоскливо.
«Почему так по-разному живут люди? – думал он. – У одних в доме полно радости, чисто, уютно, тепло, а тут всё запущено, и пол холодный, и дым из печки, и корову кормить нечем, и мать какая-то опустившаяся, потерянная. И впрямь от такой жизни взвоешь, станешь злым, колючим, нелюдимым».
Наспех перекусив, Парамон надел кожушок и шапку и выскочил на улицу. Отыскал за крыльцом санки и направился к Клепиковым.
Метель усиливалась. Теперь уже мело не только низом – белёсая мгла застилала всё небо, снег несло и сверху и с боков, колючими пригоршнями бросало в лицо, застилало глаза.
Парамон остановился у дома Клепиковых. Матово светились все четыре окна, затянутые морозом. За окнами играла гармошка, мужские и женские голоса не в лад вели какую-то песню.
«Гуляют», – подумал Парамон, и ему стало не по себе и от чужого веселья, и от того, что им плохо живётся и что мать привыкла ходить по домам и попрошайничать. Он представил себе, как войдёт сейчас в дом, встретит Димку, его мать, отца. Семён долго будет расспрашивать, почему у Канавиных нет сена и как это они не подумали запасти его загодя.
«Косорукие вы какие-то, неумелые, – скажет он. – На земле живёте, а не запаслись. Думать же надо, мозгой шевелить». И, наговорившись всласть, Семён, наконец, милостиво разрешит навьючить санки сеном.
«Да ну его, всю душу вымотает», – вздрогнув, отмахнулся Парамон и прошёл мимо дома Клепиковых.
За усадьбами, в стороне от фермы, смутно темнела большая скирда соломы. Парамон знал, что солома лежит с прошлого года и никому до неё нет дела. «Навьючу сейчас санки, подмешаем к сену, может, и перебьёмся с недельку», – решил он и, свернув в переулок, направился к скирде.
Навьючить санки было делом нескольких минут. Чтобы ветер не раздул солому, Парамон обвязал её веревкой и, как добрый конь, впрягся в санки. Но не успел он отъехать, как из снежной мглы вынырнул председатель.
– Ну как, коняга, тяжело?.. Помочь, что ли? – усмешливо спросил он.
От неожиданности Парамон шарахнулся было в сторону, но Фонарёв ухватил его за плечо и повернул к себе.
– Эге, так вот он какой, ночной работяга… А я думал, из взрослых кто, – ухмыльнулся председатель и крикнул Феде и Саше, шедшим по улице. – Эй вы, школяры, идите-ка сюда.
И когда недоумевающие ребята приблизились, он вновь обратился к Парамону:
– Ну что ж, Канавин, опять ты за старое-бывалое. Мало на тебя жалоб было!.. И картошку ты колхозную подкапывал, и сено таскал, и свёклу.
– Ничего я не таскал, – вспыхнул Парамон. – Брал, что не убрано было, забыто…
– А теперь, значит, за солому принялся, – не слушая его, продолжал Фонарёв. – Что ж делать-то будем, забубённая ты голова?
– А как знаете, – угрюмо отозвался Парамон и, покосившись на Федю с Сашей, буркнул: – А вы чего по пятам ходите?
– Ну, ну, не командуй тут! – прикрикнул Фонарёв. – Я не зря ребят позвал, они за свидетелей будут. Пошли вот в правление.
Развязав верёвку, Парамон свалил солому и, волоча за собой санки, зашагал вслед за Фонарёвым.
Федя с Сашей поплелись сзади.
Пока сторожиха открывала в правлении кабинет председателя да бегала за бухгалтером, большим мастером сочинять всякие акты, заключения и деловые бумаги, прошло довольно много времени.
Наконец явился Иван Лукич, заспанный, недовольный, и принялся составлять акт.
Но не успел он своим завидно-аккуратным почерком вывести: «Мы, нижеподписавшиеся…», как в кабинет ворвалась мать Парамона.
– Господи, Кузьма Егорыч, – запричитала Василиса, бросаясь к председателю. – Зачем же парня порочить? Не виноват он… Это я Парамошку с панталыку сбила: «Поезжай да поезжай, прихвати соломки…» С кормами-то у нас хуже некуда.

Парамон с недоумением вскинул на мать глаза:
– Чего ты болтаешь!..
– Мой грех, Кузьма Егорыч, мой! На меня и пишите, – твердила Василиса, прерывисто дыша и размазывая ладонью по щекам слёзы. – Уж сама не знаю, как бес попутал.
Фонарёв развёл руками:
– Вот те на… Ещё виновник объявился. На кого же теперь акт писать прикажете?
– А дело вполне очевидное, – осклабился Иван Лукич. – Можем сформулировать в таком роде: «По наущению родной матери, гражданки такой-то, колхозная солома похищена несовершеннолетним школьником таким-то….»
– Да не было никакого наущения, не было! – вскрикнул Парамон. – Мать тут ни при чём. Она меня к Клепиковым за сеном посылала, а я не пошёл… Не захотел…
– И решил, значит, колхозным добром попользоваться, – перебил его Фонарёв. – Да ещё как – самовольно, тайком, в пургу.
– Мать сколько раз у вас сена просила… А вы знай одно: не положено.
– Значит, не положено, не заслужили.
– Да чего ты хорохоришься? – накинулась на сына Василиса. – И так веры нам нет… Ну повинись, коли так, покайся… – И она, вновь всхлипнув, принялась упрашивать председателя простить Парамона.
– Так ведь у них же корова стельная, кормить нечем, – подался вперёд Федя. – А потом, разве ж это корм! Гниль одна, труха… Зачем же из-за неё акт составлять?..
– А это без разницы, – нахмурился Фонарёв. – Всё равно расхищение колхозного добра. Пусть уж теперь милиция разбирается…
– Ну и пишите акт, подводите под статью! – зло вырвалось у Парамона. – Я гнилую солому подобрал – так это расхищение колхозного добра? А только вы и про свои дела не забудьте, как удобрения приказали в овраг свалить… А это как называется?
Мать умоляюще замахала на сына руками.
– Да как ты смеешь об этом! – тяжело задышав, приподнялся Фонарёв. – А ну марш отсюда! – Потом кивнул Василисе: – А ты задержись… поговорить надо.
Парамон выбежал из правления. Следом за ним вышли Федя и Саша. На улице они хотели заговорить с Парамоном, но тот сразу же завернул за угол правления и скрылся в темноте.
– Что же теперь будет с ним? – вполголоса спросил Сашка.
– Да уж будет, – со вздохом отозвался Федя. – А всё же он молодец, что про удобрения Фонарёву сказал… – Он заметил у крыльца правления оставленные Парамоном санки и потащил их по дороге.
– Ты куда? – спросил Саша.
– Хоть соломы Канавиным привезу. Есть у нас во дворе немного.