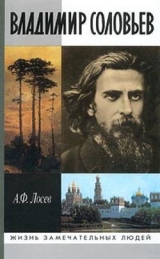
Текст книги "Владимир Соловьев и его время"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 48 страниц)
Что касается существа дела, то Розанов весьма талантливо уловил во Вл. Соловьеве его постоянную неустроенность, его вечные искания, которые ничем не кончались. Розанов пишет: «Вот уж был странник в умственном, идейном и даже в чисто бытовом, так сказать, жилищном отношении! Сын профессора, с большими правами на кафедру, он не получил "по независящим обстоятельствам" этой кафедры; внук священника, посвятивший памяти деда "Оправдание добра", он был крайне стеснен в своих желаниях печататься в академических духовных журналах; журналист, он нес религиозные церковные идеи, едва ли встречая для них распахнутые двери в редакциях. Он пробирался в щелочку, садился пугливым гостем, готовым вспорхнуть и улететь со своим двусмысленным смехом».
Мы раньше уже не раз замечали, что у Вл. Соловьева его философское глубокомыслие очень часто объединялось с юмористикой, со смехом. Розанов подметил также и эту черту: «Какой странный у него был этот смех, шумный и, может быть, маскирующий постоянную грусть. Если кому усиленно не было причин "весело жить на Руси", то это Соловьеву. И где он жил, в Москве ли, в Петербурге ли, у себя ли, у приятелей?» Никто не замечал грусти в смехе Вл. Соловьева. А вот Розанов заметил. И он был бы еще более прав, если бы заметил, что соловьевский смех, с одной стороны, делает этот предмет смеха чем‑то свободным, независимым и самодовлеющим, а с другой – и чем‑то недостижимым, чем‑то несравнимым с фактическими несовершенствами жизни. Но из слов Розанова это вытекает само собой.
В дальнейшем Розанов отмечает у Вл. Соловьева не только внешнюю неустроенность его жизни и деятельности, но и широту его духовных стремлений, в которых смешивались в одно целое и духовность его деда–священника, и ученость его знаменитого отца, и собственная профессорская подготовка, и далеко идущий антитрадиционный размах шестидесятников, граничивший с самой настоящей революционностью. Это замечательное умение Вл. Соловьева избегать всяких схематических характеристик и находить в самых резких противоположностях нечто единое мы находим в таких словах Розанова: «Дедовская священническая кровь, учено–университетские заботы отца и, наконец, весь духовный пласт наших шестидесятых годов, с их хлопотливыми затеями, шумными отрицаниями и коренным русским "простецким" характером – отразились в Соловьеве. Он был какой‑то священник без посвящения, точно несший обязанности, и именно литургические обязанности, на себе. Это заметно было в его психологии. Точно он с вами говорит-говорит, а вот придет домой, наденет епитрахиль и начнет готовиться к настоящему, должностному, к завтрашней "службе". Ссылки на Священное писание, на мнения отцов церкви, на слова какого‑нибудь схимника – "старца" постоянно мелькали в его разговоре».
Духовный размах Вл. Соловьева, с точки зрения Розанова, был вообще редчайшим явлением в русской литературе. То, что он был профессором, это неудивительно; и то, что. он был хорошим лектором, это явление уже не такое редкое; журналистов разного рода тоже весьма много. Но необычайно одаренный от природы, Вл. Соловьев был, или мог быть, не только профессором или лектором. Он был еще необычайно одаренным журналистом, необычайно чувствительным и тончайше восприимчивым, так что трудно было даже определить, где кончалась у него ученость и начиналась журнальная нервозность, а также где кончалась его бесконечная любовь к слову и начиналась гениальная игра со словами и огнедышащая риторика. «Рядом с этим у него был, хотя не столь коренной, интерес к университету, к состоянию науки, к ученым корпорациям. Сюда примыкала его (недолгая и случайная) лекционная сторона. Он любил читать лекции, и читал их мастерски. Университет наш потерял в нем одно из возможных своих светил, потерял огромное возможное влияние на студентов, и влияние идеалистическое, философское Тут уж приходится посетовать на "неблагоприятное расположение созвездий", где было решено, что пусть уж лучше читает хоть вахмистр, а только не возбудительный ум. "Тише едешь, дальше будешь" – русская мудрость. Наконец, из‑за священника и профессора у него вырывалась личность журналиста, самая бойкая, переменчивая, то колющая, то плачущая, крикливая, самонадеянная, настоящий парфянский наездник, который не давал успокаиваться дремлющему и самодовольному Риму». Но самым глубоким и для нас самым неожиданным является у Розанова сближение Вл. Соловьева, правда временное, с теми, кого принято называть шестидесятниками. Если вдуматься в это сопоставление Вл. Соловьева с шестидесятниками, то действительно начинает бросаться в глаза общее для него и для них свободомыслие, презрение ко всякого рода обывательщине, хотя бы даже и церковной, а также вера в какие-то небывалые синтезы жизни, несмотря на их неопределенность, даже какую‑то туманность, несмотря даже на их какой‑то анархический размах и несмотря на их без всякой мыслительной точности всемирно–историческое духовное освобождение. Правда, конец века ознаменовался отходом русского передового общества от столь неудержимых порывов к духовному освобождению и переходом к плаксивой и сумеречной обыденщине. Сильный и волевой Вл. Соловьев не мог с этим примириться и глубоко страдал от невозможности так же свободно мыслить, как это было в более ранней русской общественности. И это тоже было для него еще новой трагедией. Но на этот раз история уже не позволила ему выбраться из мучительных пут этой трагедии. Он всегда мыслил себя на передовых позициях, всегда был застрельщиком, всегда был каким‑то внутренним и духовным революционером, что часто и приводило его к опрометчивости, к философским неудачам и в конце концов к упованию на преображение мира после окончательной мировой или даже космической катастрофы. Об этой катастрофе Розанов не говорит, но о крушении идеально–человеческих исканий у Вл. Соловьева Розанов говорит, и притом красноречиво.
«В образе мыслей его, а особенно в приемах его жизни и деятельности, была бездна "шестидесятых годов", и нельзя сомневаться, что, хотя в "Кризисе западной философии" и выступил он "против позитивизма", то есть против них, – он их, однако, горячо любил и уважал, любил именно как "родное", "свое". Он был только чрезвычайно даровитый и разносторонний "шестидесятник", так сказать, король того времени, не узнанный среди валетов и семерок. Духовная структура знаменитой реформаторской эпохи была в значительной степени и у Соловьева.
Он начал писать в семидесятых годах. И с людьми 80—90 годов он уже значительно расходился. Это второе, послереформационное, поколение было значительно созерцательнее его. У Соловьева было явное желание завязать с ними связь, но она не завязывалась, несмотря на готовность и с другой стороны. В этом втором поколении было заметно менее желания действовать, а Соловьев не умел жить и не действовать. Как‑то он мне сказал о себе, что он – "не психолог". Он сказал это другими словами, но заметно было, что он жалел у себя о недостатке этой черты. Действительно, в нем была некоторая слепота и опрометчивость конницы, сравнительно с медленной и осматривающейся пехотой или артиллерией. Во всем он был застрельщиком. Многое начал, но почти во всем или не успел, или не кончил, или даже вернулся назад. Но если были неудачны его "концы", то были высоко даровиты, и нужны для отечества, и славны для его имени выезды, "начатки", первые шаги…»
В результате приведенных нами обширных цитат из Розанова о Вл. Соловьеве необходимо сказать, что, кроме Розанова, вообще мало кто говорил о Вл. Соловьеве так метко и так проникновенно. Постоянная бездомность и неустроенность жизни и деятельности Вл. Соловьева; его русская душа, постоянно грезящая о всемирно–историческом духовном и материальном освобождении; его русское сердце, всегда ищущее уюта и никогда его не находящее; невозможность и недоступность такого рода идеалов, постоянно заставлявшие переходить от профессуры к литераторству и публицистике, а в журналистике от талантливых литературно–критических анализов к прямому космическому утопизму; его постоянная жажда общественно–политической свободы, заставившая его перейти к трагическому одиночеству как среди либеральной, так и среди консервативной русской общественности; его вера во всеобщую и чистейшую церковность, которой может позавидовать даже всякий честный атеист, – все это подмечено и формулировано Розановым настолько же ясно и просто, насколько и гениально.
И так как эти две небольшие статейки Розанова о Вл. Соловьеве всеми давно забыты и их найти трудно даже в столичных центральных библиотеках, то мы сочли необходимым сделать все предыдущие цитаты, поскольку этот бывший ругатель Вл. Соловьева высказал такие о нем глубокие мысли, которые вообще едва ли приходили кому‑нибудь в голову.
Вот как Розанов кончает свою характеристику Вл. Соловьева: «Заметно, как образ его улучшается, очищается после смерти; как и перед самою смертью он быстро становился лучше, как будто именно приуготовлялся к смерти. Разумеем здесь его отречение от горячих и неподготовленных попыток к церковному "синтезу" и вообще быструю его национализацию. Внук деда–священника вдруг стал быстро скидывать с себя мантию философа, арлекинаду публициста. "Схиму, скорее схиму!" – как будто только не успел договорить он, по примеру старорусских людей, московских людей. И хорошо, что он умер около Москвы, москвичом. Там ему место – около сердца России. Мы же не забудем еще и еще поминать его, и именно церковно поминать. Поверим, что это было самое горячее его прижизненное желание».
При этом заметим, что раз уже зашла речь у Розанова о шестидесятниках, то соловьевская церковность, в представлении Розанова, имеет мало общего с бытовым пониманием церкви. Церковь Вл. Соловьева – это всемирно–историческая свобода духа и материи, поскольку дух и материя у Вл. Соловьева сливались до полной неразличимости.
Другую, весьма ценную характеристику личности Вл. Соловьева в целом мы находим у Л. М. Лопатина. Последний тоже выдвигает на первый план противоречивость натуры Вл. Соловьева. Но и он находит эту противоречивость и в мысли, и в жизни Вл. Соловьева обоснованной и для Вл. Соловьева вполне естественной. Л. М. Лопатин пишет: «Глубокая религиозность с раннего детства и через всю жизнь, за исключением краткого перерыва в годы юности, и – полное свободомыслие. Напряженная сосредоточенность мощного и замечательно оригинального философского ума на самых трудных и возвышенных проблемах жизни и знания, и – чрезвычайная общительность, делавшая его незаменимым собеседником, отзывчивым товарищем, задушевным и мудрым другом. Редкая самобытность мысли, с ранних лет заставлявшая его на все смотреть по–своему, и – удивительно развитая способность усвоять и проникаться чужими взглядами, лежавшая в основе его громадной начитанности, в самых разнообразных областях, которая давалась ему как будто сама собой, без всяких особых усилий с его стороны. По существу, аскетический и печальный взгляд на условия чувственного земного существования, соединенный с очень серьезной, искренней и строгой постановкой идеала душевной чистоты, и – ясная жизнерадостность, страстная пылкость темперамента, способность к беззаветным сердечным увлечениям, которая нередко проносилась опустошающими бурями в его потрясенном духе. Мистические прозрения в глубочайший смысл жизни, скорбное сознание ее внутреннего трагизма, и – неиссякаемый юмор, светлая веселость, детски заразительный хохот, которого не забудет никто из знавших Соловьева лично. Изумительная терпимость к чужим мнениям, позволявшая ему близко сходиться с людьми совсем другого умственного и духовного склада, чем он сам, и – горячий задор в спорах даже о незначительных предметах. Беспечность, доходящая до безалаберности в устройстве своих личных дел, и – трогательная заботливость о чужих делах, не только готовность, но тонкое практическое умение помочь в чужой нужде. И много можно было бы привести еще таких же пар противоположностей, и все они так гармонически уживались в своеобразном единстве личности Соловьева, что его никак нельзя вообразить без них. И на всем этом лежала такая прочная и неистребимая печать внутреннего благородства, высшего аристократизма души, что он органически был неспособен подчинять свою волю каким‑нибудь пошлым и низким побуждениям. Высокий строй духа был прирожден ему, и оттого в нем не поколебали его никакие житейские испытания и никакие перемены судьбы, и он донес его до могилы. Таков был Соловьев как человек» [572]572
Лопатин Л. М. Памяти Вл. С. Соловьева // Вопросы философии и психологии. 1910. № 5. Кн. 105. С. 625-627.
[Закрыть].
В дальнейшем Л. М. Лопатин говорит об единстве и целостности исканий Вл. Соловьева, наличных у него наряду с глубиной и цельностью его натуры. «В вопросах исторических, церковных, общественных он часто колебался, быть может, заблуждался и обманывался. Допустим все это – ведь нет в самом деле на свете непогрешимых людей. Но он был честный, пламенный, неутомимый искатель правды на земле, и он верил, что она сойдет на землю» [573]573
Там же. С. 636.
[Закрыть].
Весьма ценную и глубокую характеристику Вл. Соловьева мы находим у Е. Н. Трубецкого. Этот автор справедливейшим образом выдвигает на первый план в личности и воззрениях Вл. Соловьева универсализм, всегда мешавший ему останавливаться на чем‑нибудь одностороннем или условном. «Тот широкий универсализм, – пишет Е. Н. Трубецкой, – который мы находим у высших представителей философского и поэтического гения, был ему присущ в высшей мере; именно благодаря этому свойству он был беспощадным изобличителем всякой односторонности и тонким критиком: в каждом человеческом воззрении он тотчас разглядывал печать условного и относительного» [574]574
Трубецкой Е. Н. Указ. соч. Т. I. С. 25.
[Закрыть].
В этом смысле Вл. Соловьев, по мнению Е. Н. Трубецкого, никогда не был ни западником, ни славянофилом, ни либералом, ни консерватором, ни социалистом, ни индивидуалистом, ни приверженцем каких‑либо односторонностей идеализма или материализма. «Ничто так не раздражало покойного философа, как идолопоклонство. Когда ему приходилось иметь дело с узким догматизмом, возводившим что‑либо условное и относительное в безусловное, дух противоречия сказывался в нем с особой страстностью» [575]575
Там же. С. 27.
[Закрыть]. «Он – верующий христианин, но это не мешает ему находить элементы положительного откровения не только в Исламе, но и во всевозможных языческих религиях востока и запада. Философ–мистик, он тем не менее высоко ценит ту относительную истину, которая заключается в учениях рационалистических^ эмпирических» [576]576
Там же. С. 27—28.
[Закрыть].
По мнению Е. Н. Трубецкого, тот же самый универсализм был характерен и для бытовой жизни Вл. Соловьева. «Ради друзей он был всегда готов на жертвы; если бы это было нужно, он не задумался бы положить за них душу, но было бы совершенно невозможно представить себе его супругом и отцом… В течение своей жизни он был влюблен много раз, горячо и страстно. Однако это чувство не могло его приковать; ибо и здесь элемент универсальный преобладал над личным, индивидуальным» [577]577
Там же. С. 30.
[Закрыть].
Из этого, по мнению Е. Н. Трубецкого, вытекает также и то, что Вл. Соловьев, в сущности говоря, воплощал в себе тот тип народного праведника, который всю жизнь странствовал по земле и везде всем старался помочь и словом, и делом. «Своим духовным обликом он напоминал тот, созданный бродячей Русью, тип странника, который ищет вышнего Иерусалима, а потому проводит жизнь в хождении по всему необъятному простору земли, ищет и посещает все святыни, но не останавливается надолго ни в какой здешней обители. В такой жизни материальные заботы не занимают много места; у странников они олицетворяются всего только небольшой котомкой за плечами. Сам Соловьев сознавал себя таким. В "Трех свиданиях", вспоминая свое искание откровений в пустыне египетской, он сравнивает себя с дядей Власом Некрасова. В шуточный тон тут облекается весьма серьезный смысл» [578]578
Трубецкой Е. Н. Указ. соч. Т. I. С. 33.
[Закрыть].
Если мы сравним три эти характеристики личности Вл. Соловьева в целом, принадлежащие В. В. Розанову, Л. М. Лопатину и Е. Н. Трубецкому, то все они выдвигают на первый план, с одной стороны, универсализм философа, мешавший ему останавливаться на отдельных мелочах жизни и мысли, а с другой – его необычайную широту в обобщенных оценках именно этих мелочей жизни и мысли. С внешней стороны он вел какую‑то бродяжническую жизнь, не имел своего угла, ел и пил, когда придется, а когда не приходилось, то не ел и не пил, ночевал часто на каких‑то досках и был в полном смысле странник, что многие сочтут за богему. Достаточно указать хотя бы на то, что он постоянно живал в имениях своих друзей и часто живал подолгу. Кроме того, и за границей он был шесть раз, где тоже жил подолгу. Это был некрасовский дядя Влас, но только без толстовского его истолкования: не только всякое опрощенство было ему противно, но он всегда был перегружен, перенасыщен культурно–историческими материалами, часто доходившими до большой тонкости, до изощрения, до изыска. Вероятно, правильно будет сказать, что это был дядя Влас как представитель космического всеединства, которое охватывает все мелочи жизни, но сам этот дядя Влас скромнейшим образом даже и не знает о таких космических охватах.
В таком виде мы могли бы себе представить личность Вл. Соловьева в целом, хотя дальнейшие исследования, вероятно, внесут сюда свои исправления и дополнения.
К той характеристике личности Вл. Соловьева, которую мы дали выше на основании суждений В. В. Розанова, Л. М. Лопатина и Е. Н. Трубецкого, уже в настоящее время мы должны, во всяком случае, добавить один момент, который, правда, отличается слишком большой простотой, почти житейской и обывательской, но о котором никак нельзя забывать, особенно если иметь в виду чрезвычайную сложность личности Вл. Соловьева. Этот простой, простейший, понятнейший и до наивности очевиднейший момент заключается в том, что Вл. Соловьев никогда и нигде не мог удовлетвориться окружающей действительностью, что он всегда старался вырваться из ее оков и что фактически, на деле, всегда был вне ее нелепых повелений. Вот что он писал Е. К. Романовой (Селевиной) 2 августа 1873 года:
«С тех пор, как я стал что‑нибудь смыслить, я сознавал, что существующий порядок вещей (преимущественно же порядок общественный и гражданский, отношения людей между собою, определяющие всю человеческую жизнь), что этот существующий порядок далеко не таков, каким долженбыть, что он основан не на разуме и праве, а, напротив, по большей части на бессмысленной случайности, слепой силе, эгоизме и насильственном подчинении. Люди практически хотя и видят неудовлетворительность этого порядка (не видеть ее нельзя), но находят возможным и удобным применяться к нему, найти в нем свое теплое местечко и жить, как живется. Другие люди, не будучи в состоянии примириться с мировым злом, но считая его, однако, необходимым и вечным, должны удовольствоваться бессильным презрением к существующей действительности или же проклинать ее как лорд Байрон. Это очень благородные люди, но от их благородства никому ни тепло, ни холодно. Я не принадлежу ни к тому-, ни к другому разряду. Сознательное убеждение в том, что настоящее состояние человечества не таково‚ каким быть должно‚значит для меня, что оно должно быть изменено‚ преобразовано. Я не признаю существующего зла вечным, я не верю в черта. Сознавая необходимость преобразования, я тем самым обязываюсь посвятить всю свою жизнь и все свои силы на то, чтобы это преобразование было действительно совершено. Но самый важный вопрос: где средства?» [579]579
Соловьев Вл. Письма. Т. III. С. 87—88.
[Закрыть]
Личность Вл. Соловьева – большая, глубокая, широкая, даже величественная, хотя в то же самое время до чрезвычайности сложная и запутанная. Но во всей этой сложности, которую еще предстоит изучать и картина которой еще будет предметом десятков разного рода анализов, была одна простейшая, невиннейшая и наивнейшая особенность. Это – неугомонное стремление бороться с нелепостями и язвами окружающей жизни, даже пока еще не философское, не мистическое, не историческое, а чисто личное, до примитивного быта, понятное и очевидное. Этого момента никто не вправе забывать, какие бы сложности ни возникали на путях изучения личности Вл. Соловьева.
Однако из этого вечного недовольства окружающим и из этого постоянного страстного стремления преодолевать несовершенства окружающей жизни сама собой вытекает еще одна идея, которую можно с полным правом считать для Вл. Соловьева окончательной, итоговой и заключительной. Это – то, что можно назвать философией конца.
В течение всей своей жизни Вл. Соловьев только и знал, что наблюдал концы. Еще в своей магистерской диссертации он изображал не что иное, как кризис западной философии, ее конец. В своей докторской диссертации «Критика отвлеченных начал» он в основном только и знает, что изображает концы всех философских односторонностей. В 80–е годы он острейшим образом чувствует конец византийско–московского православия и рвется к тому, чтобы при помощи римской католической церкви оживить и преобразовать восточную церковь. В 1891 году его работа «Об упадке средневекового миросозерцания» тоже наполнена чувством катастрофизма по отношению к традиционному православию. Он настолько низко расценивал традиционную и бытовую религию, что однажды (мы об этом уже говорили выше) в беседе с Е. Н. Трубецким выразил свое желание объединить всех неверующих против верующих. Поэтому неудивительно, что и в самом конце своей жизни он заговорил о конце всей человеческой истории и о пришествии антихриста. И если его мировоззрение всегда было интимно связано с его личностью, то особенно здесь эта связь оказалась наиболее глубокой и ощутимой. В 1900 году Вл. Соловьев умирал от неизлечимых болезней; а человечество, по его мнению, в те времена тоже умирало и тоже от своих неизлечимых болезней, которые он теперь уже научился распознавать вопреки своему прежнему прогрессивно–историческому оптимизму. У Е. Н. Трубецкого мы читаем: «Мы знаем, что уже "Три разговора" были написаны в предвидении "не так уже далекой" смерти самого автора. Это предчувствие близости собственного конца в связи с изданием книги, повествующей о непосредственно предстоящем всеобщем конце, не есть результат простой случайности. Что‑то оборвалось в Соловьеве, когда он задумал эту книгу: ее мог написать только человек, всем существом своим предваривший как свой, так и всеобщий конец» [580]580
Трубецкой Е. Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьева. Т. И. С. 305.
[Закрыть]. Таким образом, мы не ошибемся, если вообще назовем все мировоззрение Вл. Соловьева не иначе как философией конца.
При этом мы хотели бы только предупредить читателя о недопустимости некоторых крайних выводов из этой философии конца. Ведь эту философию конца очень легко понять как проповедь какого‑то квиетизма, оппортунизма или даже нигилизма. Но такого рода выводы диаметрально противоположны тому, чего хотел умиравший Вл. Соловьев. Никакой конец не мог иметь для него абсолютного и всепобеждающего значения. С его точки зрения, если конец дела означал его неудачу, то и этот же конец означал и необходимость еще чего‑то нового. Конец одного Вл. Соловьев всегда мыслил как начало другого, хотя это другое и не представлялось ему в ясном виде. Но вот, например, разочаровавшись в схематизме своей ранней философской схемы, в своих статьях под названием «Теоретическая философия», он стал уже на новый путь, хотя и не успел его закончить. В критике традиционной религии он ощутил ее конец, но он же умер еще и провозвестником еще новых достижений на этих путях. Он предчувствовал и конец прежней отвлеченной эстетики, но он же стал и предначинателем новой эстетики, основанной не на красоте как умозрительной предметности, но на красоте как животворящей силе самой действительности, почему и оказался близким ему тезис Ф. М. Достоевского: «Красота спасет мир». И здесь опять да будет позволено привести слова Е. Н. Трубецкого: «Но с точки зрения человеческой нам не дано знать, что означает этот один день у Бога – одни сутки или тысяча лет. И с этой точки зрения становится ясным, что практический вывод из "философии конца" не есть покой, а творческая деятельность. Пока мир не совершился, человек должен всем своим существом содействовать его совершению. Чтобы осуществилась в нас целостная жизнь, мы должны предвосхищать ее в мысли, вдохновлять ею в подъеме творческого воображения и чувства и, наконец, готовить для нее себя самих и окружающий мир подвигом нашей воли. Ибо царствие Божие совершается не в косной неподвижности, а в обоюдном подвиге свободы Бога и человека» [581]581
Трубецкой Е. Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьева. Т. II. С. 324.
[Закрыть].
Вот что такое философия конца у Вл. Соловьева, если только мы всерьез решим придерживаться чисто соловьевских подлинных текстов, не вдаваясь в их произвольное толкование и оставляя в стороне наши собственные субъективные и вкусовые оценки.
6. Заключение.Нам кажется, что поступить с Вл. Соловьевым нужно так, как поступили с ним египетские бедуины, когда он, живя в Каире, задумал путешествовать по пустыне в своем английским цилиндре. И нужно подражать этим бедуинам не только при их первой встрече с Вл. Соловьевым, но и при их расставании с ним. Сначала они приняли его за черта и для обезврежения скрутили ему руки и ноги. А потом тут же убедились, что это самый обыкновенный человек и что чудачеств у него нисколько не больше, чем у других людей. Тогда они немедленно сняли с него путы и отпустили на волю. Мы тоже поступим справедливо, перестав видеть во Вл. Соловьеве опасного черта, сняв наложенные на него арестантские путы и незамедлительно выпустив его на волю. А воля эта будет заключаться только в том, чтобы исследователи честно и добросовестно, а главное, научно, изучали его философское и литературное наследие с анализом как всех его положительных, так и всех отрицательных сторон. Если научное исследование установит в нем безусловно отрицательные черты, то никогда не будет поздно назвать его чертом и наложить на него путы. Но сделано это будет, по крайней мере, не в результате обывательского испуга без прочтения хотя бы одной строки из его произведений, а в результате научного анализа. Однако в результате научного анализа у него могут оказаться и положительные черты. Но в таком случае у подобного черта можно будет только поучиться.
Впрочем, уже и теперь (как и всегда) здесь необходимо придерживаться того тезиса, что исследователь, если он следует правилам строгой науки, не имеет права отвергать великих людей прошлого за их несовременные для нас убеждения и настроения или за одну их общественно–политическую деятельность. Если отвергать Вл. Соловьева за то, что он был верующий христианин, то тогда придется отвергать и Ньютона за то, что он снимал шляпу, произнося имя Божье, и Дарвина за то, что он был церковный староста, и Менделеева за то, что он был тайный советник, и имеющую мировое значение музыку Римского–Корсакова за то, что этот последний был адмирал, и рефлексологию Павлова за то, что Павлов ходил в церковь и жертвовал на ее нужды. Иначе нам придется произвести такой исторический погром, после которого и от истории‑то ничего не останется.
Добрым словом хочется помянуть имя уважаемого Владимира Сергеевича Соловьева. Важный и ценный он был человек, редкий был человек. Это был светлый и свободный интеллект, которому к тому же было присуще вольное чувство жизни, включая всю глубину, всю фантастику и юмористику реальной действительности. Вл. Соловьев любил Россию без всякой славянофильской лакировки, наоборот, с резкой критикой византийско–московского православия, но и решительно без всяких западнических восторгов перед достижениями буржуазной цивилизации. Самым резким образом Вл. Соловьев критиковал и Восток, и Запад, и все общественно–политические несовершенства старого режима в России. Но сама Россия в течение всей его жизни оставалась его единственной и страстной любовью. Спасибо ему.


