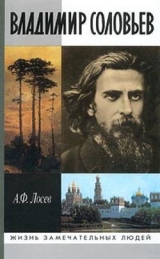
Текст книги "Владимир Соловьев и его время"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 48 страниц)
Действительно, примат гносеологии нигде не выставляется у Вл. Соловьева в каком‑нибудь безусловном виде. Для него это было невозможно уже по одному тому, что в неокантианском требовании такого примата заключается грубейшая логическая ошибка реііііо ргіпсіріі: проверка истинности знания совершается при помощи все того же познавательного процесса. Главное же в том, что Вл. Соловьев, всегда отдававший большую дань логическому схематизму, никогда не был сторонником основной роли этого схематизма.
В. Ф. Эрн, написавший блестящую статью «Гносеология В. С. Соловьева» [154]154
В сб. «О Владимире Соловьеве». М., 1911. С. 129–206.
[Закрыть], так формулирует исходный принцип философии Вл. Соловьева, являющийся к тому же и свидетельством полной новизны его философии: «Первый после Платона Соловьев делает новое громадное открытиев метафизике. В море умопостигаемого света, который безобразно открылся Платону, Соловьев с величайшею силою прозрения открывает определенныеослепительные черты вечной женственности» [155]155
Там же. С. 134.
[Закрыть]. Какая же еще нужна была гносеология для такого убежденного и целостного мировосприятия, когда это последнее говорило само за себя и не требовало для себя никакого обоснования? Поэтому никакая гносеология, во–первых, совсем не была здесь нужна и, во–вторых, была совсем невозможна.
Если же подойти к делу формально, то некоторого рода гносеологию, отнюдь, конечно, не кантианскую, у Вл. Соловьева можно было находить на каждом шагу. Выше мы видели, например, что он критикует всякий безоговорочный эмпиризм. Разве это не гносеология? Вл. Соловьев критикует также и безоговорочный рационализм. Разве это не гносеология? Критика всякого пустого, и в том числе бытового христианского мировоззрения, разве возможна была у Вл. Соловьева без самого напряженного внимания к философским проблемам знания и религии? В связи с этим В. Ф. Эрн совершенно правильно пишет: «В написанном о гносеологических вопросах у Соловьева несомненно есть "внутренний тон "‚ “высота и свобода мысли "‚и притом в такой мере, что гносеология Соловьева должна занять почетное место не только на бойком гносеологическом рынке современности, но и в сокровищнице философских прозрений всех времен и эпох» [156]156
В сб. «О Владимире Соловьеве». М., 1911. С. 131.
[Закрыть]. Но это не была гносеология Канта, поскольку Кант – субъективный идеалист, а Вл. Соловьев является вдохновенным объективным идеалистом. Вместе с тем, однако, нельзя думать, что в статьях «Теоретическая философия» у Вл. Соловьева не было ничего нового и не было ровно никакого и ни в чем переворота. В основном онтологизм Вл. Соловьева оставался здесь незыблемым. Но теперь ему захотелось построить такую онтологию, которая не была бы так сильно и глубоко связана с характерной для его прежних работ склонностью к чрезмерному схематизму. Такая категория, как, например, категория субстанции, имела раньше для Вл. Соловьева иной раз чересчур логически–неподвижный характер. Теперь же ему хочется дать такую категорию в ее конкретном эмпирическом развитии, не отрицая самих субстанций, но пока признавая их лишь некоторого рода заданностями для ищущего философа. По А. Введенскому, выходило, что Вл. Соловьев в конце своей жизни стал отрицать конкретность всяких субстанций и сводить их только на отвлеченно–гносеологические принципы. Но такая оценка последнего периода творчества Вл. Соловьева является безусловным искажением интимных намерений философа. Не говоря уже о том, что Бог и в этот период философии Вл. Соловьева трактуется им как универсальная субстанция.
Такой субстанцией, хотя и не всегда отвлеченно данной и конкретно–познаваемой, является, например, и человеческое «я». Вл. Соловьев писал: «Я должен прежде всего заявить, что и теперь, как и прежде, я имею твердую уверенность в собственном своем существовании, а равно в существовании обоего пола лиц, входящих и даже не входящих в перепись народонаселения различных стран» (IX, 108). Таким образом, если какая‑нибудь новизна или какой‑нибудь перелом и нашли для себя место в этих последних философских работах Вл. Соловьева, то это было только намерением избегать приема прежнего логического схематизма и стремлением понимать каждую логическую категорию жизненно, а жизнь всегда полна и удач, и неудач, и даже трагизма.
В. Ф. Эрн пишет о переломе в конце жизни Вл. Соловьева: «Перелом состоит в том, что с творческой силой Соловьев вдруг ощутил дурную схематичностьпрежних своих философем. В этом огне самопроверки сгорела схема теократическая, схема внешнего соединения церквей, схема планомерного и эволюционного развития Добра в мире, и Соловьев почувствовал трагизми катастрофичностьистории»! [157]157
В сб. «О Владимире Соловьеве». М., 1911. С. 201.
[Закрыть]
Чтобы дать общую характеристику антикантианской гносеологии Вл. Соловьева, мы предложили бы следующее рассуждение В. Ф. Эрна:
«Соловьев, употребляя его терминологию, постиг в Египте живую їісущественно личную идею мира‚ идею вселенной‚и только этим постижением обосновывается все философское творчествоСоловьева, которое есть не что иное, как воплощениев грубом и косном материале новой философии – его основной интуиции, о живой идее и живом смысле всего существующего.
Н. А. Бердяев в своей новой книге "Философия свободы" справедливо говорит: "Как ужасно, что философия перестала быть объяснением в любви‚утеряла Эроса, превратилась в спор о словах". Соловьев и есть тот почти единственный философ второй половины XIX века, во всяком случае, самый значительный и великий, философия которого есть явное или скрытое, но постоянное «объяснение в любви». Под диалектикой Соловьева, под иногда безжизненной корой его отвлеченной и часто сухой мысли всегда трепещет великая радость любвик таинственной и благодатной основе мира, познанной в интимном опыте. И его гносеология, как она ни диалектична и ни строга в некоторых своих звеньях, в существе своем есть рассказо том, что он видел и чему сподобился быть свидетелем» [158]158
Там же. С. 205.
[Закрыть].
Наконец, если судить по написанию «Трех разговоров» в последний год жизни Вл. Соловьева, то можно с полной уверенностью сказать, что вовсе не гносеология Канта была последним интересом Вл. Соловьева, но учение о зле, которое к тому же повелительно заставляло философа говорить об этом не в виде философских схем (это он умел делать хорошо и раньше), но в виде потрясающих картин мировой катастрофы. После этого только упрямая слепота и неподвижный догматизм мысли могут находить в философском творчестве Вл. Соловьева, и в раннем, и в среднем, и в позднем, хоть какие‑нибудь намеки на кантианские симпатии.
Если не входить ни в какие подробности, а дать только кратчайшую характеристику отношения Вл. Соловьева к Канту, то ничего другого нельзя сказать, как то, что Кант является выдержанным субъективнымидеалистом, Вл. Соловьев же является выдержанным объективнымидеалистом. Отсюда нетрудно вывести и все прочее. Конечно, по Вл. Соловьеву, наука и вообще знание возможны только потому, что слепая текучая чувственность оформляется априорными формами рассудка. Но все дело в том и заключается, что априорные формы рассудка трактуются у Канта как исключительное достояние человеческого субъекта, а у Вл. Соловьева они являются объективно существующими идеями. Конечно, вещи в себе существуют и у Канта, и у Вл. Соловьева. Но у Канта они остаются навеки непознаваемы, у Вл. Соловьева они изливаются в конкретный чувственный опыт человека и его оформляют. Поэтому Кант – метафизический дуалист, Вл. Соловьев же – строжайший диалектический монист. Также и сфера разума привлекается и у Канта, и у Вл. Соловьева ради учения о полноте человеческого знания. Но опять‑таки у Канта идея разума не имеет в себе никакой объективной интуитивной предметности; и потому разум, по Канту, распадается на противоречия, и существует целая наука, которая разоблачает эти противоречия разума и которую Кант называет диалектикой, и ее основную функцию видит в том, что она является «разоблачительницей иллюзий». У Вл. Соловьева здесь все наоборот. Разум у него действительно требуется для завершения и полноты знания, но идеи этого разума даются человеку интуитивно, так что возможная здесь диалектика только возвышает человека в сферу высшего познания.
Если иметь в виду эту нашу кратчайшую характеристику расхождения Вл. Соловьева с Кантом, то никакие соловьевские совпадения с Кантом не будут страшны и не будут перекрывать той дуалистической бездны, которая разделяет обоих философов.
10. Вл. Соловьев и Шеллинг.Преувеличивать шеллингианские заимствования Вл. Соловьева тоже не приходится. И тут тоже это вовсе не означает того, что у Вл. Соловьева не было никаких совпадений. Эти совпадения вырастали у Вл. Соловьева органически и самостоятельно, они были почти всегда результатом его собственного философского творчества.
Прежде всего спросим себя: что шеллингианского можно найти у Вл. Соловьева? Несомненно, общей у обоих мыслителей была высокая оценка человеческого разума, его онтологическая значимость и, в противоположность Канту, его интуитивная, а часто, даже можно сказать, художественная насыщенность. Конечно, никаких разговоров о дуализме субъекта и объекта, о противоположности вещи в себе и явления, а также о диалектике только как о «разоблачительнице иллюзий» ни у Вл. Соловьева, ни у Шеллинга не может и возникнуть. Обоих мыслителей глубочайшим образом объединяет борьба с абстрактным рационализмом и с формальнологической метафизикой. Сказать, что здесь у Вл. Соловьева было какое‑то прямое заимствование у Шеллинга, никак нельзя, до того учение об интуитивном разуме было для Вл. Соловьева самой глубокой философской потребностью.
Можно говорить и о многих других точках соприкосновения между философскими концепциями обоих мыслителей. В первую очередь нам хотелось бы отметить, что на путях борьбы с дуализмом субъекта и объекта оба мыслителя испытывали глубочайшую потребность выйти за пределы субъекта и объекта и формулировать нечто более важное, способное объединить в себе и субъект и объект. Подобного рода тенденция у Шеллинга очень сильна, но, как мы видели выше, Вл. Соловьев прямо учит о «положительном ничто», которое, будучи выше всех субъектов и объектов, по этому самому и не допускает для себя никакой предикации. Тдкая концепция, возможно, конечно, могла быть навеяна Шеллингом; и воздействие Шеллинга на Вл. Соловьева в данном случае даже более вероятно, чем воздействие неоплатоников или Оригена. Повторяем, однако, что ни о каком прямом заимствовании у Шеллинга не может идти и речи.
Может быть, Шеллинг имел значение для Вл. Соловьева в смысле высокой онтологической и гносеологической значимости искусства. Но у Шеллинга это превознесение искусства носит чисто романтический характер, чего нельзя сказать о Вл. Соловьеве, дававшем в «Критике отвлеченных начал» по преимуществу логическое и категориально–деловое построение теории искусства.
О прямом расхождении Вл. Соловьева с Шеллингом тоже сказать необходимо. Так, мимо Соловьева прошел весь натурфилософский период Шеллинга. Нечто шеллингианское можно находить в его позднейшей работе «Красота в природе» (1889). Но к тому времени после натурфилософии Шеллинга прошло целое столетие, так что натурфилософские работы Шеллинга 90–х годов XVIII века, конечно, были для Вл. Соловьева чем‑то весьма устаревшим.
Необходимо отметить, что и последний период творчества Шеллинга, когда он создавал свою четырехтомную «Философию мифологии» и «Философию откровения», тоже прошел мимо Вл. Соловьева. Термином «миф» Вл. Соловьев даже совсем не пользуется. Но у него была собственная «философия мифологии и откровения», которая с Шеллингом не имела ничего общего. Таковы указанные выше работы «Чтения о Богочеловечестве» (1877—1881) и «Духовные основы жизни» (1882—1884). И вообще необходимо сказать, что Вл. Соловьев с начала и до конца ориентировался на христианское богословие и особенно на православие, в то время как Шеллинг в своих философских устремлениях навсегда остался антицерковным протестантом.
11. Вл. Соловьев и Гегель.Насколько Вл. Соловьев глубоко разбирался в Гегеле, видно по его блестящей статье «Гегель» в Словаре Брокгауза и Ефрона. Приведем начало этой статьи (X, 301 и сл.): «Гегель может быть назван философом по преимуществу, ибо изо всех философов только для него одного философия была все. У других мыслителей она есть старание постигнуть смысл сущего; у Гегеля, напротив, само сущее старается стать философией, превратиться в чистое мышление. Прочие философы подчиняли свое умозрение независимому от него объекту; для одних этот объект был Бог, для других – природа. Для Гегеля, напротив, сам Бог был лишь философствующий ум, который только в совершенной философии достигает и своего собственного абсолютного совершенства; на природу же в ее эмпирических явлениях Гегель смотрел как на чешую, которую сбрасывает в своем движении змея абсолютной диалектики». Если гнаться за кратчайшей формулой того, что такое Гегель, то, кажется, лучше и не скажешь, чем это сказал здесь Вл. Соловьев.
Это делает соловьевскую критику гегельянства весьма интересным предметом для исследования. Гегель настолько труден для усвоения, что подавляющее большинство критиков Гегеля критикуют его без всякого проникновения в сущность того, что Гегель мыслил и писал. Вл. Соловьев относится к тому небольшому числу критиков Гегеля, которые не только глубоко его понимают, но находят необходимым в то же самое время и весьма существенно его критиковать.
В своей магистерской диссертации (I, 57—66, 111—123) Вл. Соловьев хорошо понимает, что Гегель является вершиной европейского рационализма. Если то, что мы знаем о вещах, имеет какой‑нибудь смысл, то это значит, что в своем познании мы оперируем понятиями, и только ими. Вне понятия вообще ничего не существует. И, следовательно, только понятию и принадлежит реальность, только понятиями и следует заниматься. И мы впали бы в большое заблуждение, если стали бы думать, что Вл. Соловьев, как говорят, богослов и мистик, не имеет никакого вкуса к построению философии как понятийной системы. Выше при изложении трактата «Философские основы цельного знания» мы могли убедиться в огромной склонности Вл. Соловьева к построению категорий и к установлению их точнейшей системы. Многие даже критикуют раннего Вл. Соловьева за его слишком большой схематизм и злоупотребление голыми абстракциями. И действительно, эта приверженность к установлению категориальной системы, безусловно, роднит ^его ѳ Гегелем; может быть, в этом отношении он действительно многому научился у Гегеля.
Далее, Вл. Соловьеву также весьма понятно и движение понятия, его становление, его постепенное самораскрытие. Более того, он не только понял сущность гегелевской триады, но и сам постоянно пользовался ею в своих рассуждениях. Число «три» настолько оказалось привычным Вл. Соловьеву, что он его весьма часто употреблял даже и не в смысле диалектики, а в смысле просто обыкновенной системы рассуждения или рассказа. У него мы находим стихотворения под названиями «Три свидания» или «Три подвига». Одно большое сочинение последнего периода называется «Три разговора». Но, может быть, еще более существенным яёляєтсято, что свое развитие категорий Вл. Соловьев мыслит на гегелевский манер исторически. В его магистерской диссертаций отдельные философские направления ни в каком случае не выступают в виде простого перечисления или в виде какой‑нибудь формально–логической классификации. У него закономерно и последовательно развивается средневековая философия. То же самое происходит и в философии Нового времени. Каждое философское направление, будучи односторонностью, обязательно требует своего законченного перехода на другую ступень, где закономерным образом зарождается и новое направление в философии. Так философия Нового времени постепенно исчерпывает себя и приходит к самоотрицанию, так что позитивизм является для Вл. Соловьева такой же исторической необходимостью, какими были в свое время рационализм, эмпиризм и немецкий идеализм.
Наконец, и все соловьевское построение мировой истории, несомненно, навязано гегелевскими схемами, хотя по своему содержанию схемы эти не имеют ничего общего с Гегелем. Когда Вл. Соловьев говорил о бесчеловечном божестве на Востоке и о безбожном человечестве на Западе, то подобного рода противопоставления наверняка навеяны Гегелем.
Таким образом, о существенном сближении Вл. Соловьева с Гегелем говорить можно и нужно. Однако тут же необходимо констатировать и огромное расхождение обоих мыслителей, доходившее до прямых враждебных чувств Вл. Соловьева к гегельянству.
Первое, что бросается здесь в глаза, это несводимость соловьевского бытия только на одно понятие. У Гегеля нет ничего, кроме понятий и их постепенного исторического самораскрытия. Мы уже знаем, что в своем учении о всеединстве Вл. Соловьев постулирует признание такого сущего, которое охватывает все существующее и потому никак не определяется отдельными моментами действительности. Чтобы все было действительно всем, необходимо отказаться от приписывания ему какого‑нибудь отдельного предиката. А отсюда, как это мы хорошо знаем, и возникло у Вл. Соловьева учение о «положительном ничто», которое уже выше всякого понятия. Здесь непроходимая пропасть между соловьевской философией и гегельянством. Для Вл. Соловьева каждая вещь необходимым образом есть некоторого рода понятие. Однако она не только понятие. Она есть еще и живая субстанция, отличимая от ее понятия. Поэтому сказать, что все бытие и вся действительность есть только мышление, – это значит совсем не понимать того, к чему стремился Вл. Соловьев. Даже и абсолютное мышление его вовсе не устраивало. У Гегеля абсолютный дух мыслит логическими категориями, которые и характеризуют собою всю реальную действительность. Получается так, что абсолютный дух есть какой‑то профессор чистой логики, который умеет очень хорошо и точно мыслить, и больше ничего и не нужно для действительности. Но такого рода понятийная действительность вызывала у Вл. Соловьева только смех и издевательство, поскольку сам Вл. Соловьев был юморист по самой своей природе.
Хорошо понимая, что никакая вещь не существует без понятия о ней, Вл. Соловьев в течение всей своей жизни был непримиримым врагом панлогизма и всякого логицизма. Будучи влюбленным в чистое мышление, Вл. Соловьев навсегда остался непримиримым врагом чисто мыслительного рационализма. Будучи создателем внушительной философии всеединства и связанного с этим последним органицизма, Вл. Соловьев ни в каком случае не мог допустить, как то делал Гегель, чтобы вся действительность в своем конечном развитии пришла к философии и на ней остановилась. Конкретные периоды исторического саморазвития мирового мышления в той форме, как это было у Гегеля, тоже не устраивали Вл. Соловьева. Ему казалось смехотворным, что абсолютный дух нашел свое завершение в прусской монархии. Противопоставлять Запад и Восток по–гегелевски – такая тенденция у Вл. Соловьева была. Но никакой Гегель никогда не учил о том, что подлинный синтез восточной и западной односторонности совершается в России и что подлинным синтезом всех исторических противоречий будет Россия как вместилище вселенской церкви.
Мы можем резюмировать соловьевскую критику гегелевского обожествления понятия следующими его словами: «Гегель утверждает, во–первых, что всякая данная действительность безусловно определяется логическими категориями, а во–вторых, что сами эти категории суть диалектическое саморазвитие понятия как такого или чистого понятия самого по себе. Но понятие само по себе без определенного содержания есть пустое слово, и саморазвитие такого понятия было бы постоянным творчеством из ничего. Вследствие этого логика Гегеля, при всей глубокой формальной истинности частных своих дедукций и переходов, в целом лишена всякого реального значения, всякого действительного содержания, есть мышление, в котором ничего не мыслится» (I, 330).
Из всего предыдущего необходимо сделать вывод, что вопрос об отношении Вл. Соловьева к Гегелю весьма запутан, если иметь в виду соответствующие весьма разнообразные и пестрые тексты из Вл. Соловьева. Здесь можно указать на его важное замечание о Гегеле в целом (X, 317—320). Кроме того, начало изучения этого вопроса положено в работе А. Н. Голубева [159]159
Голубев А. Н. Гегель и Вл. Соловьев. Границы идеалистической диалектики//Доклады X Международного гегелевского конгресса. Вып. II. М., 1974. С. 73–87.
[Закрыть].
12. Вл. Соловьев и Конт.Историко–философский и диалектический переход от Гегеля к позитивизму дан у Вл. Соловьева безупречно. В самом деле, гегелевское понятие решительно все в себе поглотило и все превратило только в чистую мыслимость. Но тогда вполне естественной является реакция на такое всепоглощающее понятие и проповедь действительности не на основе анализа понятий, а на основе анализа данных чувственности. Позитивизм – прямая противоположность гегельянству, и его генетическая характеристика у Вл. Соловьева отличается большой ясностью (I, 62–74, 152–170).
Однако с О. Контом дело обстоит не так просто. Вл. Соловьев, во–первых, написал высокоценную статью о Конте у Брокгауза и Ефрона (X, 380—409). Эта статья богата не просто общими сведениями о Конте, но и целой увлекательной картиной контовских позитивистских утопий. Так как сам Конт страдал острым психическим заболеванием, то эта его утопия полна самых разнообразных курьезов, способных создать только потешное настроение у читателя. Все это изложено у Вл. Соловьева очень подробно и внимательно, так что не может не представить большого исторического интереса.
Во–вторых же, в последние годы своей жизни Вл. Соловьев опять вернулся к изложению Конта, но на этот раз уже с положительной стороны, а именно с точки зрения контовской концепции человечества.
В 1898 году Петербургское философское общество отмечало столетие со дня рождения О. Конта, и в связи с этим Вл. Соловьев прочитал блестящий доклад об О. Конте, необычайно характерный для специфики соловьевского идеализма. Стоит только привести хотя бы название этого доклада: «Идея человечества у Августа Конта» (IX, 172—193).
Нашего особенного внимания заслуживает отношение Вл. Соловьева к позитивизму. В самом общем смысле слова это отношение тоже безусловно отрицательное, как это мы находили еще в его магистерской диссертации 1874 года. Но вот в 1898 году, признавая свою прежнюю критику позитивизма совершенно правильной, он начинает его высоко ценить в сравнении с вульгарными материалистами. О. Конт не хочет никакой материалистической метафизики, а просто говорит о необходимости изучать только явления. И в этом смысле, по мнению Вл. Соловьева, О. Конт совершенно прав. Он не прав только в том отношении, что не подвергает анализу самое это явление и относится к нему слишком наивно.
И тут для добросовестно критикующего Вл. Соловьева весьма характерно, что выше О. Конта он ставит знаменитого Канта. Черты субъективизма и дуализма у Канта ему, конечно, чужды. Но то, что Кант хочет обосновать науку на основе анализа чувственно понимаемого явления, – это Вл. Соловьеву очень близко и дорого, так что лозунг «От Конта к Канту» (VI, 274) для него звучит вовсе не регрессивно, а вполне прогрессивно. Нам кажется, что более беспристрастного и более добросовестного отношения к враждебной теории нельзя себе и представить.
Даже больше того, учение Конта о человечестве, как мы увидим ниже, Вл. Соловьев считает весьма ценным и сопоставляет его даже с подлинными христианскими теориями, несмотря на безбожество Конта. Вероятно, во всей истории философии Вл. Соловьев был единственным идеалистом, который нашел ценнейшие идеи у самого основателя европейского позитивизма, «зерно великой истины» (IX, 172).
Возвращаясь к историко–философским конструкциям магистерской диссертации Вл. Соловьева, мы должны указать еще на одну ступень европейской философии, а именно на Шопенгауэра и Э. фон Гартмана. Дело в том, что, кроме позитивизма, необходимо представлять себе другую, еще более резкую противоположность гегельянству. А именно, если гегелевское понятие есть торжество мировой логики, то можно себе представить и полное отсутствие такой мировой логики. А это и будет бессмысленная, безумная и даже вообще бессознательная мировая воля. Вл. Соловьев прав в том отношении, что весьма выразительно выдвигает на первый план нигилизм Шопенгауэра. И этот нигилизм – тоже закономерное детище европейской философии, построенной на гипостазировании отвлеченных понятий. Скажем несколько слов о Шопенгауэре и Э. фон Гартмане.
13. Вл. Соловьев и Шопенгауэр.Из предыдущего мы уже знаем, что Вл. Соловьев весьма увлекался Шопенгауэром, но это увлечение, во–первых, относится только к раннему Вл. Соловьеву и, во–вторых, было весьма непродолжительно. Это, однако, не мешает тому, чтобы вопрос об отношении Вл. Соловьева к Шопенгауэру имел для нас достаточно большое значение.
Прежде всего обращает на себя внимание глубокое и тонкое понимание Вл. Соловьевым всего творчества Шопенгауэра (I, 74—96, 100—109, 147—148). Хотя, как мы увидим ниже, Вл. Соловьев был отнюдь не всегда прав в своей оценке ведущих концепций у Шопенгауэра. Весьма понятны те мотивы, которые заставили Шопенгауэра сводить все на волю и представления. То и другое является у Шопенгауэра, как правильно думает Вл. Соловьев, только результатом непосредственного опыта. Если вообще есть познание чего‑нибудь, то это значит, что у познания есть собственный предмет, а этот предмет и есть представление. Но представление относится к внешнему миру, а гораздо ближе наш внутренний опыт, гласящий о примате хотения или воли. Представление есть внешняя сторона действительности, воля же есть ее внутренняя сторона, потому воля и есть нечто первичное (I, 74—85). Значит, и само бытие есть не что иное, как воля с внутренней стороны и представление как внешняя сторона.
Это изложение философии Шопенгауэра у Вл. Соловьева можно считать вполне элементарным. Но то, что у Вл. Соловьева никак не элементарно – это понимание шопенгауэровской воли как гипостазированной абстракции, подобно всем вообще гипостазированным абстракциям в истории новой философии (I, 100, 101, 104—105). В установлении этих абстрагированных абстракций Вл. Соловьев совершенно беспощаден. Вместо того чтобы говорить об истине сразу и целиком, философы всегда хватались за какой‑нибудь ее отдельный момент, отрывали этот момент от целого и приписывали ему абсолютное бытие, гипостазировали. По мнению Вл. Соловьева, вся средневековая философия только и состояла из гипостазирования то одного, то другого момента истины и абсолютизировала эти односторонние абстракции, тем самым превращая их в нечто мертвое. Эта абстрактная методология, по мнению Вл. Соловьева, не изменилась и в Новое время. И картезианское учение о разуме, и английское эмпирическое учение о примате чувственности являются только абсолютизированием той или иной односторонности. Так было у Канта, и так было у Гегеля. Гегель – это вершина европейского рационализма, но он оперировал только абстрактными категориями, что было односторонностью, поскольку бытие содержит в себе категории, но само по себе вовсе не есть только категория разума. Такое понимание европейской философии, когда Вл. Соловьев переходит к Шопенгауэру, становится во многих отношениях довольно эффектным.
В самом деле, бессознательная воля Шопенгауэра является прямой противоположностью гегелевскому понятию. Последнее и разумно, и закономерно, и вселяет в каждого размышляющего философа неопровержимый и очевиднейший оптимизм. У Шопенгауэра все наоборот, его бессознательная воля неразумна, бесцельна и способна вселять в людей только беспросветный пессимизм. Казалось бы, между Шопенгауэром и Гегелем совершенно нет ни одной точки соприкосновения, но Вл. Соловьев доказывает, что бессознательная воля Шопенгауэра есть тоже гипостазированная абстракция, поскольку в ней абсолютизируется тоже всего только один момент истины и жизни (I, 103, 104, 105).
Вл. Соловьев в этой критике Шопенгауэра не только беспощаден, но и вполне прав, поскольку, и с нашей точки зрения, воля не хуже и не лучше представления; ее понятия тоже не хуже и не лучше стихийной устремленности.
Однако здесь нам приходится также и кое в чем возразить Вл. Соловьеву. Философ считает, что если воля есть нечто стихийное и бессмысленное, то она ничего не может породить из себя разумного и осмысленного. Будучи заклятым врагом Гегеля и его диалектики, Шопенгауэр действительно впадает в неразрешимое противоречие и не умеет преодолеть это противоречие диалектически, что и дает повод Вл. Соловьеву тоже пройти мимо той очевидной диалектики, которая у Шопенгауэра невольно возникала при переходе от бессознательной и неразумной воли к ее сознательным и разумным порождениям. Но если не признавать такой диалектики, то в таком случае и сам Вл. Соловьев не имел бы права говорить о «положительном ничто», которое выше всего разумного и оформленного.
Едва ли также можно считать правильной ту критику Шопенгауэра у Вл. Соловьева, согласно которой воля, будучи ничем, может породить из себя тоже ничто, небытие. Он обвиняет Шопенгауэра не больше и не меньше как в абсолютном нигилизме (I, 80). С точки зрения формального метода Вл. Соловьев допускает здесь огромное преувеличение, но, кажется, он во многом прав, если мы будем обращать внимание не на скрытую шопенгауэровскую диалектику, но на само содержание бытийного первопринципа, который проповедуется у Шопенгауэра.
В частности, Вл. Соловьев совсем не учел концепцию мира идей у Шопенгауэра. Правда, в таком частном понимании Шопенгауэра приходится винить самого же Шопенгауэра. Под своим термином «представление» Шопенгауэр понимал по крайней мере три разных предмета. С одной стороны, это у него обычный общечеловеческий феномен, который не требует для себя никакой теории. С другой стороны, Шопенгауэр понимает «представление» вполне кантиански, как субъективный человеческий процесс, не имеющий никакого отношения к объективному миру. Но, в–третьих, – а это самое главное – мир представления является у Шопенгауэра не чем иным, как платоновским миром идей, разумных, прекрасных и вечных. Вот эту платоническую концепцию мира идей Вл. Соловьев и не рассмотрел у Шопенгауэра. В противном случае он должен был бы сказать, что освобождение от воли у Шопенгауэра есть уход в небытие, погружение в чистый мировой интеллект, в художественное и уже ни в чем не заинтересованное наслаждение. Вся эта сторона шопенгауэровской философии целиком прошла мимо Вл. Соловьева. И вообще свои заключения о Шопенгауэре он строит больше на основании трактата Шопенгауэра «О четверояком корне закона достаточного основания», чем на основании главного труда Шопенгауэра.


