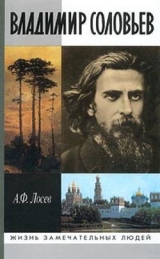
Текст книги "Владимир Соловьев и его время"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 48 страниц)
Переходя к сущности дела, необходимо остановиться на том упреке Е. Н. Трубецкого по адресу Вл. Соловьева, что последний сначала объявляет этику в виде дисциплины, не зависящей ни от метафизики, ни от религии, а сам фактически, и притом на каждом шагу, пользуется и метафизикой, и религией. Е. Н. Трубецкой пишет: «Этика Соловьева – не более как часть его учения о "Всеедином". Стало быть, метафизика здесь – не какой‑либо случайный внешний придаток: она коренится в основной идее системы; вот почему попытка "Оправдания добра" – отстоять независимость этики – производит тягостное впечатление какого‑то затмения: словно центральное светило соловьевского учения здесь заслоняется от нас чем‑то ему посторонним и внешним» [187]187
Трубецкой Е. Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьева. Т. II. С. 58.
[Закрыть].
По поводу такого рода аргументации мы бы сказали, что именно она производит на нас тягостное впечатление. Дело в том, что Соловьев при построении своей этики вовсе и не думал отказываться от метафизики. Он хотел только одного – дать характеристику нравственности в ее чистом виде. А нравственность в чистом виде, сколько бы она ни пользовалась религиозной метафизикой, может и должна оставаться в своем чистом виде. Конечно, на известной стадии нравственного сознания возникает зависимость этого последнего от религии. Но это не значит, что нравственность сама по себе уже и есть религия. Нравственность начинается со стыда, продолжается состраданием и по необходимости оказывается зависимостью от высшего начала, от благочестия. Но если нравственность есть благочестие, то религия вовсе не есть только благочестие. Религия есть вера в то или иное божество, а следовательно, и в учение об этом божестве, но она есть еще и культ. Вл. Соловьев вовсе не хочет заменить нравственность только одной религией. Но для него очевидно, что некоторые религиозные моменты обязательно должны входить в нравственность на определенной ступени ее развития. Это не значит, что нравственность тем самым уже и становится религией. Религия здесь используется, но само нравственное сознание остается в своем чистом виде, именно нравственностью, а не религией. И если нравственность по мере ее развития восходит все выше и выше, покамест не приобщится к общему всеединству, то это не значит, что нравственность тем самым уже сама по себе есть учение о Всеединстве. Учение о Всеединстве есть метафизика или, точнее сказать, диалектика. Но опять‑таки, это не значит, что нравственная область теряет свое собственное лицо и что в ней нет ровно ничего, кроме учения о Всеединстве. Е. Н. Трубецкой (так же как и Б. Н. Чичерин) думает, что нравственность во всем своем содержании, с начала и до конца, не имеет ровно никакого отношения ни к метафизике, ни к религии. А вот с этим Вл. Соловьев действительно уже никак не может согласиться. Религиозно–метафизические моменты появляются в нравственности на известных ступенях ее развития, но это уже дело самой нравственности, которая не может обойтись без учения о подчинении высшему и без учения о Всеедином Идеале. В сравнении с этим Е. Н. Трубецкой требует от Вл. Соловьева чего‑то невозможного. Ведь даже те мыслители, которые отвергают всякую метафизику и всякую религию в своем изображении нравственного сознания, обязательно признают, что нравственность вовсе не есть слепые факты поведения и требует подчинения этого поведения чему‑нибудь высшему, хотя бы, например, необходимости признавать бесклассовое общество будущего как идеал. А Е. Н. Трубецкой от религиозно и метафизически мыслящего Вл. Соловьева требует, чтобы он в нравственности не признавал никакого подчинения низшего высшему и никакого учения о всеобще–человеческом идеале. Такая позиция в отношении этики Вл. Соловьева действительно производит тягостное впечатление и даже вызывает какое‑то чувство досады.
Если теперь заговорить о нравственности в ее существе, то Е. Н. Трубецкой недоволен позицией Вл. Соловьева, который сначала объявил независимость нравственности от метафизики и религии, то есть от всякого умозрения, а фактически выводит всю нравственность из начал вполне умозрительных. По Е. Н. Трубецкому, стыд, жалость и благочестие являются понятиями вовсе не первично эмпирическими, – но вполне умозрительными.
Однако мы должны сказать, что если эти исходные начала нравственности и считать умозрительными, то подобного рода умозрения обладают здесь, безусловно, первичным характером. Во–вторых же, настаивая на эмпирическом учении о происхождении нравственности, Вл. Соловьев вовсе и не думал отрывать эмпирию от умозрения. Он все‑таки является везде последовательным идеалистом. Все эмпирическое для него является тоже умозрительным, но только умозрительным в первичном и элементарном смысле слова. Вместо пространной критики Вл. Соловьева на эту тему Е. Н. Трубецкому нужно было хотя бы кратко указать на такие первичные основы нравственности, которые действительно были бы чисто эмпирическими и никак не умозрительными. И наконец, в–третьих, хотя в дальнейшем Вл. Соловьев и напоминает своему читателю о происхождении высших форм нравственности из первичного стыда или, вернее, из стыда, жалости и благочестия, все‑таки везде у него формулируется и та новая ступень, в сравнении с которой указанные три основы являются только отдаленным корнем.
В частности, относительно стыда Е. Н. Трубецкой, возможно, даже и прав. Но прав он не в том смысле, что все чувственное, по Вл. Соловьеву, якобы обязательно плохое, скверное и грешное. Е. Н. Трубецкой и Б. Н. Чичерин напрасно хотят расквитаться с Вл. Соловьевым указанием на то, что если обнаженное половое влечение стыдно, то и самая обыкновенная еда тоже должна была бы вызывать чувство стыда. Здесь Е. Н. Трубецкой и Б. Н. Чичерин занимают слишком уж плоскую и обывательскую позицию, с точки зрения которой все чувственное в человеке – на одно лицо и что все чувственное в человеке в совершенно одинаковой мере может быть и оправдано, и осуждено. Эти два мыслителя, несомненно, под влиянием обывательщины не находят ровно ничего специфического в половом влечении. Эта специфика, однако, не только имеется в половом влечении, но самым резким образом выражает себя и буквально бьет в глаза каждому исследователю. Мы, конечно, не будем здесь вскрывать сущность полового влечения не потому, что это не является нашей задачей, а потому, что эта сущность решительно всем понятна; и только Е. Н. Трубецкой и Б. Н. Чичерин прикидываются, что половое влечение ровно ничем не отличается от еды или пищеварения. И совершенно правильно утверждает Е. Н. Трубецкой, что половой стыд только у Вл. Соловьева играет такую огромную роль ввиду особенностей его личности. Действительно, половой стыд в этике у Вл. Соловьева играет оригинальную роль. Но совершенно нет ничего оригинального в том, что половое влечение уже по самому существу своему резко отличается от всех других чувственных ощущений у человека. Те категории нравственности, которые у Вл. Соловьева надстраиваются на основе стыда, подлежат обсуждению и во многом, может быть, окажутся несостоятельными. Но самый факт специфики полового стыда не подлежит обсуждению и ограничению. И только Е. Н. Трубецкой и Б. Н. Чичерин прикидываются, что они ничего не знают, в чем же тут дело.
Так же едва ли прав Е. Н. Трубецкой в своей критике другого источника нравственности у Вл. Соловьева, именно жалости или сострадания. По Е. Н. Трубецкому, Вл. Соловьев заимствовал эту моральную категорию у Шопенгауэра; а Шопенгауэр – принципиальный имманентист, то есть для него нет ничего потустороннего, а потому и основное нравственное чувство сведено у него к простому состраданию. В этих утверждениях Е. Н. Трубецкого ни одной фразы мы не считаем правильной. Шопенгауэр вовсе не имманентист, и его мировая воля вполне трансцендентна. У Шопенгауэра вовсе не сострадание является основой морали, но и многое другое, говорить о чем нам сейчас несподручно во избежание большого уклона в сторону. Чувству сострадания до некоторой степени можно противопоставлять христианскую любовь. Но Е. Н. Трубецкой забыл тут о самом главном. Он не постарался сказать нам: как же понимать эту христианскую любовь? Сострадание у Шопенгауэра – это вещь простая, элементарная и общепонятная. А что такое христианская любовь? Тут и любовь к Богу (и Е. Н. Трубецкому важно было бы сказать, к какому Богу?), тут и любовь к ближнему (и что это за ближний и всякий ли ближний имеется в виду?), и любовь к самому себе (и тут тоже еще надо разъяснить, какое человеческое «я» имеется в виду?). Самое же главное здесь то, что в области нравственности Е. Н. Трубецкой хочет и начинать с христианской любви и ею же кончать. А не получится ли здесь так, что мы лишимся возможности проанализировать христианскую любовь во всем составе, начиная с ее элементов и кончая завершительной цельностью? И не проделал ли Вл. Соловьев как раз эту работу, начиная со стыда и кончая сыновними чувствами к «небесному Отцу»? В чем же тогда Е. Н. Трубецкой упрекает Вл. Соловьева?
Если бы мы захотели формулировать основное расхождение между Е. Н. Трубецким и Вл. Соловьевым, то оно сводится, по–видимому, к тому, что Е. Н. Трубецкой строго различает' «естественное» и «неестественное», в то время как Вл. Соловьев постоянно совмещает эти две области и даже путает их. Подобного рода возражения по адресу Вл. Соловьева отличаются несколько грубоватым характером. Ведь Е. Н. Трубецкому, как никому другому, весьма отчетливо известен постоянный пафос Вл. Соловьева именно к тому, чтобы не различать «естественного» и «неестественного». Вся его философия Всеединства в том и заключается, что Единое во всем присутствует и тем самым его одухотворяет, правда, в разной степени. С точки зрения философии Всеединства вообще становится непонятным само различение «естественного» и «неестественного». А кроме того, и сам Е. Н. Трубецкой соглашается с Вл. Соловьевым в том, что в истории человечества был период «подзаконный» и – с появлением. христианства – наступил период благодатный. И как же понимать, по Е. Н. Трубецкому, этот благодатный период? Если признать, что благодать целиком уже наступила, то это означало бы, что вся история уже кончилась и больше двигаться некуда. А если благодать овладела миром еще не целиком, то в этом мире волей–неволей придется признавать какое‑то совмещение естественного, или подзаконного, или неестественного, благодатного. Кроме того, Е. Н. Трубецкой считает блестящими те страницы, которые Вл. Соловьев посвящает изображению исторического процесса. Но ведь сам же Е. Н. Трубецкой старается убедить нас в том, что Вл. Соловьев в конце концов разочаровался в своем изображении исторического процесса и что поэтому прекратил все разговоры об историческом процессе и прямо перешел к послеисторической эсхатологии. То, что Вл. Соловьев в конце своей жизни разочаровался в быстрой осуществимости его идеалов, это понятно. Но что Е. Н. Трубецкой то совмещает естественное и неестественное, а то их противопоставляет – это уже нам непонятно и производит впечатление путаницы.
Выставляя на первый план у Вл. Соловьева соединение несоединимого, Е. Н. Трубецкой не устает приводить для этого много примеров из «Оправдания добра», и часто они производят впечатление курьеза. Само собой разумеется, что это было курьезом для Е. Н. Трубецкого, мыслящего в данном случае чересчур позитивистски и с полным игнорированием романтического, но для Вл. Соловьева вполне серьезного утопизма.
Так, пространно рассуждая о совмещении у Вл. Соловьева церкви и государства, Е. Н. Трубецкой почти потешается рассуждениями о «талантливых и добрыхтюремных начальниках» [188]188
Трубецкой Е. Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьева. Т. И. С. 142.
[Закрыть]и вообще об «идеальной тюрьме», об «отношении к животным как друзьям» [189]189
2 Там же. С. 143.
[Закрыть] ,о якобы восторженном отношении Вл. Соловьева к таким вредителям в сельском хозяйстве, как мыши, суслики, хлебные жуки и даже зайцы, и вообще «крайне туманными» рассуждениями о «нравственном отношении человека к земле» [190]190
Там же.
[Закрыть].
Наконец, Е. Н. Трубецкой настаивает на том, что все мировоззрение трактата «Оправдание добра» построено на чувстве разложения прежнего теократического идеала. Церковь здесь слишком отделена от государства и вовсе не является его главой, а это уже не теократия; государство не преследует неверующих, как это требовалось бы в согласии с идеалом теократии; изображаемое же у Вл. Соловьева хозяйство вовсе уже не является хозяйством; наоборот, хозяйство выступает теперь одной из областей Царства Божия на земле. Общий вывод Е. Н. Трубецкого по поводу теократии такой: «Утопия всемирной теократии разбивается о тот неопределенный факт, что Царствие Божие, даже в земном его явлении, находится по ту сторону государства и по ту сторону хозяйства» [191]191
Там же. С. 194.
[Закрыть]. Такого рода возражения Е. Н. Трубецкого слабо звучат потому, что и собственные его воззрения, если бы он стал их тут развивать подробнее, тоже недалеко ушли от воззрений Вл. Соловьева. Он тоже верит во всемирно–исторический прогресс, который, по его мнению, ведет человечество к «исцелению». Он тоже проповедует веру в какое‑то всеобщее и идеальное человечество будущего. А в конце концов и для него тоже последней философской инстанцией является учение о Всеединстве. Правда, тут же Е. Н. Трубецкой упрекает Вл. Соловьева в постоянном схематизме. Но, насколько можно судить, мысль о вреде соловьевского схематизма часто тоже оставляется без всякого доказательства и тоже часто сама является схематическим приемом при критике соловьевского мировоззрения. «Теократическая» идея Вл. Соловьева о царе, первосвященнике и пророке только потому расценивается у Е. Н. Трубецкого как «бледная тень прошлого» [192]192
Трубецкой Е. Я. Миросозерцание Вл. С. Соловьева. Т. II. С. 44.
[Закрыть], что он с самого начала исходит из несоловьевской идеи о чисто эмпирическом и антиумозрительном характере всей нравственной области. Е. Н. Трубецкой забыл, что имеет дело с чистейшим идеалистом–мистиком. Поэтому и пришлось расценивать вполне теократический конец «Оправдания добра» «как стыдливое умалчивание о теократии» и как «бесцветные и вымученные страницы» [193]193
Там же.
[Закрыть]. В итоге можно сказать, что только учение Вл. Соловьева о почитании отцов, браке и воспитании детей Е. Н. Трубецкой считает положительным достоянием «Оправдания добра». Все остальное вполне можно квалифицировать как последовательный разгром самого большого и максимально продуманного трактата Вл. Соловьева.
В заключение приведенного нами анализа «Оправдания добра» у Е. Н. Трубецкого мы должны сказать, что этот анализ потому для нас и ценен, что он является сплошным погромом. Этот погром часто не выдерживает никакой критики. Но он важен для всякого критически мыслящего читателя, который всерьез хотел бы разобраться в такой огромной историко–философской величине, какой является и соловьевское «Оправдание добра», и сам Вл. Соловьев.
СОЦИАЛЬНО–ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ
1. Национальные вопросы
1. Славянофилы, западники и Вл. Соловьев.Новый период в творчестве Вл. Соловьева обычно характеризуется как разрыв философа с прежним славянофильством, то есть с воззрениями А. Хомякова, И. Киреевского, И. Аксакова. Такая характеристика Вл. Соловьева содержит в себе некоторые правильные черты, но отнюдь не может проводиться безоговорочно, а во многом является даже и просто неверной.
Дело в том, что Вл. Соловьев, несмотря на все свои разнообразные уклоны, всегда был и оставался профессиональным философом и мыслил всегда в систематически продуманных категориях, чего нельзя никак сказать о славянофилах. Это были свободные литераторы, которые весьма талантливо, а часто совершенно случайно выражали свое национальное самосознание, не заботясь ни об его продуманном обобщении, ни об его логической последовательности. Полную противоположность этому составляла философия Вл. Соловьева, которая оставалась философией классики с начала и до конца.
Но эту профессиональную особенность личности Вл. Соловьева, заставлявшую его постоянно предаваться философским размышлениям, невозможно понимать только формально. В цитированной у нас выше вступительной речи на защите магистерской диссертации мы уже видели, что Вл. Соловьев считает бессмыслицей разрыв веры и знания, который проповедуется у славянофилов в их характеристике западной философии. По Вл. Соловьеву, такого разрыва вообще не может быть или он есть временное явление, вызванное естественными историческими потребностями. Поэтому он, можно сказать, вообще никогда не был славянофилом в смысле защиты одной только веры в противоположность разуму. И если в дальнейшем он спорил со славянофилами, то вовсе не об этой основной проблеме их мировоззрения, а совсем на других основаниях.
Правда, в статье 1877 года «Три силы», написанной в связи с патриотическими настроениями тогдашнего русского общества в период Русско–турецкой войны 1877—1878 годов, Вл. Соловьев весьма близко к славянофильству характеризует мусульманский Восток, западную цивилизацию и синтетический характер славянства и России. Многое из этих воззрений (но, к сожалению, далеко не все) заслуживает нашего одобрения еще и теперь.
Так, о Востоке мы здесь читаем (I, 228—229): «Что касается мусульманского Востока, то не подлежит никакому сомнению, что он находится под преобладающим влиянием… силы исключительного единства. Все там подчинено единому началу религии, и притом сама эта религия является с крайне исключительным характером, отрицающим всякую множественность форм, всякую индивидуальную свободу. Божество в исламе является абсолютным деспотом, создавшим по своему произволу мир и людей, которые суть только слепые орудия в его руках, единственный закон бытия для Бога есть Его произвол, а для человека – слепой неодолимый рок. Абсолютному могуществу в Боге соответствует в человеке абсолютное бессилие».
Другими словами, Вл. Соловьев выдвигает в исламе на первый план стихийно–фаталистическое начало. Эта формула мусульманского Востока, конечно, во многом неполна и даже во многом неверна, особенно если иметь в виду тысячелетнюю историю ислама, который в настоящее время во многом оказался непохожим на то, чем он был тысячу лет назад. Однако если преследовать философско–исторические обобщенные формулы, то даже в настоящее время трудно возражать против предложенной Вл. Соловьевым характеристики, и славянофильство здесь совершенно ни при чем.
Отнюдь не поверхностную, но весьма глубокую характеристику Вл. Соловьев дает западной цивилизации, которая является у него второй основной исторической силой человеческого развития: «…здесь мы видим быстрое и непрерывное развитие, свободную игру сил, самостоятельность и исключительное самоутверждение всех частных форм и индивидуальных элементов…» (I, 231). В старой Европе, по Вл. Соловьеву, индивидуализм еще сдерживался церковными и феодальными принципами. Но постепенно западная цивилизация теряла свое единство и революция освобождала здесь отдельную мелкую личность, не наполнивши ее никаким идейным содержанием. Ни капитализм, ни революционный социализм не могут осмыслить эту индивидуалистическую свободу, приводящую общество к борьбе всех против всех и к беспринципному анархизму. Но и в этих рассуждениях Вл. Соловьева слишком много правильного, чтобы их обязательно связывать со славянофилами, безвозвратно ушедшими в глубину истории.
Однако совсем иначе мы должны оценить то, что говорил Вл. Соловьев о третьей исторической силе, но и тут далеко не все так абсурдно, как думают многие. Совсем не абсурдно то, что говорит он о необходимости нашего избавления и от восточного фатализма, и от западного индивидуализма. Совсем не абсурдно то, что должен же быть такой народ или такие народы, которые осознают высшую свободу с полным удовлетворением как всех личностных прав, так и всего общественного приоритета. Даже когда Вл. Соловьев утверждает, что такими народами являются народы славянские, и особенно русский, то и здесь, прежде чем все это отвергать с порога, приходится о многом задуматься. И особенно приходится здесь задумываться потому, что под Россией он понимает пока еще весьма обобщенную категорию, лишенную узкого национализма и эгоизма.
Что касается конкретной истории России, то Вл. Соловьев, как мы это увидим ниже, находит трудноисчислимое множество всякого рода отрицательных сторон, так что ни о каком специальном национализме Вл. Соловьева не может идти и речи; и если говорить здесь о каком‑нибудь национализме, то он получает у Вл. Соловьева форму весьма острого исторического критицизма. А ведь в таком случае уже ничто не мешает мыслить Россию также и с тем общечеловеческим содержанием, которое выдвигается у самого Вл. Соловьева. Ясно, что и в этом отношении связывать Вл. Соловьева со славянофилами было бы большой натяжкой. Философ выходит далеко за рамки славянофильского национализма и начинает ставить вопросы, которые также и сейчас стоят перед нами.
Итак, даже в этом, казалось бы максимально славянофильском, сочинении («Три силы») критический анализ обнаруживает нечто, далеко выходящее за пределы старого славянофильства.
Поскольку нас интересует Вл. Соловьев не только в его изолированном состоянии, но и в его реальном соотношении с тогдашними умственными движениями, то не худо будет привести мнение А. В. Станкевича [194]194
Станкевич А. В. Три бессилия. Три силы. Публичное чтение Владимира Соловьева//Вестник Европы. 1877. №4. С. 877—891.
[Закрыть]по поводу этой брошюры Вл. Соловьева, тем более интересное, что мнение это отрицательное. А. В. Станкевич пишет: «Шестнадцать страниц последней не отличаются ни цельностью содержания, ни строгой последовательностью мысли, ни даже новизною тенденций, более талантливыми выразителями которых в русской литературе были покойные И. Киреевский и Хомяков» [195]195
Станкевич А. В. Три бессилия. Три силы. Публичное чтение Владимира Соловьева. С. 877.
[Закрыть]. Далее А. В. Станкевич замечает, что способности Вл. Соловьева возбуждали раньше большие надежды. Но последнее сочинение его доказало, что «автор способен уклоняться от строгого научного пути и отдаваться во власть мечтаний, представляемых им за выводы науки и результат истории человечества» [196]196
Там же. С. 878.
[Закрыть]. С Востоком и Западом Вл. Соловьев разделался, по мнению критика, чересчур резко. «Похоронив Восток и Запад и не добром помянув покойников, автор утешает нас, наконец, словом, обещающим человечеству возрождение жизни» [197]197
Там же. С. 888.
[Закрыть]. А. В. Станкевич подразумевает упования Вл. Соловьева на третью силу – славянство и Россию. Силы этой еще нет, и критик не разделяет уверенности Вл. Соловьева в том, что она появится, ибо гораздо ниже Вл. Соловьева оценивает историческую роль и наличное историческое положение славян вообще и России в частности. «Внешний образ раба нашего народа, – пишет он, – бедность и беспорядок России – вот ручательства будущего великого призвания ее в глазах автора!!» [198]198
Там же. С. 889.
[Закрыть]А. В. Станкевич заключает: «Итак, речь „Три силы“ не указала в двух из них творческой деятельности, их положительного содержания. В третьей силе она старалась указать какую‑то возможность, темно и странно истолкованную автором, принимающим ее за силу, но значение которой остается всем непонятным. Если принять объяснение трех сил, предлагаемое г. Соловьевым, то речь его должна бы быть названа не „Три силы“, а „Три бессилия“ [199]199
Там же. С. 891.
[Закрыть]. Мнение А. В. Станкевича должно заострить наше внимание на отрицательных взглядах, изложенных в данной статье. Однако большим критицизмом мнение А. В. Станкевича не отличается.
Наконец, что касается не обобщенно–философских, но конкретно–исторических оценок, то Вл. Соловьев даже еще до прямых споров со славянофилами был весьма далек от огульного осуждения Запада и от огульного оправдания Востока. Шеллинг, например, со своей критикой рационализма на путях искания цельного знания весьма высоко оценивается Вл. Соловьевым. Что касается философии Спинозы, то впоследствии Вл. Соловьев прямо писал: Спиноза «был моею первою любовью в области философии» (IX, 3). Картезианство Вл. Соловьев, конечно, осуждает за абсолютизацию человеческого субъекта, каковая «ложь» осталась в картезианстве, «несмотря на благородные попытки преодолеть ее, сделанные Мальбраншем и Спинозой» (IX, 163). Значит, не только философию Спинозы, но, оказывается, уже и философию Мальбранша Вл. Соловьев считает «благородной».
Наконец, об его прямых симпатиях к Шопенгауэру й Э. фон Гартману мы уже говорили выше. В этих соловьевских увлечениях Кантом, Гегелем, Шеллингом, Шопенгауэром и Гартманом уже ровно ничего славянофильского не было. Поэтому взгляд Вл. Соловьева на всю западную философию как на некоторого рода одностороннюю, но все же достаточно широкую и уже исторически необходимую стадию развития человеческого мышления является чисто соловьевским, а не славянофильским. Поэтому и вся западная философия, пришедшая, по Вл. Соловьеву, к своему кризису, – это весьма ценный период философского развития, который должен быть не просто отброшен, но глубочайшим образом использован. Тут уже совсем нет ничего славянофильского.
Вообще относительно взглядов Вл. Соловьева на славянофильство необходимо сказать, что последнее он понимает в разном смысле, почему и отношение его к нему весьма разнообразное. А. Ф. Кони хорошо поступает, различая в славянофильстве по крайней мере три исторических этапа, которые и заставляют Вл. Соловьева относиться к славянофильству различно. К первой стадии славянофильства Вл. Соловьев относится хотя и отрицательно, но с признанием в нем многих сторон, близких и ему самому. На второй стадии славянофилы, согласно соловьевскому отношению к ним в изложении А. Ф. Кони, стали уже идолопоклонствовать перед русским народом вместо своего прежнего учения о носительстве правды Божией в русском народе. В данном случае также и отношение Вл. Соловьева к славянофилам значительно ухудшилось. На третьей стадии славянофильство преклоняется уже перед историко–бытовыми аномалиями русского народа. Вторая и третья стадии развития вызывали у Вл. Соловьева «крайне суровые, негодующие строки, звучащие полным разрывом с современными ему сочинениями славянофилов» [200]200
Кони А. Ф. Очерки и воспоминания. СПб., 1906. С. 212—215.
[Закрыть].
Из этого видно, что отношение Вл. Соловьева к славянофильству является чрезвычайно сложной проблемой, которая включает и такие, например, вопросы, как расположенность Вл. Соловьева к Хомякову и И. Аксакову при отрицательном отношении к славянофильству вообще.
2. Учение о еврействе и о поляках.В свете известной внутренней двойственности мироощущения Вл. Соловьева в 80–е годы необходимо рассматривать и его многочисленные труды по национальному вопросу. Их анализ не входит в нашу задачу, но упомянуть о них необходимо, тем более что все национальные вопросы он всегда рассматривал в связи как со своими религиозными, так и со своими общефилософскими убеждениями.
Прежде всего обращают на себя внимание глубокие размышления Вл. Соловьева о мировом значении еврейства.В работе «Еврейство и христианский вопрос» (1884) ставятся и решаются такие кардинальные вопросы, как то: почему Христос появится в среде еврейского народа (IV, 142—150), почему еврейство его отвергло (IV, 150—159) и почему в конце истории Христос и все иудейство должны объединиться в одно целое (IV, 160—185). Тут довольно выразительно говорится о монотеизме древнееврейского народа, резко отличавшем его от всего окружающего язычества, о личных отношениях древнееврейского народа к своему божеству, о неполноте последующего развития евреев и об окончательном торжестве еврейства, примирившегося со своим божеством через Христа.
По мнению В. Л. Величко, Вл. Соловьев в частных беседах вел себя гораздо проще и понятнее, чем в своих печатных работах об евреях. Он, например, вовсе не отрицал недостатков еврейского народа, а только требовал человеколюбивого и воспитательного отношения к этим недостаткам. В разговоре с одним антисемитом он однажды сказал: «Яне отрицаю ни еврейских недостатков, ни необходимости их устранения. Но так как попытки лечения этих недугов посредством вражды, насмешек или ограничений достигали результата противоположного, то, стало быть, надо действовать иначе» [201]201
Величко В. Л. Указ. соч. С. 93.
[Закрыть]. В отношении евреев он требовал от христиан только выполнения основной для них заповеди о любви, и больше ничего. «Вряд ли можно отрицать благотворное воздействие таких явлений, как Владимир Соловьев: пламенный христианин, горячий ревнитель христианской правды в человеческих отношениях, внушающий евреям безграничное доверие и любовь к нему, а через него и к тому животворящему началу, которое было основой и смыслом его жизни» [202]202
Величко В. Л. Указ. соч. С. 97.
[Закрыть].
В этой же самой статье «Еврейство и христианский вопрос» обращает на себя внимание и глубокая оценка польской национальности. Будучи противником всякого национального насилия над поляками, Вл. Соловьев в то же время упрекает поляков в том, что они не понимают своей провиденциальной роли быть связующим звеном между православием и Римом. Весь смысл разбираемой статьи, кажется, только и заключается в том, что основой будущей вселенской теократии будут евреи и поляки. Вл. Соловьев пишет: «Наступит день, и исцеленная от долгого безумия Польша станет живым мостом между святыней Востока и Запада. Могущественный царь протянет руку помощи гонимому первосвященнику» (ГѴ, 182—183).
Об отношении Вл. Соловьева к полякам хорошо говорит В. Л. Величко: «Стороннику вселенского объединения еще важнее был религиозный мотив сочувствия к полякам: он чуял и призывал всеми силами души возможность положить начало соединению церквей именно сперва в недрах славянской семьи. Он считал, с русской и общеславянской точек зрения, тяжкими преступлениями грубость и недомыслие, а тем паче предвзятую вражду по отношению к Польше… Особенно волновали его малейшие факты, в которых была хоть тень стеснения веры и языка. Если он сочувствовал какой‑либо автономии Польши, то именно религиозной и культурной, а на политические вопросы смотрел как на нечто третьестепенное. Его симпатия носила характер не только отвлеченного искания правды в междуплеменной политике, но и родственной любви. Когда я однажды заметит ему, что и некоторые старые славянофилы, и позднейший редактор славянофильского исповедания Н. Я. Данилевский, и, наконец, даже кое–какие смелые националисты новейшей формации относятся к полякам не хуже, чем он сам, и поднимают вопрос о необходимости справедливо и дальновидно с точки зрения общеславянской устроить судьбу польского народа, – Владимир Соловьев отвечал:
– Да, все это так, но во всем этом нет главного.
– Чего же?
– Любви! А она‑то и нужнее всего в таких вопросах, она дает и понимание меры вещей, и чуткость, и все вообще главные условия успеха…» [203]203
Там же. С. 90–91.
[Закрыть]
Вернемся к еврейству. «Природа с любовью подчинится человеку, и человек с любовью будет ухаживать за природой. И какой же народ более всех способен и призван к такому ухаживанию за материальной природой, как не евреи, которые изначала признавали за ней право на существование и, не покоряясь ее слепой силе, видели в ее просветленной форме чистую и святую оболочку божественной сущности?» (IV, 185). Это учение Вл. Соловьева отличается больше своей систематичностью, чем убедительностью.


