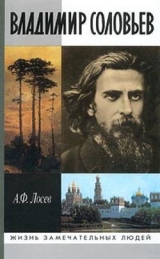
Текст книги "Владимир Соловьев и его время"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 48 страниц)
Само собой разумеется, Вл. Соловьев – самый принципиальный и закоренелый противник всякого рабства и всякой основанной на нем социальной системы. Крепостничество для него есть не что иное, как разновидность рабовладения. Используя русское народное выражение «ни богу свечка, ни черту кочерга», он считает крепостничество самой настоящей «чертовой кочергой» (IX, 171), так что освобождение крестьян было для Вл. Соловьева буквально новой эрой.
Но если из этого кто‑нибудь сделает вывод, что философ положительно относился к так называемому «третьему сословию», то он очень ошибется, потому что это сословие для Вл. Соловьева есть тоже сословие рабов, но только не тех смиренных рабов, которые были раньше, а рабов нового типа, уже «несмиренных» (VII, 73).
В конце концов его поиски подлинного прогресса в характеристиках многочисленных исторических явлений производят иной раз удручающее впечатление. Этот мыслитель, создавший теорию всеединства и мечтавший всю жизнь о конечном торжестве универсального добра, был жесточайшим образом оскорбляем непреложностью фактов в своих постоянных занятиях историей. Когда мы читаем статью Вл. Соловьева, посвященную характеристике его отца, то, оказывается, уже С. М. Соловьев оценивал свою современность с безнадежным и горьким чувством. Даваемая здесь картина разложения, и в частности духовенства, прямо напоминает Помяловского. Даже известный митрополит Филарет в «Записках» С. М. Соловьева, которые цитирует Вл. Соловьев в данной статье, не выдерживает никакой критики, и образ его вызывает у нас самое тяжелое впечатление (VII, 361—368). И это дается наравне с признанием исторических заслуг православия (VII, 368—370).
Тот период русской истории, современником которого был сам Вл. Соловьев, тоже оценивается им как тусклое и тяжкое безвременье, нравственная сила которого дошла до «круглого нуля»: «Заглядывая в душу нашего общества, не увидишь там ни ясного добра, ни ясного зла»… «Такие тусклые моменты – отсрочки для суда истории. Провидение как будто выжидает и безмолвствует» (IX, 171).
Можно ли после всего этого удивляться, что такой всегда добрый и оптимистически настроенный, даже восторженный прогрессист в конце концов пришел к отрицанию всякого прогресса и, как мы увидим немного ниже, прямо к эсхатологии, к ожиданию конца мира и страшным апокалипсическим картинам? В сентябре 1900 года, через месяц после кончины Вл. Соловьева, было напечатано его письмо в редакцию «Вестника Европы», написанное, очевидно, незадолго до смерти: «Ходячие теории прогресса – в смысле возрастания всеобщего благополучия при условиях теперешней ^земной жизни – кн. С. Н. Трубецкой справедливо называет пошлостью. Со стороны идеала это есть пошлость, или надоедливая сказка про белого бычка; а со стороны предполагаемых исторических факторов – это бессмыслица, прямая невозможность». «Что современное человечество есть больной старик и что всемирная история внутренне кончилась —это была любимая мысль моего отца» (X, 225).
Если мы хотели рассмотреть русский классический идеализм накануне мировой катастрофы, то, казалось бы, для такой характеристики уже достаточно приведенных у нас материалов. Фактически, однако, Вл. Соловьев переживал конец истории еще более жутко, как это будет показано у нас ниже в связи с его апокалипсической настроенностью. Тут даже все люди, не верующие в апокалипсис, должны будут признать, что Вл. Соловьев до последней глубины ощутительно переживал конец своего времени, хотя этот конец представлялся ему как искреннему идеалисту–мистику в виде пришествия Антихриста.
Предложенное выше у нас изображение философско–исторической проблематики Вл. Соловьева в 90–е годы не содержит ни одного имени какого‑нибудь ученого–историка, против которого бы специально восставал Вл. Соловьев. Но это обстоятельство в еще более острой форме рисует его отношение к тогдашним историкам по вопросу о прогрессе. Как он сам говорит, вся тогдашняя историческая наука, лишенная религиозно–философской основы, есть только пошлость. Поэтому отсутствие критикуемых историков делает расхождение Вл. Соловьева с историками еще более острым и безнадежным. Туг же, однако, мы должны сделать и еще одно замечание, с виду противоположное тому, что мы сейчас сказали о соловьевских взглядах на философию прогресса, но, с другой стороны, удивительным образом находившее у него полную совместимость с ее принципиальной настроенностью.
3. Общее отношение Вл. Соловьева к критикуемым им авторам.
До последнего дня своей жизни Вл. Соловьев необычайно интересовался текущей философией, да и вообще мировоззрением второй половины века. Необходимо сказать, что личность Вл. Соловьева как литератора, публициста и критика рисуется в чрезвычайно объективных, всегда справедливых и честных тонах, часто переходивших в какое‑то добродушное, благожелательное и симпатизирующее отношение, граничившее иной раз с настоящим юмором. Усвоить этот светлый и простой, всегда дружеский и оптимистический стиль философа, умевшего любые глубины представлять в простом виде, совершенно необходимо всякому, кого интересует подлинный его лик, не искаженный никакими предрассудками.
Например, популярный в те времена В. Вундт строил абстрактную метафизику, вполне чуждую Вл. Соловьеву. Несмотря на это, последний считает экспериментальную психологию В. Вундта методологически вполне обоснованной (VII, 177). Вл. Соловьев всегда был врагом либерально–буржуазных методов мысли. Но не только при обсуждении Н. Кареева (VI, 373), но и П. Милюкова (VI, 423—428) у него нашлись сочувственные выражения.
Профессор Московского университета М. М. Троицкий увлекся английским эмпиризмом, как об этом мы уже говорили выше, и неуклонно проповедовал его в течение многих лет. Из‑за этого М. М. Троицкого Вл. Соловьев в 1876 году даже оставил преподавание в Московском университете и переехал в Петербург. В настоящее время труды М. М. Троицкого производят вполне мертвенное впечатление, о чем, между прочим, говорит и сам Вл. Соловьев, отмечая у того исчерпание «духовного капитала», «догматическую форму», «малосодержательные отвлеченные положения», уподобление «стоячей воде» (IX, 381—382). И, несмотря на все это, он все‑таки приходит к выводу о большом значении Троицкого в истории нашего философского образования наряду с такими авторами, как Н. Я. Грот и П. Д. Юркевич, которым он сочувствовал уже по существу (IV, 397).
В той же статье 1900 года «Три характеристики», из которой мы сейчас почерпнули мысли о М. М. Троицком, содержатся также разделы о Н. Я. Гроте и П. Д. Юркевиче.
С П. Д. Юркевичем мы уже встречались выше, поскольку он был профессором философии Московского университета в годы студенчества Вл. Соловьева и поскольку последний был избран доцентом на место П. Д. Юркевича после его смерти. Что касается Н. Я. Грота, то в противоположность «неподвижности и замкнутости садового пруда или аквариума» – М. М. Троицкого – Вл. Соловьев увидел в нем и горячо почувствовал его вечное искание истины, постоянные переходы от одной проблемы к другой и его неизменный философский энтузиазм в поисках окончательных формулировок (IX, 386—391). Эта характеристика Н. Я. Грота выражена у Вл. Соловьева в тонах горячего восторга и неизменной симпатии, несмотря на то, что ввиду разных жизненных обстоятельств Н. Я. Грот в смысле печатной продукции оказался писателем весьма малоплодовитым.
Своего учителя П. Д. Юркевича Вл. Соловьев глубочайше любил. В разделе, посвященном ему (IX, 391—396), он находит в нем, в противоположность М. М. Троицкому, «свободный эмпиризм‚ включающий в себя и все истинно-рациональное, и все истинно–сверхрациональное, так как и то и другое, прежде всего, существует эмпирически в универсальном опыте человечества с неменьшими правами на признание, чем все видимое и осязательное». Излагая мнение П. Д. Юркевича, Вл. Соловьев пишет: «…он… объяснял мне, что здравая философия была только до Канта и что последними из настоящих великих философов следует считать Якоба Бёма, Лейбница и Сведенборга. От Канта же философия начинает сходить с ума, и это сумасшествие принимает у Гегеля неизлечимую форму мании величия». «Некоторое возвращение к здравому смыслу видел он у Шопенгауэра – не в его метафизической системе, которая была лишь сбором противоречий, а в отдельных, преимущественно этических, указаниях на значение симпатии и особенно аскетизма, которому Юркевич всегда давал очень высокую цену». Из всего этого очерка Вл. Соловьева необходимо все же заключить, что его симпатия к П. Д. Юркевичу безгранична.
О П. Д. Юркевиче Вл. Соловьев писал еще в 1874 году, вскорости после его смерти, еще в период прохождения своей магистерской диссертации. В Полном собрании сочинений эта статья называется «О философских трудах П. Д. Юркевича» (I, 171—196). Она написана в весьма почтительных и проникновенных тонах, но без всякого преувеличения и только на основании фактов. Некоторой новостью является лишь сообщение Вл. Соловьева в конце статьи об увлечении П. Д. Юркевича тогдашними спиритическими воззрениями, хотя сам Вл. Соловьев при всем почтении к Юркевичу высказывается о спиритизме весьма сдержанно, а иногда, как это мы уже знаем, и весьма отрицательно.
Если оставить в стороне вполне понятное для нас нежелание Вл. Соловьева критиковать макулатуру (VI, 374) или снисходительное отеческое отношение к слишком молодому легковерию и наивной фантастике (VII, 173), то из философов, ставших в свое время модой, а у Вл. Соловьева заслуживших только презрение, необходимо указать на вульгарного материалиста Л.Бюхнера, хотя он признает, что «догматическая метафизика материализма» для элементарных умов всегда будет иметь значение (IX, 372). Этот материализм Вл. Соловьев не считает нужным критиковать потому, что он основан на недоказуемом вероучении и на пустейшей элементарности.
Немного больше заслуживает критики у Вл. Соловьева тоже модная в те времена теософия Блаватской. Теоретически вся эта теософия есть для него только жалкое самообожествление (VI, 288). Практически же это просто шарлатанство, хотя благодушный Вл. Соловьев не возражает, что, может быть, и в теософии есть нечто положительное (VI, 398). Телепатия (VII, 63) и медиумизм (VII, 110—112), если как-нибудь и возможны, то ни с какой стороны не допускают научного экспериментального к себе подхода, а это уже делает их для него весьма сомнительным предприятием.
Марксизм был известен Вл. Соловьеву только в виде экономической доктрины; и потому он считал, что учение Маркса «делает из человека ничтожное колесо огромной экономической машины» (IX, 290). Однако едва ли можно здесь в чем‑нибудь упрекать Вл. Соловьева. Ведь в XIX веке марксизм был в России весьма малопопулярной и совсем неизвестной теорией. Таким образом, для понимания места Вл. Соловьева среди мыслителей 90–х годов необходимо иметь в виду, что для него и здесь, как, впрочем, часто и раньше, весьма характерно совмещение строжайшей принципиальности в оценке мыслителей и в то же время необычайно благодушного, дружелюбного и незлобивого отношения к критикуемым им авторам.
4. Вл. Соловьев и Л. Н. Толстой [386]386
Более подробно о литературном окружении Вл. Соловьева см.: Лосев А. Ф. Вл. Соловьев и его ближайшее литературное окружение // Литературная учеба. 1987. № 3. С. 151–164; № 4. С. 159–168.
[Закрыть] .
В отношении Л. Н. Толстого добродушное и задушевное настроение Вл. Соловьева сказалось меньше всего ввиду слишком большого расхождения обоих мыслителей.
Льва Толстого он определенно не любил. Для толстовства человек является «инструментом, предназначенным к осуществлению отрицательных нравственных правил» (IX, 290). Отвлеченную моралистику Л. Толстого, как мы увидим ниже, он критикует в «Трех разговорах». Собственно говоря, Вл. Соловьев даже и в отдаленном смысле слова едва ли мог найти общий язык с Л. Н. Толстым. Хотя последний и называл себя христианином, вся его идеологическая деятельность была направлена на разрушение авторитета Евангелий, на выхолащивание из них всего чудотворного и вообще богословского и даже на доходящую до прямой ругани критику догматического богословия в целом. Многие его выражения издателям приходилось заменять многоточием. Добродушие Вл. Соловьева все же приводило к какому‑то, пусть внешнему, знакомству обоих писателей. В том, что эта связь с Л. Толстым в один прекрасный день погибла целиком, нет ничего удивительного, потому что настоящей связи‑то, собственно говоря, никогда и не было. Вот некоторые биографические факты, к сожалению, не очень интересные для характеристики Вл. Соловьева.
То, что Вл. Соловьев достаточно часто виделся с Л. Толстым уже в 1881 году, видно из некоторых беглых упоминаний в письмах Вл. Соловьева к Н. Н. Страхову от того же года [387]387
Соловьев Вл.Письма. Т. I. С. 10, 12.
[Закрыть]. В 1882 году (точной даты нет) Вл. Соловьев писал И. С. Аксакову: «Л. Толстому я ничего не мог отдать, так как уже давно с ним не видаюсь, и он для меня „яко язычник и мытарь“» [388]388
Соловьев Вл.Письма, 1923. С. 15.
[Закрыть]. 2 марта 1884 года он пишет Н. Н. Страхову: «С тем, что вы пишете о Достоевском и Л. Н. Толстом, я решительно не–согласен.Некоторая непрямота или неискренность (так сказать, сугубость) была в Достоевском лишь шелухой, о которой Вы прекрасно говорите, но он был способен разбивать и отбрасывать эту шелуху, и тогда оказывалось много настоящего и хорошего. А у Л. Н. Толстого непрямота и неискренность более глубокие, – но я не желаю об этом распространяться…» [389]389
Соловьев Вл.Письма. Т. I. С. 18.
[Закрыть]
В другом письме к тому же Н. Н. Страхову того же года читаем: «На днях прочел Толстого "В чем моя вера". Ревет ли зверь в лесу глухом?» [390]390
Там же. С. 21.
[Закрыть]
По поводу какого‑то неизвестного нам поступка Л. Толстого Вл. Соловьев писал к А. Ф. Аксаковой 27 ноября 1887 года: «Позавчера мне был нанесен замечательный визит – а именно Л. Толстым, который принес мне свои извинения за некоторые странные поступки. Придется идти к нему и соблюдать осторожность» [391]391
Цит. по: Соловьев С. М. Указ. соч. С. 327.
[Закрыть]. Какая бы ни была в данном случае причина посещения Вл. Соловьева ЈТ. Толстым, холодность Вл. Соловьева в этом письме весьма заметна. В 1887 году произошло даже какое‑то примирение Вл. Соловьева с Л. Толстым, вероятно, не очень глубокое. В письме к Н. Н. Страхову от 5 декабря 1887 года он писал: «Однако я заболтался и чуть было не забыл сообщить Вам важное известие: я вполне примирился с Л. Н. Толстым; он пришел ко мне объяснить некоторые свои странные поступки, а затем я у него провел целый вечер с большим удовольствием, и если он всегда будет такой, то буду посещать его» [392]392
Соловьев Вл.Письма. Т. I. С. 44.
[Закрыть].
Полное пренебрежение Вл. Соловьева к Л. Толстому чувствуется тут же вскорости в письме к Фету от 21 августа 1888 года: «А что поделывает его [Страхова] идол? Через француза Вопоэ слышал я, что он пишет роман о вреде любви…Как жаль, что я не имею литературного таланта. Недавно меня обсчитала содержательница отеля. Вот бы прекрасный случай написать поэму о вреде гостиниц» [393]393
Там же. Т. III. С. 118.
[Закрыть] .
К 1891 году относятся несколько важных высказываний Вл. Соловьева о Л. Толстом. В статье начала этого года «Идолы и идеалы» (V, 366—401) он беспощадно критикует толстовскую теорию опрощенства; но видно, что он здесь пока еще не хочет вступать с ним в открытую полемику, хотя полемика между ними, безусловно, давно назрела. Здесь мы читаем: «Проповедь опрощения связывается обыкновенно с именем графа Л. Н. Толстого; но, помимо правдивого изображения и обличения нашей общественной и семейной жизни, воззрения знаменитого писателя за последние 15 лет его деятельности представляют, так сказать, лишь "феноменологию" его собственного духаи в этом смысле имеют, конечно, значительный интерес, но не подлежат опровержениям. Поэтому я не желал бы, чтобы последующие замечания были приняты за полемику против славного романиста, который не может отвечать за то, что другие выводят из субъективных излияний его артистической натуры» (V, 375).
Вл. Соловьев додумывает теорию опрощения до ее логического конца и приходит к выводу, что таким концом является буддийская нирвана, которая никогда не была приемлема для Вл. Соловьева, всегда признававшего (хотя не без критики) огромное значение западной цивилизации.
В той же статье он пишет: «Всего лучше основная мысль наших упростителей выражена в гениальном рассказе гр. Л. Н. Толстого "Три смерти". Здесь представлено, как умирают: культурная барыня, мужик и дерево. Барыня умирает совсем плохо, мужик значительно лучше, и еще гораздо лучше дерево. Это происходит, очевидно, оттого, что жизнь мужика проще, чем жизнь барыни, а дерево живет еще проще, чем мужик. Но если из этого несомненного факта можно выводить какое‑нибудь нравственно–практическое следствие, отождествляя простоту с высшим благом, то зачем же останавливаться на мужике, а не доходить до дерева, которое проще мужика, или еще лучше – до камня, который так прост, что даже совсем не умирает. А всего проще, конечно, чистое небытие, – недаром наши упростители стали в последнее время оказывать особую склонность к буддизму…» (V, 383—384).
Насколько толстовское опрощенчество внутренне было совершенно неприемлемо для Вл. Соловьева и насколько оно готовило полный разрыв с ЈТ. Толстым, видно из письма Вл. Соловьева Н. Я. Гроту от 9 августа того же 1891 года: «В конце августа буду в Москве непременно. Но к Толстому не поеду: наши отношения заочно обострились вследствие моих "Идолов", а я особенно теперь недоволен бессмысленной проповедью опрощения, когда от этой простоты сами мужики с голоду мрут» [394]394
Соловьев Вл.Письма. Т. I. С. 71.
[Закрыть](заметим, что в 1891 году в России был большой голод).
Уже совсем резко Вл. Соловьев отзывается о Л. Толстом М. М. Стасюлевичу, замечая по поводу смерти Гончарова в письме от 20 сентября 1891 года: «Вот и предпоследнего корифея русской литературы не стало. Остался один Лев Толстой, да и тот полуумный» [395]395
Соловьев Вл.Письма, 1923. С. 54.
[Закрыть]. Но даже и при таком резком расхождении с Л. Толстым Вл. Соловьев все еще не теряет надежды на примирение с ним. 8 мая 1894 года он писал тому же М. М. Стасюлевичу из Москвы: «Здесь много видался с Толстым и толстовцами, из которых некоторые, более способные, начинают от его полубуддизма переходить к христианству в моем смысле; не теряю надежды и относительно его самого» [396]396
Там же. С. 65.
[Закрыть].
Для объективного добродушия и благожелательности Вл. Соловьева характерно то, что в письме к Л. Н. Толстому от 5 июля 1894 года он сообщает ему о двух своих ближайших намерениях. Во–первых, Вл. Соловьеву хотелось сформулировать пункты расхождения с Л. Толстым, а во–вторых, составить хрестоматию из произведений Л. Толстого [397]397
Соловьев Вл.Письма. Т. III. С. 37.
[Закрыть]. Это значит, что отрицательные стороны мировоззрения Л. Толстого не мешали Вл. Соловьеву видеть в нем нечто положительное, причем это положительное расценивалось им настолько высоко, что могло бы даже дать материал для хрестоматии. Ни то, ни другое намерение не осуществилось. Однако, по крайней мере для себя и для Л. Толстого, основной пункт их разногласий он все же сформулировал в большом письме от 28 июля – 2 августа того же года.
Основной пункт своего расхождения он формулирует, с одной стороны, весьма остро и принципиально, а с другой – все же с надеждой найти у Л. Толстого и примирительные моменты по этому поводу. Он пишет: «Все наше разногласие может быть сосредоточено в одном конкретном пункте – воскресении Христа. Я думаю, что в Вашем собственном миросозерцании (если только я верно понимаю Ваши последние сочинения) нет ничего такого, что мешало бы признать истину воскресения, а есть даже нечто такое, что заставляет признать ее» [398]398
Там же. С. 38.
[Закрыть].
Аргументация Вл. Соловьева о воскресении Христа, направленная по адресу ЈТ. Толстого, производит весьма слабое и беспомощное впечатление, если не прямо смешное.
Ведь Л. Толстой с самого начала исключил из христианства все сверхъестественное и чудотворное, оставивши в нем только учение о нравственности. Какие же могут здесь быть аргументы о воскресении Христа? Тем не менее наивный Вл. Соловьев думает, что такому натуралисту и позитивисту, как Л. Толстой, можно доказывать существование чего‑нибудь чудесного. Он формулирует три пункта, которые, с его точки зрения, должны сделать для Л. Толстого воскресение Христа чем‑то очевидным и понятным.
Согласно первому пункту, сам же Л. Толстой якобы признает постепенное восхождение жизни от менее совершенных форм ко все более и более совершенным. Но для человека, который с самого начала не допускает никакой возможности богочеловечества, такой аргумент, конечно, ровно ничего не говорит. Такое же слабое значение имеет и указание Вл. Соловьева на признаваемое Л. Толстым «взаимодействие между внутренней, духовной жизнью и внешней, физической» [399]399
Соловьев Вл. Письма. Т. III. С. 38.
[Закрыть]. На это последнему очень легко ответить, что, как бы он духовно ни развивался, он никогда не станет богом, да еще и неизвестно, стоит ли это делать. Согласно третьему аргументу Вл. Соловьева, духовное и высшее в конце концов может подчинить себе все материальное и низшее [400]400
Там же.
[Закрыть]. Так, вероятно, думал и сам Л. Толстой. Но что общего имеет это с учением Вл. Соловьева о богочеловечестве и воскресении Христа?
Далее читаем: «Если под чудом разуметь факт, противоречащий общему ходу вещей и потому невозможный, то воскресение есть прямая противоположность чуду – это есть факт, безусловно необходимый в общем ходе вещей; если же под чудом разуметь факт, впервые случившийся, небывалый, то воскресение "первенца из мертвых" есть, конечно; чудо – совершенно такое же, как появление первой органической клеточки среди неорганического мира, или появление животного среди первобытной растительности, или первого человека среди орангутанов. В этих чудесах не сомневается история, так же несомненно и чудо воскресения для истории человечества» [401]401
Там же. С. 39–40.
[Закрыть]. Нам кажется, что Вл. Соловьев преувеличивает наличие у Л. Толстого такого грандиозного чувства историзма. Ведь те ступени исторического развития, о которых он говорит здесь, требуют от историка понимания необходимости универсальных исторических скачков. Но к этому едва ли была способна толстовская идеология патриархального крестьянства, никуда не шедшего дальше бороны и сохи, пилы или топора.
В указанном втором письме к Л. Толстому содержится ответ на одно его возражение, которое незадолго перед этим было высказано им в разговоре с Вл. Соловьевым. Л. Толстой говорил, что упование на сверхъестественного Христа сделает людей слишком ленивыми и беззаботными, а их моральную активность ненужной. На это Вл. Соловьев возражает: «Так как на самом деле Христос, хотя и воскресший, ничего окончательного для нас без нас самих сделать не может, то для искренних и добросовестных христиан никакой опасности квиетизма тут быть не может» [402]402
Там же. С. 42.
[Закрыть].
О натянутых отношениях Вл. Соловьева с Л. Толстым и даже с его домом можно судить по одному эпизоду, о котором сообщает В. Л. Величко. Однажды, весной 1894 года, Вл. Соловьев и В. Л. Величко посетили Толстых в Хамовниках. «Общество как‑то само собой разделилось тогда на три кружка: первый составляла группа лиц, беседовавших с хозяином дома и споривших по вопросу о непротивлении злу; второй состоял из светских дам и мужчин с графиней Софьей Андреевной во главе и третий – бойкая молодежь. Владимир Соловьев вошел вместе со мной и, невзирая на оказанный ему чрезвычайно милый и нежный прием, сразу впал в какое‑то мрачное безмолвие, точно окаменел. Я уже близко знал его в ту пору и сразу почувствовал, что ему не по себе… Помолчав в первом кружке и обменявшись несколькими незначительными словами во втором, он примкнул к третьему, а затем потихоньку ушел» [403]403
Величко В. Л. Владимир Соловьев. Жизнь и творения. С. 129.
[Закрыть].
Невозможность для Вл. Соловьева оставаться на одной принципиальной почве с Л. Толстым ясна сама собой. Вл. Соловьев не мог переварить толстовского учения об абстрактном и безличном божестве, о добре как тоже безличной категории, равно как и толстовского исключения из Евангелий всего чудесного и мифологического, непризнания ни заповедей, ни восточной цивилизации, опрощенства и непротивленчества и всей этой мистики рисовых котлеток с отрицанием всякого прогресса и с ограничением себя неподвижной идеологией патриархального крестьянства. Окончательный разрыв между двумя мыслителями произошел в середине 90–х годов, но подлинного единения у них, собственно говоря, никогда и не было, несмотря на дружеские усилия Вл. Соловьева. Можно только пожалеть, что он потерял столько времени на безнадежное дело примирения с Л. Толстым. Окончательный разгром толстовства мы находим в «Трех разговорах», где в третьем разговоре изображен спорщик, как раз проповедующий абстрактную толстовскую мораль. Беспомощность и ничтожество толстовского морализма даны здесь и логически–выпукло, и художественно-наглядно (X, 174–190) [404]404
Ср.: Потехин С.Критика толстовства В. С. Соловьевым // Миссионерское обозрение. 1901, январь. Кн. I‑II.
[Закрыть].


