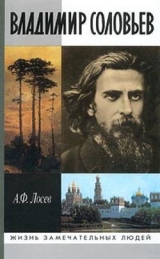
Текст книги "Владимир Соловьев и его время"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 48 страниц)
МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ЛИЧНОСТЬ
1. Общее мировоззрение
Вопрос о личности Вл. Соловьева возникает сам собою, после того как мы ознакомились с основными чертами его биографии и его творчества. Многочисленные данные по этому вопросу настолько сложны и разнообразны, что на первых порах представляется более легким отвечать не на вопрос о том, кто такой был Вл. Соловьев, а на вопрос, кем он не был. Думается, исключение из всех этих односторонностей должно было сыграть большую роль в характеристике Вл. Соловьева с точки зрения ее существенного содержания.
1. Кем не был Вл. Соловьев?В обычных представлениях и изложениях Вл. Соловьев трактуется прежде всего как философ. И это правильно, но правильность эта чрезвычайно ограниченна. В ранней молодости он действительно написал две диссертации на чисто философские темы, а в конце жизни также вернулся к вопросам теоретической философии. Но, во–первых, прошло много лет (по преимуществу это 80–е годы), в течение которых он совсем не занимался теоретической философией. Во–вторых, и в своих теоретических трудах он никогда не был только философом, а признавал такое цельное знание, которое выше и синтетичнее всякой философской теории. В–третьих, он отдавал огромное время как вопросам конфессионального характера, так и художественной литературе, не говоря уже о том, что и сам был поэт достаточно высокого ранга. В–четвертых, наконец, в строго академическом смысле Вл. Соловьев был философом всего каких‑нибудь 3—4 года, после чего он ушел из университета раз и навсегда и вообще не выносил строгого академизма.
Далее, его обычно считают религиозным мыслителем. И это тоже правильно, но опять‑таки чудовищно односторонне. Не говоря уже о том, что даже по своей профессии он был прежде всего публицистом и художественным критиком, он и в своих философских трудах, и в своей публицистике исходил из принципа полной свободы человеческого разума.Этот свободный разум, правда, почти всегда приходил у него к выводам чисто религиозного типа. Но при этом надо помнить, что на первом плане у Вл. Соловьева была только логическая аргументация. Что же касается религии в практически бытовом смысле, то Вл. Соловьев был здесь далеко не на высоте и мало от этого удручался. В Оптиной Пустыни он один раз был, но никаких особенных чувств к ней не стал питать. С монахами на Валааме он прямо рассорился. Сестра Вл. Соловьева Мария пишет в своих воспоминаниях: «Брат вообще в церковь за редким исключением почти никогда не ходил, но Пасхальную ночь редко и дома оставался; когда бывал в Москве, обыкновенно отправлялся в Кремль» [502]502
Безобразова М. С. Воспоминания о брате Владимире Соловьеве. С. 164.
[Закрыть]. В другом месте она пишет: «И вот мне в эту Пасхальную ночь представилось, что, может быть, у брата сомненья не потому, что он объявил, что никуда не отправится, а потому, каким мрачным тоном он это сказал и какой сам весь этот день был мрачный. – "Когда такверишь в Христа, нельзя быть таким мрачным в великую субботу", – думала я, – «значит, у него опять сомненья», и делалось очень тяжело за брата. Вернувшись от утрени, я, громко напевая только что слышанные напевы, и вся в совершенно особом, пасхально–восхищенном настроении, забыв все на свете, бросилась, как сумасшедшая, через все комнаты в заднюю часть дома, чтобы похристосоваться с прислугой, оттуда опять в переднюю: забыла яйца и кошелек в карманах пальто. Ищу и громко пою, безудержно; хлопнула дверь из комнаты брата, идет… Оборачиваюсь к нему, протягиваю руки.
– Христос!.. – И вдруг вспомнила, осеклась. Брат взял мою руку.
– Ты хотела сказать: "Христос воскрес" и почему‑то остановилась… Ну, я отвечаю тебе: воистину воскрес! – И, нагнувшись, поцеловал меня трижды.
А когда все собрались в столовой разгавливаться, брат пришел и не был более мрачен, напротив, совсем светел, только очень тих» [503]503
Там же. С. 164–165.
[Закрыть]. Из всех подобного рода биографических данных следует, что в религиозно–бытовом смысле Вл. Соловьев чувствовал и вел себя довольно свободно.
Однако и в теоретическом плане он отнюдь не был безусловно устойчив. Как известно, византийско–московское православие он считал язычеством. Римский католицизм одно время он чрезвычайно превозносил, но в последнее десятилетие своей жизни явно к нему охладел. При этом ни православного, ни католического культа он все же не отрицал и определенно участвовал в том и в другом почти одновременно. Об его протестантских симпатиях мы тоже знаем из предыдущего. Он мечтал о соединении церквей; но на каких путях оно могло бы произойти, об этом ясных свидетельств у Вл. Соловьева не имеется. А в своей эсхатологии он соединяет в одно целое не только три христианских вероисповедания, но еще и «евреев», причем опять‑таки не очень понятно, каких евреев он имеет в виду. Таким образом, хотя религиозность Вл. Соловьева и вполне несомненна, ее исторический характер остается для нас неясным.
Вл. Соловьев был публицист, и притом довольно либерального, если не прямо левого направления. Чернышевского он почитал и многими его идеями в буквальном смысле пользовался. Но назвать его революционным демократом совершенно невозможно. То же самое нужно сказать и о литературно–критической деятельности Вл. Соловьева. Он, несомненно, литературный критик и вполне в профессиональном смысле слова. Но отнести его к левым или правым представителям тогдашней литературной критики тоже очень трудно. Для правых он отличался слишком большим свободомыслием, а левых отталкивал своей религиозно–философской настроенностью.
Вл. Соловьев, несомненно, социально–исторический мыслитель и даже исследователь. Но и в этой области позиция его чрезвычайно свободомыслящая. Было время, когда ему запрещалось печататься; и тогда он печатался за границей и костил режим Победоносцева и Дмитрия Толстого. С другой стороны, в своих письмах царям он называл их хранителями веры и убеждал помиловать народовольцев.
Таким образом, ни одна из традиционных характеристик личности Вл. Соловьева в настоящее время не может считаться более или менее достаточной, и здесь требуются какие‑то более глубокие подходы.
2. Вл. Соловьев «мистик».Прежде всего нам хотелось бы отдать себе полный отчет в том, как нужно понимать обычную характеристику Вл. Соловьева как мистика.
Как мы видели выше, под мистицизмом Вл. Соловьев понимает просто цельное знание, а цельное знание он понимает как слияние внутренней жизни действительности с ее внешними проявлениями. В более развитом виде под мистицизмом он понимает просто учение о всеединстве. И это всеединство он трактует в очень простой и ясной форме. В самом деле, кто же осмелится сказать, что мир не един, и кто осмелится сказать, что вещь не есть вещь? Далее, кто же осмелится сказать, что вещь есть только механическая сумма составляющих ее свойств и что не существует никакого носителя этих свойств? И когда Вл. Соловьев именует этого носителя всех мировых свойств не просто сущим, но сверхсущим, то им руководит здесь такой же здравый смысл, каким пользуемся и мы, когда говорим и думаем, что чайник не есть ни просто дно чайника, ни просто его ручка или крышка, ни просто его носик, но что он есть все эти свойства и не только в их хаотическом смешении, но в их определенном структурном объединении, которое выше каждого отдельного элемента этой структуры. Неужели это надо считать мистикой? И когда Вл. Соловьев утверждает, что это всеединое существует повсюду и решительно во всех своих элементах, так что изъятие одного из них привело бы к уничтожению целого (как изъятие из организма сердца равносильно смерти этого организма), то что же тут удивительного, а главное, что тут мистического, если Вл. Соловьев понимает всю действительность как универсальный организм? Можно только утверждать, что органичность имеет свои разные степени и что если изъятие сердца или легкого из организма означает его смерть, то ампутация руки или ноги еще не означает ее. Но это еще не значит, что действительность или, по крайней мере, некоторые ее моменты являются организмом. Нам представляется, что, хотя и сам Вл. Соловьев называл подобного рода воззрение мистицизмом, для нас здесь нет ровно ничего мистического. Это просто концепция, основанная на здравом смысле, и больше ничего другого. Таковы, во всяком случае, те произведения Вл. Соловьева, которые и он сам, а за ним также и мы считаем теоретико–философскими. Но, конечно, дело этим не исчерпывается.
Дело в том, что Вл. Соловьев как личность, как человеческая натура, был ко всему происходящему необычайно чуток и чувствителен. Его сенситивностьдоходила до огромных размеров. Поэтому многое из того, что мы считаем теоретико–философским, равно как и многое из того, что и сам он считал теорией и только логикой, часто представлялось ему в необычайно конкретном и остро ощутимом образе. Конечно, всякий изучавший книги с изложением идей материализма знает, что мир представляет собой нечто целое и закономерное и что эта закономерность охватывает решительно всякую мельчайшую долю действительности. Однако для большинства здесь является вполне достаточной общая теоретическая концепция, кроме которой ни в чем другом не чувствуется никакой нужды. Другое дело Вл. Соловьев. Конечно, учебники космографии он знал. И что безоблачное небо голубое или синее, тоже знал, как знают и все.
И вот он даже как просто поэт никак не мог ограничиться простой констатацией небесной синевы. Уже как поэт он воспевал ее в таких тонах, которые совершенно чужды и совершенно не нужны обыкновенному прозаическому мышлению. А он был не только поэт. Он был поэт в чрезвычайно остром и сенситивно напряженном смысле слова. Он мог погружаться в эту синеву, в эту бесконечную лазурь и находить в ней не только нечто интимно для себя близкое, не только исток для своих чувств – любви и красоты, но и нечто космическое, даже нечто прямо божественное. И тогда его железная логика всеединства сразу превращалась в какой‑то восторг, в какое‑то наитие, в нечто такое, что уже было превыше всякой философии и превыше самого человеческого ума. К такого рода духовным состояниям Вл. Соловьева слово «мистика» становится, конечно, уже гораздо более применимым.
Справедливость и обилие соответствующих биографических материалов заставляют говорить и о другой стороне его «мистики», жизнерадостной, жизнелюбивой и даже достаточно юмористической. Обыкновенно в качестве доказательства сенсационного визионерства приводится известная небольшая поэма Вл. Соловьева под названием «Три свидания». Уже самый этот термин «свидание» заставляет нас резко противопоставлять соловьевские интуиции общеизвестному визионерству. Кроме того, вся эта поэма выдержана в иронических и даже юмористических тонах, что уже, во всяком случае, свидетельствует о полной естественности и человеческой понятности всей этой образности. При этом, конечно, серьезность этих «свиданий» не подлежит никакому сомнению для Вл. Соловьева. Он сам пишет в примечании к своей поэме: «Осенний вечер и глухой лес внушили мне воспроизвести в шутливых стихах самое значительное из того, что до сих пор случилось со мной в жизни». Наконец, о серьезности этих свиданий свидетельствует то, что они произошли с ним либо в детстве, либо в ранней молодости, а помнил он о них всю жизнь, и поэма эта была написана 26—29 сентября 1898 года, за два года до смерти.
В поэме есть вступление, в котором читаем:
Заранее над смертью торжествуя
И цепь времен любовью одолев,
Подруга вечная, тебя не назову я,
Но ты почуешь трепетный напев…
Отметим здесь, что возлюбленная, о которой будет речь, является «вечной подругой» и, взывая к ней, автор «торжествует над смертью» и любовью одолевает «цепь времен».
Первое свидание автор относит к своему девятилетнему возрасту, то есть, надо думать, к 1862 году. Возлюбленная явилась ему в праздник Вознесенья [504]504
Здесь имеется в виду именно праздник, а не церковь Вознесения, как ошибочно указано в примечаниях к изд.: Соловьев Вл.Стихотворения. Л., 1974. С. 309.
[Закрыть]. Во время обедни для него вдруг погасла не только вся церковная обстановка, но и все то, что он переживал раньше. И дальше мы читаем:
Пронизана лазурью золотистой, В руке держа цветок нездешних стран, Стояла ты с улыбкою лучистой, Кивнула мне и скрылася в туман.
Здесь мы заметим, что золотистая лазурь как раз характерна для русских софийных икон. Но нам представляется, что и здесь у Вл. Соловьева не просто субъективная выдумка и фантастическое визионерство. Дело в том, что многие поэты вообще прославляют чистый голубой небесный свод с ярким солнечным сиянием. Для многих это было символом космоса вообще. Значит, в приведенных стихах можно находить намек на Душу Мира, вечную женственность, Премудрость Божию, космическую Софию в соединении с лирическим подъемом автора поэмы и с его патетическим восторгом – перед «сияньем Божества» и его «нетленной порфирой».
Второе свидание, и опять по словам самого же Вл. Соловьева, произошло в Британском музее в Лондоне, куда он был командирован в 1875 году для изучения древнейших мистических текстов.
Среди этих ученых занятий
Вдруг золотой лазурью все полно,
И предо мной она сияет снова —
Одно ее лицо – оно одно.
Здесь опять вечная возлюбленная, «золотая лазурь» и «Божества расцвет».
Однако наиболее глубоким содержанием отличается третье свидание. Возлюбленная второго свидания внушила ему мысль ехать в Египет. И Вл. Соловьев неожиданно для своих близких и знакомых, да, вероятно, неожиданно и для самого себя, вдруг сорвался в Лондоне с места, оставил свой Британский музей и поехал в Египет, где под Каиром в пустыне он чуть не был убит бедуинами, вскоре освободившими этого удивительного иностранца, в легком плаще, туфлях и цилиндре среди песков. Интерпретаторы Вл. Соловьева обычно не имеют таких материалов, по которым можно было бы судить о цели его египетской поездки. Но имеются воспоминания В. А. Пыпиной–Ляцкой, из которых вырисовываются важные подробности.
В. А. Пыпина–Ляцкая пишет, что однажды, находясь в гостях у своего отца, известного А. Н. Пыпина, бывшего в самых дружеских отношениях с Вл. Соловьевым, последний за обеденным столом, оставшись среди «чуждой ему молодой компании», стеснявшейся знаменитого философа и обычно скучавшей во время серьезных бесед Вл. Соловьева и А Н. Пыпина, вдруг неожиданно рассказал о своем путешествии в Египет. «Как заговорил он, не помню, знаю только, что в один миг он овладел всеобщим вниманием. Просто, по–товарищески, стал он рассказывать о своем путешествии в Египет, которое, по–видимому, произвело на него большое впечатление. Вспоминая особенно подробно о том, как посещал там различных аскетов, таившихся от людей, селившихся в шалашах по пустынным местностям, как на себе проверял их мистические экстазы. Хотел видеть Фаворский свет и видел» [505]505
Пыпина–Ляцкая В. А. В. С. Соловьев. Страничка из воспоминаний //Голос минувшего. 1914, декабрь. С. 124.
[Закрыть]. Приключение в пустыне с бедуинами общеизвестно. Сейчас же для нас важно то, что как раз в этой самой пустыне под Каиром произошло третье свидание, которое нужно относить, очевидно, ко второй половине ноября 1875 года, как это можно судить по его письму к матери от 27 ноября 1875 года по новому стилю [506]506
Соловьев Вл. Письма. Т. II. С. 19.
[Закрыть]. Вот что мы узнаем об этом из «Трех свиданий».
Проснувшись в пустыне на голой земле, философ почувствовал, что небо и земля «дышали розами».
Здесь
И в пурпуре небесного блистанья
Очами, полными лазурного огня,
Глядела ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня.
О лазури говорилось и в первых двух свиданиях. Но здесь возникает еще новый момент: его возлюбленная появляется как символ «всемирного и творческого дня». Этот космический момент развивается и дальше.
Что есть, что было, что грядет вовеки —
Все обнял тут один недвижный взор…
Синеют подо мной моря и реки,
И дальний лес, и выси снежных гор.
Все видел я, и все одно лишь было —
Один лишь образ женской красоты…
Безмерное в его размер входило, —
Передо мной, во мне – одна лишь ты.
Здесь мы находим уже вполне отчетливое космическое представление о Софии, обнимающей собою весь мир с первого момента его появления.
Вульгарное и обывательское представление о мистике, конечно, многих может навести здесь на мысль о какой‑то соловьевской психопатологии или о каких‑то литературных выкрутасах. Но неопровержимые биографические данные свидетельствуют о том, что Вл. Соловьев был в то время духовно здоровым и веселым молодым человеком, у которого умозрительные чувства соединялись с обыкновеннейшим бытовым поведением, как и математику его сложнейшие и чисто мыслительные операции нисколько не мешают быть здоровым, веселым и жизнелюбивым человеком. Из обширных биографических материалов мы позволим себе привести только два источника, которые свидетельствуют о внутренней настроенности Вл. Соловьева чуть ли не на другой же день после египетского «свидания».
Он уже и в Египте жил не по средствам и во время своего «свидания» не забывал требовать у родителей выслать ему 200 рублей. Но что здесь интереснее всего, это то, что после Египта он направился вовсе не в Россию, а почему‑то еще в Италию и Париж. Что он делал в Париже, кроме подготовки своих религиозно–философских трудов, автору настоящей работы неизвестно. Но вот что пишет В. А. Пыпина–Ляцкая:
«С большим юмором рассказывал он (то есть Соловьев), также о своих злоключениях в Италии, когда он, поднимаясь на Везувий с двумя знакомыми дамами, повредил себе ногу и лишен был возможности продолжать путешествие. Последние деньги истратил он на чудные розы, которые послал своим спутницам, и жил в гостинице в долг, ожидая присылки денег из Москвы. В гостинице сначала ему охотно открывали кредит, но потом стали косо поглядывать. Владимир Сергеевич все более и более сокращал свои потребности, стал уже питаться одним кофе. Деньги все не шли. Как только нога поправилась настолько, что явилась возможность передвигаться, он обратился к русскому консулу, рассказал о своей беде, дал о себе необходимые сведения и попросил ссудить деньгами. Консул выслушал серьезно, денег дал, но выразил сожаление, что у столь знаменитого и уважаемого человека, как историк Соловьев, такой "беспутный" сын. Вернувшись к себе в гостиницу, Владимир Сергеевич велел подать себе шампанского и как можно больше роз. Хозяин гостиницы стал называть его князем» [507]507
Пыпина-Ляцкая В. А. Указ. соч. С. 124.
[Закрыть].
Итак, эта прогулка на Везувий, эти дамы, эта жизнь не по средствам, это шампанское и эти розы, – все это чуть ли не на другой день после египетского «свидания» с лазурной подругой. Заметим, кроме того, что за одной из этих двух русских дам, встреченных им на Везувии, он даже немножко ухаживал.
Приведем еще один эпизод, относящийся к июлю 1876 года, вскоре после возвращения Вл. Соловьева из Египта. В декабре 1914 года барон П. Г. Черкасов поделился воспоминаниями своей молодости с биографом Вл. Соловьева С. М. Лукьяновым. Однажды во время прогулки в подмосковной местности летом 1876 года он увидел целую кавалькаду кавалеров и дам. «Впереди кавалькады, на бойкой серой лошади, несся красивый брюнет с развевающимися по плечам волосами; пятки его, плотно прижатые к лошади, "придавали" последней ходу, и она неслась вовсю. А красивый всадник мрачного вида глядел куда‑то вдаль и, ничтоже сумняшеся, летел дальше, размахивая локтями. Ясно было из всей его повадки, что езда верхом ему была не в привычку» [508]508
См.: Лукьянов С. М. Указ. соч. Т. III. С. 364.
[Закрыть]. Этим всадником был не кто иной, как Вл. Соловьев. И по поводу этих рассказов В. Пыпиной–Ляцкой и барона Черкасова можно сказать только одно: если кто испуган лондонско–египетскими «свиданиями» Вл. Соловьева, то после ознакомления с этими рассказами он может только вздохнуть с облегчением. Ведь то, что рассказывает Черкасов, относится к июлю 1876 года, а в Россию Вл. Соловьев ҕернулся из Египта в начале июня того же года. Другими словами, его скачка на лошади вместе со светской веселой кавалькадой произошла через каких‑нибудь три месяца после египетского «свидания». Приключение же на Везувии было еще ближе к третьему «свиданию».
Не следует думать, что это жизнелюбие Вл. Соловьева связано только с его юностью. Мы имеем множество свидетельств о простых и непритязательных отношениях знаменитого философа с окружающими. Так, В. Пыпина рассказывает (имея в виду 90–е годы), что Вл. Соловьев любил играть с ее отцом в шахматы, участвовал в отгадывании шарад, смеялся так заразительно, что, глядя на него, все смеялись, и его звонкий смех, «несколько демонический», так не гармонировал с его «загадочным взором, таинственно полуприкрытыми веками, лишь иногда открывающими его неземной блеск» [509]509
Пыпина-Ляцкая В. А. Указ. соч. С. 125.
[Закрыть]. После двенадцати ночи, когда А. Н. Пыпин уходил, Вл. Соловьев чувствовал себя совсем привольно «без старших» и просил петь ему цыганские романсы, «единственная музыка, которую он признавал», причем слушал их «за стаканом вина», рассказывал «забавные анекдоты», читал шутливые стихи или «свои пародии на символистов». По–видимому, как замечает мемуаристка, «он любил иногда быть среди непритязательного, веселого общества, где мог ни о чем не думать, ничем не стеснять себя, сбросить с себя ответственность „избранника“, каким не мог себя не сознавать». В. Пыпина делает примечательное заключение: «А душа у него была младенческая, и недаром он так хорошо понял моего брата, когда тот однажды сказал при нем: „Когда я буду большой“ (ему было уже за тридцать). Все засмеялись. „А я так вас понимаю, – заметил Владимир Сергеевич, – я тоже часто про себя думаю: когда я буду большой“» [510]510
Там же.
[Закрыть].
Д. Н. Овсянико–Куликовский однажды задался вопросом о том, что же такое в конце концов мистика. В своей характеристике соловьевского типа мистики он упоминает еще и Франциска Ассизского. За это сопоставление мы не ручаемся и оценивать его не беремся. Думается, что здесь слишком много преувеличений и, может быть, даже ошибок. Вл. Соловьев – профессор, публицист, литературный критик, теоретик и историк философии и профессиональный поэт. Ничего этого у Франциска Ассизского не было. Обе эти фигуры взяты из разных исторических эпох, разделенных многими сотнями лет, и совершенно из разных социальных окружений. Ставить их на одну плоскость мы совершенно отказываемся. Однако то, что Д. Н. Овсянико-Куликовский пишет о мистике Вл. Соловьева, это совершенно правильно, и в этом нетрудно убедиться по многочисленным биографическим материалам Вл. Соловьева. Кроме того, Д. Н. Овсянико–Куликовский – литературовед; ему почти несвойственны те предрассудки, которыми очень часто отличаются историки философии. Он просто старается более или менее выразительно сказать то, что он буквально находит в текстах Вл. Соловьева. Приведем некоторые суждения Д. Н. Овсянико–Куликовского.
Вот что мы читаем здесь сначала о Франциске Ассизском:
«Космическая радость бытия и чувство бессмертия у него не производные интеллектуального порядка – величины и не фикция, а "непосредственные данные" экзальтированного сознания, очарованного наитием Божества. Из всех возможных – и невозможных – миров мистический мир Франциска Ассизского представляется если не самым лучшим, то, бесспорно, самым радостным».
А теперь прочитаем и то, что говорит Д. Н. Овсянико–Куликовский и о самом Вл. Соловьеве. Здесь мы читаем: «И прежде всего, в этом, для нас столь фантастическом мире отнюдь не скучно: там много радостей, много невинной веселости, там слышен порою беззаботный смех, там встретим и незлую шутку, и добрый юмор. – Большою ошибкою было бы думать, что мистики этого типа —люди угрюмые, всегда погруженные в замогильные чаяния, чуждые живой жизни и земных радостей… Мистики, как Франциск и наш Соловьев, конечно, аскеты, но их аскетизм, в своем роде, – умеренный, не доходящий до юродства… Мистики типа Франциска и Соловьева – вовсе не фанатики.Их вера несокрушима, как и их мистическая экзальтация, но у них нет того порабощения личности гнету властной идеи, которое составляет сущность фанатизма. Это – люди внутренне свободные, широкие, гуманные: строги к себе, они снисходительны к другим».
Мы уже и раньше, и притом без всякого Д. Н. Овсянико-Куликовского, находили и юмор, и шутку, и баловство, и иронию как в личности Вл. Соловьева, так и в его произведениях. И вот как теперь говорит об этом Д. Н. Овсянико-Куликовский, и говорит чрезвычайно метко: «В психологическом родстве с этим укладом натуры находится и свойственный таким мистикам, как Соловьев и Франциск, дар юмора и шутки… У Вл. Соловьева, в инвентаре его разнообразных выдающихся дарований, ярко проявлялся веселый дар остроумного юмориста. Его шутки в стихах и прозе, его пародии и крылатые меткие "тоіѕ" достаточно известны и не уступают православному творчеству Козьмы Пруткова» [511]511
Все эти выдержки взяты из статьи Д. Н. Овсянико-Куликовского: Что такое мистика? (этюд) // Вестник Европы. 1916, октябрь.
[Закрыть].
Нечего и говорить, что подобного рода характеристика основного настроения Вл. Соловьева отнюдь не может считаться окончательной ввиду чрезвычайного богатства его натуры и личности. Но такие характеристики все же очень важны, поскольку они вносят жизненную конкретность в ту мистику Вл. Соловьева, с которой в ее подлиннике никто не знаком, но которую почти все считают необходимым характеризовать таким унизительным термином. Если бы мистика Вл. Соловьева изучалась в ее подлинниках, то, вероятно, самый термин «мистика» нужно было бы или ставить в кавычках, или совсем отменить. Приходится весьма сожалеть, что Вл. Соловьев в популярном сознании читателей почти совсем не рассматривается в контексте всей мировой символики. Да эта мировая символика у историков философии и литературы тоже весьма мало популярна, так что история ее не только еще не написана, но, по–видимому, и вообще будет написана весьма нескоро. Ведь для того, чтобы ее изучить и написать, нужно прежде всего тончайшим образом проанализировать и то, что такое мистика, и то, что такое символика. А мы не знаем хорошенько даже того, что такое художественный образ. Когда анализируются художественные образы у того или иного писателя, то дело обычно сводится просто к изложению содержания того или иного произведения, но только изложение это относится в данном случае не ко всему произведению в целом, а к тому или иному его герою или к той или иной изображенной в нем ситуации. А если бы у нас была такая история мировой символики или хотя бы некоторые попытки ее написания, то мы убедились бы, что основной «мистический» или «художественный» образ у Вл. Соловьева (тут неизвестно, как его квалифицировать) оказался бы для нас отнюдь не мистичнее того, что мы находим и у других мировых писателей.
Вечная подруга и космическая золотистая лазурь у Вл. Соловьева отнюдь не мистичнее и отнюдь не загадочнее, чем неизъяснимые наслаждения на краю мрачной бездны («бессмертья, может быть, залог», говорит сам Пушкин) и вообще гимны чуме, а также бесовщина зимней непогоды у Пушкина, чем бегство послушника из монастыря, чтобы обняться с бурею в горах, или искания покоя мятежным человеком в буре, или обманная клятва демона (потому что сам демон есть обман и ничто) у Лермонтова, чем покаянное состояние у умирающего Гоголя, чем «эликсир сатаны» или «песочный человек» у Гофмана, чем любовный напиток или кольцо из рейнского золота у Рихарда Вагнера, чем завывание мирового хаоса в печной трубе у Тютчева, да в конце концов даже чем покойники в «Железной дороге» Некрасова и птицы в «Буревестнике» Горького. Везде тут незнакомые мелкобуржуазному обывателю глубины человеческого самочувствия, философские картины мировых судеб и грозное пророчество, доходящее до мировых катастроф, до апокалиптики. Понять все это может только тот, кто давал себе труд хотя бы на краткое время прикоснуться к мировой символике.
Но и здесь не надо забывать того, что под этой бесконечной лазурью в теоретическом плане залегало учение о всеединстве и ничто другое. Сенситивная обостренность философско–поэтических восторгов Вл. Соловьева приводила его к тому, чтобы обозначить эту максимально духовную, но в то же время и максимально телесную, максимально материальную основу своих умозрений особым термином, который он позаимствовал из неоплатонической и еще больше теософско–оккультной литературы. Этим термином была София, которой выше у нас была посвящена специальная глава.
Наконец, рассуждая о мистике Вл. Соловьева, мы можем доставить удовольствие тем знатокам мистики, которые сводят ее к переживаниям всякого рода сверхъестественных явлений и тем понимают ее как наличие галлюцинаций в воображении психически расстроенного человека. Правда, дело здесь не в этих «знатоках», а в том, что историк философии всегда должен оставаться честным человеком и в своей характеристике того, что сам Вл. Соловьев квалифицировал как учение о всеединстве, не игнорировать и таких элементов, которые невежественным «знатокам» представляются в виде сверхъестественных явлений.
Мы только должны категорически протестовать против характеристики этих явлений как психопатических галлюцинаций без всякого иного, и прежде всего без всякого общественно–политического к ним подхода. Допустим, что явление черта психически больному Ивану Карамазову есть галлюцинация этого последнего. Но такое заключение, очень интересное для врачей и психиатров, ровно ничего не говорит нам по существу. Если черт является только людям больным, то из этого можно сделать лишь тот вывод, что он не является здоровым людям, но никак не тот вывод, что не существует самого черта. Внутриатомные процессы не являются даже и здоровым, и никакой микроскоп ничего о них не сообщает. Тем не менее отрицать реальность атомного распадения было бы той ошибкой, которая в логике называется а ӓісіо ѕесипӓит яиіӓ аӓ ӓісіит ѕітріісіїег, то есть переносом частной ситуации появления предмета на общее состояние этого предмета самого по себе. И действительно, если даже считать явление черта Ивану Карамазову галлюцинацией, то это глубоко насыщенная галлюцинация, свидетельствующая, по мнению самого же Ивана Карамазова, о самом скверном и злом, что таится в его душе, в душе Ивана Карамазова.
Исходя из этого, необходимо думать, что в явлении чертей Вл. Соловьеву нас должен интересовать только сам Вл. Соловьев, а не черт. А сам Вл. Соловьев в последние годы своей жизни чувствовал себя весьма мрачно и ослабленно, поскольку он до невыносимости глубоко переживал крах всех своих иллюзий, и теократических, и всегда либеральных и прогрессивных, всегда основанных, как ему казалось, на здравом смысле и безупречной логике. Это разочарование в своих идеях исторического прогресса он выразил, в частности, в том, что в «Трех разговорах» уже прямо повествует о последних временах истории и о всеобщей мировой катастрофе. Это не было болезнью человека; и являвшийся ему черт даже если и был галлюцинацией, то эта галлюцинация имеет для нас глубочайший общественно–политический смысл.
Вл. Соловьев был христианином, для которого крест – символ победы над злом, а воскресение Христа – символ всеобщего спасения. Но вот оказывается, что явившийся Вл. Соловьеву черт не испугался его слов о воскресении Христа, и после этого философа нашли лежащим в бессознательном состоянии. Что это такое? Неужели вся сущность дела заключается здесь в его душевном расстройстве? Нет, дело здесь не в черте, которого реально, допустим, и не было; и дело здесь не в душевном расстройстве Вл. Соловьева, в течение всей своей жизни бывшего человеком выдающегося духовного здоровья и кончившего жизнь в совершенно здравом уме и твердой памяти. Нет, только общественно-политический подход (а не психиатрический) и может разъяснить сущность дела: Вл. Соловьев настолько чувствовал себя в окружении прогрессирующего зла, что в конце жизни уже не мог с ним бороться так, как это он делал всегда. Тут не галлюцинация, но крушение всех общественно–политических учений и надежд философа, несмотря на всю их подчеркнутую прогрессивность. А вот теперь мы и приведем те биографические материалы, которые относятся к этим чересчур подозрительным галлюцинациям.


