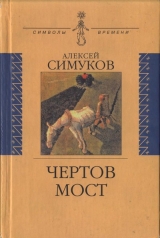
Текст книги "Чертов мост, или Моя жизнь как пылинка. Истории : (записки неунывающего)"
Автор книги: Алексей Симуков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 41 страниц)
Драма в Третьяковской галерее
Думая обо всем этом, я повел своих студентов на репинскую выставку, которая была развернута в Третьяковке. Мы долго стояли перед картиной Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Вот, казалось нам, идеальное изображение преступления. Оно только что совершено. Сын еще жив, безумный отец вцепился в него. Он понял, что совершил. Он исходит ужасом, он проклинает свою минутную вспышку гнева. Кровь, живая человеческая кровь брызжет из-под его трепещущих пальцев. Написано все это блистательно. Но… Мысль художника ясна сразу. Отец убил сына – и все. Найдена великолепная форма, точно запечатлевшая это действие мысль. Что еще? Остается любоваться, как это сделано, экспрессией, цветом. Не мало ли?
И, как нарочно, в соседнем зале, совсем рядом, оказалась картина Сурикова «Меншиков в Берёзове». Никаких страстей, ни одного резкого движения. Полная статика. Маленькая хибарка. Сквозь замерзшее окно робко пробивается свет… Мы видим семейное чтение Библии. Сидят отец, две дочери, сын. Мы всматриваемся в картину, и она постепенно забирает нас. Мы стоим перед ней долго, долго… Мы понимаем, что перед нами развернута сцена фактического убийства человека, который сидит перед нами, весь ушедший в себя. Халат, накинутый на него, это цепи, приковывающие его к этой страшной, забытой Богом дыре. В выражении его лица угадываются могучие чувства, которыми он был некогда полон. Кажется, вот он встанет, развернется во всю ширь своих плеч и… Но нет! Он не встанет, он уже почти не живой, мы присутствуем при агонии, при настоящем убийстве, только выраженном в иносказательной форме, и тем сильнее оно действует на нас. Старшая дочь в своей черной шубке прильнула к нему. Она была последней его ставкой в отчаянной игре, которую он проиграл, и теперь осужден на смерть… Она рядом с ним – неудавшаяся русская императрица. Девочка же, читающая Библию, освещена лучом света. За ней – будущая жизнь. Она – жива! Думается, даже тот, кто ничего не знает о нашей истории, и тот поймет внутреннюю суть этой внешне такой мирной сцены. Убийство медленное, но верное… И чем сильнее контраст внешней обстановки и внутреннего содержания, тем больше захватывает нас эта человеческая драма, тем дольше мы задерживаемся у этой картины. Это крах жизни, полный неслыханных по масштабу горделивых надежд…
Особо хочется подчеркнуть именно это иносказание, вообще-то чрезвычайно важную и плодотворную часть искусства. Под свежим впечатлением выставки я поделился своими мыслями с Корнеем Ивановичем Чуковским, помня о близких отношениях, связывавших его с Репиным. Он очень живо откликнулся на мои слова.
– Репин по природному таланту – российский Веласкес! – заявил он. – Но ему постоянно мешало отсутствие настоящего образования, фантазии, и потом еще эта дружба со Стасовым… – досадливо поморщился Чуковский.
– Но ведь они ссорились, – вставил я слово, – помните, в заграничной поездке.
– Стасов шел всегда напрямик, он поклонялся русскому передвижничеству, для него главное было – сюжет прямой, «с направлением». Для Стасова были непонятны восторги Репина перед портретами королевских шутов, пусть даже кисти Веласкеса! Кто они такие, чтобы их изображать? Королевские уроды, карлики! Стасову было невдомек, что живописец может наслаждаться искусством, независимо от содержания. Репин всегда брал своим огромным живописным талантом, и был тем более велик, чем он был ближе к натуре!
Трагедия
Пришло время разговора о Трагедии. Жанр этот самый высокий, он занят осмыслением вопросов жизни и смерти, рассматривает мировые катаклизмы, освещает разное понимание категорий миропорядка и хаоса, показывает бездны ситуаций, рождаемых человеческими страстями.
Как тут опять не вспомнить Шекспира. «Гамлет». Герой узнает о злодейском убийстве отца. По законам времени он должен мстить. Но сам герой выше времени, он уже в иных измерениях. Он сталкивается с действительностью, многообразной, сложной. Вопрос о частной мести перерастает в конфликт с обществом, неразрешимый. А в финале пьесы драматург, как нарочно, дает торжествовать приемам, которые в то время были в ходу – удары шпагой, яд, от чего погибает герой, оставшийся вне своего общества, как бы на распутье – быть или не быть? Или шекспировский «Юлий Цезарь». Юлий Цезарь – диктатор, победоносный, умный, но… И вот группа лиц, во главе с Брутом, убивает его, во имя свободы прежнего республиканского Рима. Убивает Цезаря Брут, его воспитанник, любимый им и любящий его, но идея свободы ему дороже. Он убивает Цезаря, чтобы сделать свободными своих сограждан, но… Диктатор убит, а сограждане Брута оказались недостойными свободы, дарованной им. Трагедия кончается смертью Брута, бросившегося на свой меч.
Даже самый краткий пересказ событий возбуждает воображение, будит мысль, показывает высокое направление жанра, требующего столкновения контрастных сил – личности, эпохи, добра, зла. Соответственно трагедия является экзаменом для драматурга, свидетелем его философской и художественной зрелости. Я глубоко убежден, что именно трагедия как ничто иное объединяет народы, напоминает нам, что мы – дети одной матери – Земли.
Вспоминаю незабываемое выступление Бориса Пастернака в Центральном доме литераторов. Он, с лицом йога, аскета, безумец, своим задыхающимся, клекочущим голосом, со взглядом, устремленным в нечто, видимое только ему одному, говорил о жанре трагедии. Он заклинал спасти, сохранить, развить трагедию, как самый желанный, самый необходимый, высочайший жанр нашей драматургии. Он говорил о величии трагедии, о том, что только ей по плечу то грандиозное творческое время, которое мы переживаем, он говорил о трагической ломке прошлого, на развалинах которого создается новая культура. Она рождается в муках, в противоречиях, но рождается! Было это году в тридцать пятом или шестом, когда даже малейшее упоминание о возможности современной советской трагедии было для нас чем-то диким, чудовищным. Какая может быть у нас трагедия, когда весь наш народ в едином порыве во главе со своим вождем строит коммунизм? Пастернак нам казался тогда каким-то городским сумасшедшим, не более того, честное слово!
А вокруг наука уже трещала под напором теорий Лысенко, страну охватила повальная эпидемия доносительства, каждая неудача объявлялась вредительством, лагеря росли как грибы, а мы… Мы были заворожены магией единоличной власти, которая торжествовала, подмяв под себя коллективный разум, положенный в основу нашего общества. Разве это не материал для великой трагедии? Но где они, эти трагедии?
Один мой друг, режиссер, рассказывал о мимолетной встрече с приятелем.
– Что делаешь?
Тот, увлеченно:
– Старик, ставлю водевили Соллогуба [142]142
В. А. Соллогуб(1813–1882), русский писатель, автор многих водевилей.
[Закрыть].
– Прекрасно! Возвращение зрителю понятия комического?
– При чем тут комическое? Я в них вскрываю трагическое начало! Наподобие «Маленьких трагедий» Пушкина. Во, брат!
Или сценка на семинаре в Махачкале.
Драматург одной из республик Закавказья читает свою трагедию. Там, по ходу действия, герою пьесы вражеским ядром отрывает голову. Я усомнился в авторском определении жанра пьесы.
– Что? – Автор возмутился. – Почему не трагедия? Такой трагический случай!
Случаями ли занимается трагедия?
Я как-то задался вопросом: была ли в советской драматургии трагедия? Пересмотрев 12 томов подписного издания «Советская драматургия», я убедился, что один Н. Вирта обозначил жанр своей пьесы «Земля» как трагедия. Значит, на 12 томов одна трагедия. Перечитывая ее, я понял, что если трагическое в ней и присутствует, то очень отдаленно, хотя трагедийная тема там налицо – восстание крестьян под руководством Антонова против коллективизации.
Когда я думаю о трагическом в нашей жизни, я не могу пройти мимо смерти Надежды Константиновны Крупской в 1939 году. Можно себе представить, что она чувствовала, расставаясь с жизнью. Внизу, под ленинской квартирой, была квартира того, кто стоял тогда у руля. Куда, по какому пути он вел страну, что ей готовил в будущем? Сомнений – куда? – у нее уже, по-видимому, не оставалось. Все, что создавал Ленин, для нее просто Володя, крошилось, уничтожалось… Один мой знакомый, работавший в то время в редакции «Правды» вместе с Марией Ильиничной Ульяновой, рассказал мне, как однажды он спросил ее – не может ли она объяснить ему – что делается, куда мы идем? Мария Ильинична изменилась в лице, наглухо закрыла дверь и, вся трясясь, вымолвила:
– Молчите, деточка, молчите! Больше я вам ничего не могу сказать!
К понятию трагического близко подошел драматург Лаврентьев, в свое время недооцененный у нас. Он написал пьесу «Человек и глобус» и не закончил глубоко философскую драму «Русский долг». В пьесе «Человек и глобус» шла речь о создании у нас атомной бомбы. Сама идея глубоко трагична – человек создает смерть, страшную, все уничтожающую. Наука помогает ему, управляя природой, приближать гибель всего живого. Здесь весьма интересен один из эпизодов пьесы. Лицо, облеченное доверием правительства, требует от высокого чина МГБ по списку необходимых ему ученых, которые догнивают в лагерях. Ученых разыскали. Но к одному из них, самому, наверное, «опасному», приставлен для денного и нощного наблюдения генерал МГБ. Проходит подготовка первого опытного взрыва, на месте оставлены подопытные животные. Люди не имеют права приближаться. После взрыва все вокруг смертельно для живых существ. Происходит взрыв. Не в силах сдержать любопытство, забыв обо всем, ученый бросается на поле – проверить состояние животных, забыв об осторожности, обрекая себя на смерть. А вслед за ним бросается, выполняя букву инструкции, генерал, приставленный для неусыпного наблюдения за ним. Оба гибнут. Вот так…
Мелодрама
Мы уже отмечали, что понятие жанров лежит в основе театра. Жанр – это как бы взаимная договоренность театра со зрителем. Договорились – и начинается. Зритель настроен, зритель ждет – и получает ожидаемое. Наиболее устойчивый и, простите, самый демократический жанр – мелодрама, откровенно пользующаяся театральными приемами, чтобы вовлечь зрителя в сопереживание на сцене, не гнушающаяся ни смехом, ни откровенными слезами, не боящаяся обвинений в сентиментальности. В общем, это то, что больше всего любит зритель и от чего, как черт от ладана, бегут многие драматурги и режиссеры. Жанр мелодрамы, как правило, построен на тайнах. Умело тасуя их, маленькие и большие, драматург возбуждает наш интерес, и мы уже с ним до самого конца!
В мелодраме обмануть зрителя, не дать того, что он ожидает, – великий грех. И как не вспомнить здесь о верном рыцаре мелодрамы, Алексее Арбузове, который все свое творчество посвятил ей, не стесняясь этого.
Очень характерна в этом отношении арбузовская «Таня». Не случайно она, с Марией Бабановой в главной роли, выдержала более тысячи представлений в Театре Революции, а также с огромным успехом шла на периферии. Драма женщины, все отдавшей любимому и оставленной им, показана очень ярко, с опорой на жизненные нормы того времени. Основа мелодрамы – обманутая любовь. Таня отдала Герману свое сердце, нерасчетливо бросив мединститут, уйдя с последнего курса, выучилась черчению – все для мужа, для его успеха.
Мы присутствуем при сцене, где ей не терпится сообщить своему любимому, что она беременна, что она счастлива. И тут жизнь наносит ей жестокий удар. Она случайно подслушивает разговор мужа с Шамановой – женщиной нового типа, директором золотопромышленного рудника, где должна проверяться созданная Германом машина. Из разговора Тане становится ясным, что Герман увлечен Шамановой. Ни слова не сказав Герману, скрыв, что она ожидает ребенка, Таня уходит из дому. В никуда, раздавленная, потрясенная… Затаив свою любовь, сжав зубы, она вновь поступает в институт, в трудных жизненных условиях теряет своего ребенка, кончает институт и выходит в жизнь врачом, одиночкой, сохранив в душе всю боль, всю любовь, ничего не забыв из прошлого. Тем временем у Шамановой и Германа все благополучно. Изобретение его признано, их любовь увенчана рождением сына, и вдруг – сын заболевает, заболевает смертельно… Бросаются к врачу… Им оказывается Таня, посланная в этот район по распределению после окончания института. Таня борется за жизнь ребенка. Здесь сосредоточилось все – и испытание ее, как специалиста, и любовь ее к Герману, и все с этим связанное… Таня победила, ребенок спасен, и, когда опасность уже миновала, возле постели мальчика у Германа и Тани происходит ключевой разговор.
– Хорош, правда? – спрашивает ее Герман, склоняясь над кроваткой.
– Очень, – отвечает Таня, и в одном этом слове заключена вся ее драма.
– Знаешь, иметь сына – это такое счастье! – продолжает ничего не знающий о Таниной потере Герман. А мы-то, зрители, знаем это, мы посвящены в Танину драму, мы возмущены незнанием Германа и его счастьем.
– Вероятно, – слышен односложный ответ Тани.
И мы, зрители, понимаем, каких сил стоило это короткое слово! Но пытка не кончена, пытка продолжается.
– А помнишь, ты тогда не хотела, – напоминает Герман.
– Да. – Силы Тани на исходе.
– Ты была чудак!
– Вот именно…
И зритель, знающий то, чего не знает Герман, исходит в слезах, восхищенный подвигом Тани, он плачет и не стыдится своих слез…
На занятиях по теории драмы в Литинституте я тщетно уговаривал свою аудиторию вникнуть в построение «Тани», осознать законы, по которым драматург находит пути к сердцу зрителей. Мои слушатели только пожимали плечами. «Таня»? Мелодрама… Это же старо… Отживший жанр… – написано было на их лицах. – Отсталая, вычерченная по чертежам драматургия…
Да ничего она не вычерченная, она результат вдохновения, которое вылилось в такую именно форму. Исторгнуть слезы у зрителя – дело непростое… И я против беспрерывного кормления зрителя неожиданностями. У мелодрамы свои рельсы.
Комедия
Как-то раз я обратился к Корнею Ивановичу Чуковскому вот по какому поводу. Я уже говорил о пьесе Д. Синга «Удалой молодец, гордость Запада». Я прочитал ее в переводе Корнея Ивановича и, восхищенный его работой, хотел познакомить с ней моих студентов. Мне попался другой перевод, намного хуже, а мне хотелось показать студентам именно тот, который сделал Чуковский – смелый, сочный, передающий живую человеческую речь… Увидев Корнея Ивановича в Центральном доме литераторов, я высказал ему свою просьбу. Чуковский вспомнил, что один экземпляр перевода у него сохранился в Переделкине и, поскольку он туда собирался, предложил мне сопровождать его.
Пьесу я получил, прочитал ее студентам к их общему восторгу и, говоря о жанрах, мы приступили к обсуждению жанра Комедии. Автор, пишущий комедию, – всемогущ! – был общий отклик. Превратить в блестящий комедийный материал заурядную уголовщину – это поразительно! – говорили другие. А что такое Комедия вообще? Как ответить? – вопрошали третьи. Но тут меня ждал неожиданный удар.
– А вы знаете, что Чехов назвал свою «Чайку» и «Вишневый сад» – комедиями? – сказал один студент.
Я как-то никогда не обращал внимания на подзаголовки этих пьес и был растерян. Как объяснить студентам, почему великий писатель прихотливо отнес к такому, казалось бы, неподходящему жанру свои великие пьесы? А вот взял и отнес! Надо подумать, может быть, тут замешан этот проклятый подтекст, которым мучают нашего брата, драматурга, ревнители большой литературы? Помните – люди ходят, разговаривают, пьют чай, и в это время разрываются их сердца… Может быть, Чехов считал все, изображенное им в этих пьесах, комедией жизни?
Насчет подтекста я поделился со студентами своим разговором с К. Чуковским, когда говорил, что подтекст у Репина, скажем, слабоват. Ну, что такое, к примеру, «Запорожцы»? Для меня, например, его портрет дочери Драгомирова [143]143
М. И. Драгомиров(1830–1905), русский военный деятель, генерал от инфантерии, член Государственного совета.
[Закрыть]в украинском костюме несет гораздо больше этого второго смысла, чем пусть гениальное, но плоскостное изображение смеха!
Мнения у нас со студентами раскололись, но обсуждение комедии и комического продолжалось с удвоенной силой.
Размышляя над проблемами комедии как жанра, я прихожу к убеждению, что в этом случае художник решительно порывает с обычными ощущениями, порождаемыми процессом познавания жизни, и переходит в иную область, где властвуют представления, воображение, ассоциации, хоть и основанные на реальной жизни, но уже резко окрашенные субъективными размышлениями о ней автора.
Эти отвлеченные понятия можно представить себе в виде стены. Предположим, человек стоит возле стены, лицом к ней. Он видит перед собой ее участок – настолько, насколько его может охватить глаз. Участок этот им хорошо изучен. Все трещины, все малейшие детали он хорошо знает, стена есть его объективный мир, и сознание этой объективности придает и ему самому твердое убеждение в его собственной принадлежности к этому миру, пусть подчиненному – по отношению к стене, но ясному.
А попробуйте отвернуться от стены. Стать спиной к ней. Сразу же перед вами открывается огромный мир, настолько большой, что вы его даже не в силах весь окинуть своим взглядом. И… как следствие этого, вы – ничто перед ним! Да-да – ничто! И если силой своего воображения вы не заставите себя стать в центре этого мира – плохи ваши дела. Вы должны это сделать, иначе вы растворитесь в этом мире, не сможете передать другим его масштабы, его очарование. Только заняв в нем доминирующее положение, вы сможете завладеть миром, диктовать этому новому для вас пространству свои законы, свои условия.
Там, за спиной, вы оставили жизнь, которую можно было видеть вплотную, осязать, нюхать, даже лизнуть, чтобы определить, какой она имеет вкус, – она существует помимо вас. Здесь вы сможете ее воспринять, только пустив в ход ваше воображение, ваше представление о ней, неразделимое с ощущением себя в этом мире.
Короче, мы от конкретной практики переходим в мир субъективный, зависящий от того, как он будет нами представлен, как будет изображен. Это – область нашего представления о жизни, нечто новое для нас, требующее иных способов ее познания, иных жанров.
Как начинается жанр
Приведу пример: к моему больному сыну ходила массажистка. Все, что было связано с моей жизнью, с ним, с ней, было миром стены, к которой я стоял лицом, – обычным, знакомым мне миром… Но как-то, кончив сеанс, массажистка вздохнула и сказала: «Бегу к своему генералу, им всем велено похудеть». И я живо представил себе ее пациента, его старание ответить на начальственное требование «верхов», и вдруг, незаметно для себя, «стена» осталась у меня за спиною, я увидел все это так ясно, так ярко – и это уже был новый мир, мир моего воображения. Я находился в центре его, распоряжался увиденными мною персонажами, действовал вместе с ними… И сам собой сложился сюжет моей комедии «Папе надо похудеть», или «Не щадя живота», о которой я рассказывал.
Комедия – необозримое поле для выдумки, острой мысли, всяческого изобретательства, задора. И, как ни странно, жанр, не любимый ни театральным начальством, ни режиссерами. И, может быть, даже актерами. Любит комедию только зритель. Ведь комедия ничего ни режиссеру, ни начальству не дает, от нее одно беспокойство. А зритель… Ах, как зритель любит комедию, как он отвечает благодарным смехом на все ее перипетии.
Мы как-то постепенно привыкли видеть в комедии послушную служанку наших быстротекущих и изменяющихся дней. Мы стараемся выяснить, какую непосредственную пользу она принесет. И вычисление этой пользы принимаем уже как-то слишком прямо, арифметически. И, скажем, если мы видим комедию, то обязательно прибавляем от себя – сатирическую. Кого она осмеивает? – задаемся мы вопросом. Против кого направлена? И сразу же делается скучно. А вот не против кого. Просто комедия, может быть такое? Скажем, у латышского драматурга Блауманиса «Дни портных в Силмачах» – что это такое? Яркая народная комедия! Просто весело, увлекательно, разве это плохо? И если кому, между делом, и попадает – хорошо. Комедии бывают разные – и сатирические, и другие. Драматург берет кусок обыкновенной жизни, направляет свой волшебный фонарь, и…
Хочу упомянуть о явлении в нашей практике чрезвычайно характерном. Мы хотим, под влиянием советов или по собственному разумению, добиться в наших комедиях такой правды, такого жизненного обоснования нашего произведения, что частенько загромождаем основную его линию и затемняем смысл. (Стена! Не надо оборачиваться к ней лицом, когда пишешь комедию!)
Общей выдумкой своей комедии «Папе надо похудеть» я горжусь. Она, как в фокусе, отразила большое явление в жизни и, что крайне важно, упростила ее до знака, до формулы, в то же время чрезвычайно живой. Но… в процесс работы вклинивается поправка на жизнь, как мы ее понимаем. Причем поправка эта работает вне жанра, что очень плохо. Жанры надо уважать и защищать, особенно жанры комические. И стараться хорошую выдумку сохранить, не засоряя ее разными, мало идущими к делу подробностями. Так и у меня, очевидно, все время что-то толкало: смешно, здорово и именно поэтому подозрительно. Скорее, скорее надо опираться на жизнь. И появились опоры из области «жизненного реализма», в результате снизившие планку высокой сатиры.
Очень характерен для такого рода мышления фильм «Верные друзья» по сценарию А. Галича.
Три друга – их играют Чирков, Меркурьев и Борисов – сооружают плот, плывут на нем сперва по Яузе, потом по Москве-реке, потом по Оке. Прекрасные актеры, забавные приключения, все чудесно, все комедийно, зритель расположился к определенному жанру, это – комедия, все хорошо.
Но вот у автора возникает эта проклятая Поправка: слишком смешно, как бы не случилось, что не поверят. И появляется совершенно сбоку припека длинный, нудный, хотя сильно драматический эпизод – пожар на колхозной ферме, обезумевший табун лошадей. Лилия Гриценко в роли колхозного зоотехника скачет впереди, пытаясь отвести табун от обрыва. Обезумевшие кони сворачивают. На их пути появляется работница фермы, которую они сбивают с ног и топчут ее. Жизнь девушки в опасности – выживет, не выживет.
Какое это имеет отношение к поездке друзей? Страх, что будет слишком смешно? А раз смешно – это уже само по себе подозрительно? А где же жанр?
Комедия требует выдумки и, главное, простоты основной мысли. Вот, например, популярный артист эстрады Валерий Леонтьев. Самый, по-моему, его удачный номер, как я его запомнил, ему дан зеленый свет. И он бежит… Горит зеленый свет, и он бежит, бежит, бежит… Казалось бы, проще пареной репы. А вот додуматься до такой формулы – это удача…







