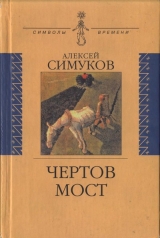
Текст книги "Чертов мост, или Моя жизнь как пылинка. Истории : (записки неунывающего)"
Автор книги: Алексей Симуков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 41 страниц)
Моя сестра
Ах, Аля, Аля… Королева вестготов, как ее называл поэт и переводчик Лев Пеньковский, нередко бывавший в ее доме. Смотрю на фотографию, где она снята со своим первым мужем, Юрой Каравкиным – какие лица, какая ослепительная юность! Как ты была хороша когда-то и сумела сохранить свою стать до последнего дня!
Как будто недавно это было… День твоего рождения, мы с Ефимом Дорошем зашли к вам в коммуналку на Страстной площади, поздравить, и подарили двух смешных игрушечных собачек, сопроводив свое подношение стихами, которые заканчивались так:
С двадцать пятым годом Але
Два поэта написали!
И дата: 1930 год. Але исполнилось 25 лет. Боже! С тех пор прошло шестьдесят лет! Нет уже в живых ни Али, ни Ефима… Но жива традиция. Именно с этих случайных строчек началась у нас домашняя стихотворная летопись.
Я уже писал, что Аля приехала в Москву из деревни в 1924 году. Окончив курсы стенографии, она поступила на работу в Институт советского строительства. Мы часто с ней бывали в разных компаниях, и я помню, как она говорила: надо сразу оповестить, что мы брат и сестра, иначе все принимают нас за пару влюбленных.
Наша собственная компания была очень веселой. В нее входили братья Лушниковы, Катя Муханова, о которых я говорил, другие интересные люди. Летя Лушников, младший, ухаживал за Алей. Однажды, по ее рассказу, он провожал ее домой. У подъезда он откашлялся и сказал со своим иностранным швейцарским акцентом, ибо он там родился:
– Кхм, кхм, может быть, нам следует поцеловаться?
На что Аля, умирая от хохота, даже присела на тротуар, так нелепо выглядело это неожиданное предложение.
Помню, как у нас в Институте Ленина был вечер, и за мной должны были зайти Лушниковы. У них с собой была четвертная бутыль вина. Мы собирались на какую-то вечеринку. Бутыль заметил гардеробщик, затеял скандал, чуть не вызвал милицию…
Аля скоро вышла замуж за Юру Каравкина. Прожили они недолго. Алей увлекся ее начальник – директор Института советского строительства Анатолий Петрович Ковалев, симпатичный коммунист с партийным стажем с шестнадцати лет. Будучи делегатом Рубцовского железнодорожного узла, он, семнадцати лет от роду, был избран делегатом на X съезд Советов и слышал выступление Ленина. Тот критиковал коммунистов, которые презрительно относились к торговле, ссылаясь при этом на свой коммунистический дух. Он сравнивал их с крыловскими гусями, гордившимися, что их предки спасли Рим.
– А что им мужик? – спрашивал делегатов Ленин. – Хворостиной их! Хворостиной!
Ковалев у нас с Ефимом отвечал за Советскую власть. Все нерешенные для нас вопросы мы несли к нему, и он всегда толково разрешал наши сомнения.
После Института советского строительства Ковалева «бросили» как раз на торговлю. Он поехал в Англию торговать советскими кинокартинами. Торговля эта, вообще-то не бог весть какая, осложнялась тем, что фирмы, купившие картины, безбожно кромсали их, приспосабливая к вкусам и политическим взглядам зрителей. Ковалев тщетно спорил с ними, считая, что наше киноискусство – идеологический экспорт, что они должны выполнять свою роль именно в нетронутом виде.
– Представьте себе, – приводил он высший, как ему казалось, аргумент, – если бы мы проделывали с вашими фильмами то, что вы делаете с нашими!
– Пожалуйста, – был ответ. – Наш товар – ваши деньги. Раз вы купили наши картины, делайте с ними, что хотите.
Так наш Анатолий познавал законы капиталистического рынка.
Через некоторое время мы отправили Алю к мужу в Англию. По тогдашним временам это было экстраординарное событие. Поезд уходил с Белорусского вокзала. В нем был вагон с надписью «Хук-ван-Голланд». Так назывался пункт на побережье Ла-Манша, до которого должен был довезти Алю этот вагон. Аля была одета во что-то старенькое – так просил Толя, чтобы не жалко было выбрасывать, когда она станет одеваться в заграничное. Мы стояли на перроне, и я думал – как же так? Вот она ступает на ступеньку вагона и уже отделяется от нас, будет в том мире? Поезд тронулся. Я позвонил вечером Толе в Лондон. Гудение в трубке, телефонистка соединила нас – и я услышал голос Ковалева, как будто он стоял рядом со мной! Я доложил: Аля отправлена.
Пока Аля была в Англии, я женился и уехал на работу в Кронштадт, о чем я уже рассказывал. Писал я Але письма из Кронштадта и раз, развеселясь, решил изобразить «Руку Москвы», о чем все время трубила зарубежная пресса. «Рука Москвы!» – она всюду проникала, считали наши недруги. Я вымазал свою ладонь красной краской и отпечатал пятерню на почтовом листе. Знай наших! – «Рука Москвы!»
Время тогда было еще снисходительное, а то бы проказа не прошла даром. Вспоминаю также: в начале войны Ефима мобилизовали и направили в войска НКВД. И вот я, на Пасху, в метро, позволил себе шутку – шел перед ним, одетым в форму, с поднятыми руками! Тоже сошло. Очевидно, со стороны это шуткой не выглядело.
Аля много рассказывала мне и о Лондоне, и о Виндзорском замке, куда они ездили, о смене караула у королевского дворца, о раутах у нашего посла.
В Англии у Анатолия и Али образовалось очень приятное общество из числа наших работников. Особенно они подружились с двумя парами. Ваня Котельников, с виду простоватый, но чудесный человек, торговал в Лондоне хлебом. Погруженный в мир агентов, маклеров и брокеров, он увлекся стихией биржи и со страшным риском для себя играл на ней. Если играл удачно, то он зарабатывал Родине деньги, если неудачно, то – брр… Но, кажется, ему везло. Сказывался и опыт. Вторая пара из посольства, мужа не помню как звали, жена же, Вава, была столь прелестна, столь влекла к себе сразу всех. Про таких говорят, что спускать их на пол нельзя ни на минуту. Грех.
С друзьями Ковалевых мы познакомились, когда они все вернулись из Лондона после грозного ультиматума лорда Керзона. И оба – и Ваня Котельников, и муж Вавы вскоре были арестованы. Началось!
Толя по возвращении работал в «Известиях», потом директором Госкультиздата. Одно время он даже остался без работы из-за каких-то неприятностей по издательству, потом в начале 50-х был назначен начальником отдела в Главлите, затем, до конца своих дней, работал заместителем директора издательства «Наука», где ему поручались самые ответственные, самые сложные труды в сфере политики и экономики.
Не помню когда, но, очевидно, пришла пора, и Анатолий сказал нам с Ефимом, памятуя о наших вопросах по «советскому строительству»:
– Ребята, все! Теперь вы сами с усами, можете сами разбираться, что к чему. Баста!
И мы стали разбираться, хотя это было ой как нелегко. Времена наступали все более суровые.
Мы были очень близки с Алей – без нежностей, не принятых в нашей семье. Особенно мы сблизились, когда Ковалевы съехались с мамой, обменяв две комнаты в разных местах на две вместе в коммунальной квартире в Кисельном переулке. И тут Аля окружила маму такой добротой, вниманием, лаской, что просто удивила меня: смолоду у нее таких качеств не замечалось. С зятем у мамы отношения были хорошие, хотя по маминым взглядам, он, как коммунист, был для Али немного парвеню – то есть человеком из другого мира.
Аля все время – до войны и после нее – работала на автозаводе им. Сталина, ныне им. Лихачева, когда директором там был Лихачев. Она всегда говорила, что при Лихачеве следовало бы постоянно находиться бригаде из режиссера, актера и литератора, чтобы фиксировать все его слова, остроумие, находчивость. Бывший матрос, он действительно был самородком из самой гущи народа. Своим неожиданным ответом он мог поставить в тупик любого. Одного человека он не мог переговорить, и сам признавался: «Попробуй, возрази ему! Не получится, своя шкура дороже!» – Это был Сталин.
Аля и Толя жили очень дружно – забыты были прежние огорчения, недовольства, ревности… Аля говорила, что как-то они сидели с Толей вдвоем, потом вдруг крепко обнялись и оба долго-долго плакали… О чем? Что жизнь идет к концу? Что любили друг друга недостаточно? Может быть, каждый невольно просил прощенья за свой характер? Ведь сожительство двух людей, да еще долгое – о, это целый сонм, целая психологическая гамма прилаживания друг к другу двух все-таки совершенно разных людей.
И вот Аля осталась одна. Толя ушел туда, откуда нет возвращения.
Прошло без малого десять лет. Наступил 1988 год. И вот… Аля лежит в больнице старых большевиков – в отдельной палате. Я и моя дочь посещаем ее по очереди чуть ли не каждый день. Первого мая должен был приехать я. И что-то меня дернуло: решил приехать не к часу дня, как обычно, а в полдень. Еду, вокруг бурлит майская Москва, иду по аллее парка, окружающего больницу, поднимаюсь, вхожу в палату… Аля уже меня не узнает. Я говорю: – Аля, Аля. Ответа нет… Оборвалась последняя ниточка, связывавшая меня с далеким детством, с той моей жизнью.
«Энциклики»
Домашняя летопись, начало которой положило, как я уже говорил, маленькое стихотворное поздравление моей сестре в день ее рождения, за шестьдесят лет уже составила три увесистых переплетенных тома. Эта семейная традиция, вероятно, рождалась из суеты праздничных приготовлений, в особенности при встречах Нового года, на которые все наше семейство стало собираться с 1943 года. Участие всех членов семьи в этих хлопотах, желание придать каждой мелочи свой индивидуальный характер – имею в виду подарки, крайне скромные, но отражающие характер готовившего их, споры о том, кто будет представлять уходящий Старый год, кто – Новый, наконец, раздача подарков с указанием кому от кого из мешка – все это и составляло ежегодную программу празднества. В 60-е годы оно вдобавок стало начинаться оглашением моей «энциклики» – названной так по образцу Папского послания верующим, где я в легкой форме касался событий истекшего года. Все это вместе составило традицию Дома, и мои энциклики заняли в ней свое прочное место. Приведу для примера одну из них.
Полны абстракционной прыти,
Бегут минуты. Миг идет,
И празднуем мы все прибытье
Того, чье имя – Новый год!
Да, новый, шестьдесят уж третий,
А шестьдесят второй – прости!
Тебе на полках тьмы столетий
Отныне место обрести…
Все было – радость, счастье, горе,
И все идет, и все – в архив.
Мы – люди, мы – живое море —
Сперва отлив, потом прилив.
Вращается событий призма,
Меняя расстановку сил,
И вот уже Соцреализма
Премьер наш эру возвестил.
Плач в стане рыцарей абстракта.
Умы смутились. Как тут быть?
Кому-то не хватает такта,
Кого-то надо просто бить…
Да, шумно в стане наших войск,
На новизну скупа казна.
Но выпьем мы за вечный поиск.
Наш строй ведь тоже новизна!
Здесь прямой намек на знаменитое посещение в 1962 году Н. С. Хрущевым художественной выставки в Манеже, где он, увидев «Обнаженную» Фалька, скульптуры Э. Неизвестного и ряд других произведений искусства, страшно разгневался. После его визита народ, придя на выставку, первым делом спрашивал:
– Где здесь голая Валька?
Позже власть стала выражать свое отношение к новому искусству с помощью знаменитых бульдозеров, которыми была сметена самодеятельная выставка на пустыре в Новых Черемушках.
«Эффект» Петра Градова
На встрече Нового 1978 года у нас было много народа. Был и Петр Градов, поэт, драматург, член Союза писателей, которого пригласила моя дочь и за которого она вскоре вышла замуж.
Петр Градов, стихотворный талант которого, как мне кажется, особенно хорошо мог бы проявить себя на эстраде, находясь в командировке и уже будучи введенным в нашу семейную традицию стихотворных поздравлений, прислал мне телеграмму. Это было уже в 1980 году, через год после моего 75-летнего юбилея. Четырьмя строками он умудрился достичь главной цели искусства – удивить неожиданностью. Вот они:
День рождения празднует тесть.
Комплимент говорит ему зять:
Неужели вам семьдесят шесть?
А на вид только… семьдесят пять…
Я, конечно, раззвонил об этой телеграмме повсюду. И всюду она имела бурный успех. Моего сослуживца по коллегии Владимира Яковлевича Голдобина это поздравление так раззадорило, что он заготовил несколько поздравлений «на вырост», пользуясь «эффектом Градова».
На 30 марта 1981 г.:
Продолжайте на радость нам всем
Ношу жизни приятную несть.
Неужели вам семьдесят семь?
А на вид только семьдесят шесть.
На 30 марта 1982 г.:
Вам хвалу коллективно возносим.
Ваше творчество нравится всем.
Неужели вам семьдесят восемь?
А на вид только семьдесят семь…
На 30 марта 1983 г.:
Не увидишь такого нигде ведь,
Ах, какая прекрасная осень!
Неужели вам семьдесят девять?
А на вид только семьдесят восемь…
И так далее, остальное я уже забыл.
Внуки: Алеша и Любочка
Постепенно стали выявляться способности у моего внука, сына Оли от первого брака – Алексея, «Кузи», как звали его друзья, сократив фамилию Кузнецов. Плохо одно: что и кисть возьмет – что-то получается, и перо – интересно, возьмется шить – профессионал. Руки у него золотые, вот что главное, и голова полна идей! В чем их только выразить?
В первом классе он писал:
Шел я по земле, по миру,
А за мной бежали единицы.
Дома мне была головомойка.
Лучшая моя отметка – тройка.
Я хороший ученик, в кавычках,
и живу все время на натычках.
Лет в двадцать, по-моему, он начал выдавать стихи, похожие на что-то:
О, Родина!
И просится созвучно
Другое слово.
Я его гоню.
Зато, созвучно Вечному огню,
Я зажигаю свой.
Собственноручно.
В душе. На кухне. Сотню раз на дню.
Все ночи напролет курится ладан
Дешевых сигарет и папирос.
В сплетеньях улиц я бродил и рос,
И в их сетях запутался, и —
Ладно.
Забрезжит день —
Включайся в общий кросс —
Работа – бег на месте – и обратно,
Сквозь город,
Где судьба меня снесла,
Дав лодку, но увы, не дав весла.
Я, впрочем, вплавь пытался многократно,
Чтоб поперек,
Но был, как видно, слаб.
И я плыву средь бревен, жертва сплава,
И будто слышу пение пилы.
Куда плывем мы, тыкаясь в углы?
В зените проплывает чья-то слава,
И жжет затылки – мы еще целы.
Довольно ныть.
Зато ты эти струны
Не оборвал в погоне за грошом.
Ты можешь петь о том, что хорошо,
Когда так плохо, холодно и трудно.
Ты можешь петь о том, что день прошел,
И в гулкий час твой город так чудесен,
Что наплевать на то, что ты устал.
Над нами кто-то крылья распластал
В мерцании волшебных звезд и песен.
Проси Его, чтоб новый день настал.
На мой взгляд, эти стихи и еще несколько других – очень интересны. Но надо было подходить профессионально. Кому-то показывать, поступать в Литинститут, с кем-то встретиться… Нет… Он сразу уходил в свою раковину… И перекидывался на другое.
Кажется, определился. Живопись. Я держу в руках официальную бумагу, датированную 18 ноября 1988 года. В ней говорится, что дирекция выставок и аукционов Советского фонда культуры, что помещался тогда на улице Карла Маркса, принимает несколько работ Алексея Кузнецова, две из которых посвящены В. Высоцкому и А. Башлачеву [130]130
А. Н. Башлачев(1960–1988), поэт, композитор, певец. Яркий представитель отечественной рок-культуры.
[Закрыть]. Позже он с друзьями-художниками поехал в Германию, где их работы выставлялись в нескольких городах.
Бежит, летит время… 1979 год. Вот уже и у Мити родилась дочь. В честь бабушки ее назвали Любочкой. Когда ее привезли из роддома, Людмила Наумовна Давидович сказала Мите:
– Ну вот, ты стал теперь «двуЛюб».
Бабушка души не чает в своей внучке – наконец-то в семье опять появилась девочка. Люба-маленькая ходит в английскую школу и занимается параллельно в художественной – определенные способности есть. Я даже удивляюсь, насколько твердые у нее линии, «жесткая» рука – рисует как печатает, режет гравюры по линолеуму. Может, в третьем поколении, в моих внуках, аукнулся мой АХРР?
Золотая свадьба. Живем дальше!
И вот свершилось: 15 июня 1982 года. Золотая! Доехали! Помню фотографии пар, достигших золотой свадьбы – седые, толстые, неподвижные. Мы же с Любой еще пока шевелимся. Мой зять, Петр Градов, так отозвался на это событие:
Вы у нас не из бронзы литые,
Не чеканены вы серебром,
Золотые мои, золотые,
Вам сегодня хвалу мы поем!
Если радость свою ты разделишь,
Больше станет она во сто крат.
Это все испытать вы успели
За свои, Бог ты мой, пятьдесят!
Всех друзей перечислить непросто,
Всю семью невозможно учесть —
Дети, внуки и правнуки, сестры.
Даже зять сочиняющий есть.
И для всех очень зримым примером
Вы сегодня являетесь вновь:
В ваших душах – Надежда и Вера
И Любовь, и, конечно, Любовь!
Вы, как прежде, у нас молодые,
Не померкло сияние глаз.
Золотые мои, золотые,
Как же «горько» не крикнуть сейчас!
Приснись мне, Ефим!
В руках у меня солидный том – «Дождь пополам с солнцем», выпущенный издательством «Советский писатель» (1989), который презентовала мне вдова Ефима, Надя. Издан он превосходно, с суперобложкой, с иллюстрациями художницы Татьяны Мавриной, с которой при жизни Ефим дружил. В этом томе собрано почти все, что написал в течение десятилетий мой ближайший друг Ефим Дорош.
Я смотрю на фотографию, сделанную летом 1936 года в Малаховке, где мы с Дорошами снимали дачи. На фото мы с Ефимом стоим рядом и держим за руки наших детей, Илюшу и Олю. Я всегда удивляюсь, какие они крошечные здесь, наши дети. Сколько воды утекло с тех пор…. Илья теперь высоченный дядя, лауреат Государственной премии, руководитель одной из тем в радиофизическом НИИ, Оля уже почти тридцать лет работает в НИИ искусствознания (бывший Институт истории искусств), старший научный сотрудник, специалист по эстраде.
Вспоминаются забавные эпизоды того малаховского лета. Я у Ефима. Кстати, тогда же говорили, что, случись нам (тьфу-тьфу!) просидеть в одной камере десять лет, мы бы, выйдя на свободу, остановились и еще долго разговаривали, заканчивая давным-давно начатую беседу. Итак, мы неторопливо говорим о чем-то, Надя, жена Ефима, хочет к нам присоединиться, укладывает Илюшу в кроватку, укрывает его. Слава Богу, теперь она свободна, Илюша сейчас заснет! Из-под одеяла выглядывает его очень соблазнительно розовая пяточка. Я не могу удержаться и тихонько щекочу ее. Илюша повизгивает от удовольствия. Надя, не заметив моих действий, воспринимает факт: ее сын не собирается спать.
– Ах ты, негодник! Долго ты еще собираешься меня мучить?
И шлеп, шлеп! Илюша плачет, я признаюсь в своей вине. Мальчик поцелован, мир восстановлен. Мы отдаемся разговору.
Или еще о наших детях. Илюша тихо играет один, ему никто не нужен. Он устроил себе лавочку, разложил на «прилавке» товары. Но тут, как рок, приближается Оля. Он торопливо говорит:
– Лавка закрыта на обед!
Но это не помогает. Вся его лавочка подвергается разгрому.
Повторяю, шел 1936 год. Сколько веселья, сколько милых гостей бывало у нас! По субботам, мягко ныряя в колдобинах, тихо подъезжал «линкольн» заместителя наркома финансов Левина, который по дороге завозил к нам Алю, работавшую тогда в Наркомфине стенографисткой. По-видимому, он любил Алю. Вскоре он был арестован и сослан.
Однажды мы устроили проводы лета. После бурного застолья, взявшись за руки, мы устроили пляски. В пляске участвовала и Надя с Илюшей на руках. При каком-то ее пируэте он выскользнул у нее из рук и оказался на земле. Ефим очень серьезно сказал:
– В следующий раз нужно, чтобы хоть один человек в нашей компании был трезв.
Юра Каравкин, первый муж Али, хихикнув, тут же отметил:
– Один из нас и был трезвый.
– Кто?
– Илюша.
Привожу я этот эпизод для того, чтобы подчеркнуть, что никакие трудности не сказывались на нашем веселье в то время. Плохие жилищные условия, чрезвычайно скудное питание – ничто не могло сдержать нашу бурлящую энергию.
В то время Ефим, кажется, и зимой жил на даче в Малаховке. После нашей поездки в Кронштадт Ефим постепенно набирал силу. Он стал «военным» писателем, выпустил сборник «Военное поле». Потом был членом редколлегии журнала «Знамя», позже перешел на ту же должность во вновь организованный журнал «Москва», затем в «Литературную газету».
По командировке газеты он однажды поехал в Ростовский район Ярославской области. Попал в колхоз им. Кирова, где председателем был Иван Александрович Федосеев, личность в своем роде замечательная. Я уже упоминал о нем в связи с историей о «выкупе» у государства тюрьмы и о том, как мой студент Соболев воспользовался этим сюжетом. Иван Александрович стал главным героем дневников, которые начал вести Ефим. В дни хрущевской оттепели Союз писателей выпустил два тома литературного альманаха «Литературная Москва» (1956). Э. Казакевич, руководивший выпуском альманахов, прочитав дневники Ефима, решил их напечатать под общим названием «Деревенский дневник». Они вышли в первом томе альманаха, имели заслуженный успех. Не случайно, что вскоре последовало приглашение от А. Твардовского стать членом редколлегии журнала «Новый мир» и заведовать отделом прозы.
Ростовский район сам по себе чрезвычайно интересен. Заселен давно, население было поначалу угро-финского происхождения, отчего пошли названия деревень – Шурскол, Пужбол и другие. Когда в середине 50-х я бывал с Ефимом в районе Ростова, то на каждом шагу сталкивался с традициями, укладом жизни, уходившими в глубь нашей истории. Издревле крестьяне здесь славились огородничеством, основной культурой был лук. Процветал художественный промысел – производство изделий из финифти. На наших глазах началось восстановление Ростовского кремля, величайшего памятника архитектуры XVII века, созданного при митрополите Ионе. Кстати, Иона известен не только тем, что при нем возводились грандиозные церковные здания, но и своим активным содействием распространению просвещения и горячей поддержкой просвещенных людей своего времени. Помимо «Деревенского дневника» ростовский период своей жизни Ефим подытожил и написанием текста к художественному альбому «Ростовский кремль» с прекрасными фотографиями своего сына Ильи и небольшой книжкой «Слово о Ростове Великом» [131]131
Дорош Е.Ростовский кремль. «Советский художник», 1997; Слово о Ростове Великом. «Знание», 1965.
[Закрыть].
В прошлом Ростов, как и многие другие провинциальные города, жил активной культурной жизнью. Здесь было много интеллигенции, издавались краеведческие исследования. В то время, когда Ефим попал туда, общественности в старом, дореволюционном смысле уже не было, правда, оставались отдельные интересные личности, осевшие в Ростове после ссылки. Я с ними со всеми перезнакомился. Это был Владимир Сергеевич Баниге, потомственный интеллигент из Питера, архитектор, занимавшийся восстановлением Ростовского кремля, преподаватель местного училища Николай Васильевич Чижиков, Алексей Владимирович Смирнов, москвич, составивший описание Ростовского района с подробным анализом знаменитой сапропели – плодородного ила озера Неро.
Удивительны были рассказы Алексея Владимировича об одной из замечательных ростовских женщин, Ирине Мусиной-Пушкиной, урожденной Луговской. Против воли отца она ушла из дома и вышла замуж за Богдана Мусина-Пушкина. Вместе со своим мужем она, под видом младшего брата Богдана, пошла с ним на войну с Литвою. Ирина показала выдающуюся храбрость под стенами Смоленска, где русским войском командовал ее отец, боярин Луговской. Оба «брата» за храбрость были щедро награждены царем, и Ирина получила прощение своего отца.
Поселившись в селе Угодичи, супруги собирали древние рукописи и вели обширную переписку с иностранцами, проживавшими в Москве и за пределами Московского государства. В 1672 году Богдан Алексеевич Мусин-Пушкин напечатал в Москве «Книгу о славяно-русском народе и великих князьях русских, отколе произведен корень их на Руси». После доноса на Ирину – «за связь с немцами», на ее защиту встал сам владыка Иона Сысоевич и поддержал ее.
Летом Ефим с семьей жил в этом же районе, в деревне Пужбол, у Натальи Александровны Смолиной. Чистый домик, трудолюбивая хозяйка, все ухожено, все хорошо. Прибежит из колхоза, ляжет поперек кровати – хоть минутку отдохнуть. Все как будто бы благополучно, только что вдова. Сама хозяйка никогда об этом не говорила, у соседей узнали. У нее был муж, хороший хозяин, все у него шло ладом. Но чем дальше разворачивалась поголовная коллективизация, тем больше у него болело сердце. Он чувствовал, что когда начнется «раскулачивание», его вышлют одним из первых, а за ним жену и двоих ребятишек в неизвестные края, на верную смерть. И чем больше он думал, тем меньше находил выходов. Наконец он решился. Если его не будет, неужели стронут с места Наталью с ребятами? И он решил уйти. Совсем уйти из жизни. Любя жену и ребят, он решил пожертвовать собой, лишь бы спасти их. Он повесился. Жену и детей не тронули.
Будучи всецело занят колхозными делами, председатель Иван Александрович, как рачительный хозяин, прикидывал построить в своих владениях шоссейную дорогу. Но с колхозными средствами ему это было не под силу. Почему бы не обратиться за помощью к писателям? Он знал, что в то время у меня был успех, мои пьесы ставились и делали хорошие сборы. Это и привлекло его внимание. Он намекал, чтобы я оплатил материал, а за Ефимом оставалась бы оплата работы.
– Чехов, Антон Павлович, – говаривал он, несколько на «о», – школу крестьянам построил…
Со своей точки зрения Иван Александрович был совершенно прав: писатели черпают материал от людей на земле. Полученные ими деньги должны совершить кругооборот и вернуться на исходные позиции.
Мы с Ефимом полусмущенно похихикивали.
Ефим ушел из жизни в 1972 году. Был в Болгарии, упал, и с тех пор у него стал болеть затылок. Потом возникла необходимость в операции. Ефим больше года лежал дома – совершенно безжизненным. Что он испытывал, был ли он в сознании? Зайдя как-то к нему, я, стараясь его развлечь, рассказывал разные новости. Между прочим, я рассказал о том, что Люба в больнице – сильно отравилась чем-то несвежим. И вдруг Ефим совершенно твердо произнес:
– Решилась-таки.
Это замечание Ефима, свидетельствовавшее об абсолютном присутствии сознания, даже иронии, делало момент еще трагичнее.
Все это я вспоминаю сейчас с немалой долей грусти еще и потому, что к концу шестидесятых годов наши отношения что-то начали расклеиваться.
То ли мы повзрослели, то ли наши судьбы складывались по-разному. Может быть, на Ефима подействовала его работа в «Новом мире», наиболее передовом, прогрессивном литературном журнале по меркам тогдашнего общественного сознания, что давало ему право смотреть на мир несколько свысока, в особенности на нас, драматургов, представителей диаметрально противоположной ему, как очеркисту, стихии.
Ефим, по всей вероятности, не принимал того, что я пишу, а может быть, он и вообще разочаровался в моей личности? Уже сейчас, в 1990 году, я обратился с этим вопросом к Наде, его вдове, пытаясь выяснить, что же послужило причиной охлаждения Ефима ко мне?
Надя категорически отвергла такую постановку вопроса. Она сказала, что просто он считал, что в своем творчестве я должен был развивать то, что я лучше всего знаю – деревенскую тему. А я, по его представлению, увлекся своим успехом и не работал в этом направлении.
Мне кажется, все здесь несколько глубже.
Ефим – очеркист. Профессия драматурга, думается мне, диаметрально противоположна профессии очеркиста прежде всего потому, что очеркист ни на минуту не отрывается от явлений, окружающих нас. Драматург же должен всегда интерпретировать явление, раскрывать его, придумывать, додумывать, а главное – изобретать. Работа драматурга по своему характеру изнурительней, она скорее исчерпывает силы человека, тут возможны кризисы, спады.
Очеркист же, при наличии таланта, наоборот, с каждым годом набирает силу, потому что жизнь всегда окружает его. Я уже не говорю, что судьба драматурга во многом зависит от позиции театра.
Что касается моего успеха, то я, как писал об этом выше, ни один день не чувствовал себя спокойно, я хотел продолжать работу, искал материал, ездил, но что-то застопорилось, не получилось. И не случайно я перешел на работу в кино.
Потом я опять стал писать пьесы, не хуже, если не лучше прежних, но театры к тому времени забыли меня – и это уже бесповоротно.
Выполнить желание Ефима я попросту не мог, потому что деревенская тема для меня в то время была уже исчерпана двумя пьесами, которые сперва были отмечены, потом обруганы. Я искал новое для себя, но не находил.
Но парадокс профессии: будучи уверен, что мой способ познания жизни выше, объемнее, чем у очеркиста, отметая прямую опору на жизнь, характерную для очеркиста, отдавая преимущество фантазии художника, я, как драматург, в то же время хранил в своей душе некую тайну. Про себя я как бы стыдился своей смелости, своего полета, своего творческого бесстрашия. Я всегда был готов – да, да, да! – припасть к коленам этой самой проклятой действительности, просить прощения за свою дерзость… И в этом отношении талантливый писатель-очеркист вырастает для драматурга в фигуру почти равную этой самой действительности. Он – правда, я – вымысел. Но вымысел, каким бы ярким он ни был, всегда, увы, даже против воли, чувствует себя в долгу перед правдой. Это объективный закон.
Мне периодически снится Ефим. И снится непросто. Он жив в моем сне, и я испытываю какую-то неловкость, необходимость в чем-то оправдаться, освободиться от некой тяжести.
Почему мне так необходимы эти сны?
Может быть, от ощущения какого-то невыплаченного долга. Перед кем? Перед страной, перед Ефимом, перед самим собой? Может быть, что-то я «недовложил», недостаточно выдал из того, чем когда-то был полон?
Но тогда Ефим для меня – не образ ли моей неспокойной совести, которая, если она есть, никогда не спит в человеке?
Может быть, и правда, а?
Ответь, Ефим! Снись мне, снись! Умоляю тебя!







