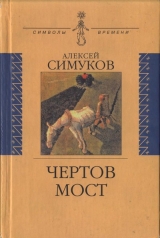
Текст книги "Чертов мост, или Моя жизнь как пылинка. Истории : (записки неунывающего)"
Автор книги: Алексей Симуков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 41 страниц)
Вождь бдит. Пигмеи и сверхчеловеки
Со времени победы над фашизмом прошло два с половиной года. Страна распрямлялась после военной разрухи. Герои, отстоявшие в страшных боях нашу Родину, освободившие от фашизма многие страны Европы и увидевшие иной, непривычный им мир, жизнь в нем простых людей, стали все больше задумываться: ведь можно же жить по-другому, и как!
Видимо, задумалось в связи с этим и наше вечно бдящее руководство, но в ином ключе…
И вот, 28 января 1949 года, в органе ЦК ВКП(б) газете «Правда», появилась статья «Об одной антипатриотической группе театральных критиков», где объяснялось, что наше прекрасное будущее под угрозой. Оказывается, уже давно под наше общество ведется подкоп, и копают ни кто иные, как группа театральных критиков (почему театральных?) – Александр Борщаговский, Григорий Бояджиев, Абрам Гурвич, Леонид Малюгин, Ефим Холодов, Яков Варшавский и Иосиф Юзовский – большинство с еврейскими фамилиями. В статье говорилось, что «в театральной критике сложилась антипатриотическая группа последышей буржуазного эстетства, которая проникает в нашу печать и наиболее развязно орудует на страницах журнала „Театр“ и газеты „Советские искусство“. Эти критики утратили свою ответственность перед народом; являются носителями глубоко отвратительного для советского человека, враждебного ему безродного космополитизма; они мешают развитию советской литературы, тормозят ее движение вперед. Им чуждо чувство национальной советской гордости». Утверждалось далее, что они, «шипя и злобствуя, пытаясь создать некое литературное подполье… охаивали все лучшее, что появлялось в советской драматургии», что «…эстетствующий формализм служит лишь прикрытием антипатриотической сущности». О критике Ю. Юзовском говорилось, что он «<…> цедя сквозь зубы слова барского поощрения, с издевательской подковыркой по линии критики сюжета пишет о пьесе <…> „Победители“ Б. Чирскова, отмеченной Сталинской премией…».
Не успело наше общество переварить эту сенсационную информацию, как в Центральном доме литераторов было созвано экстренное собрание московских писателей с докладом руководителя Союза – Александра Александровича Фадеева.
Я был на этом собрании, сидел на балконе второго этажа со своей приятельницей, критиком Софьей Тихоновной Дуниной.
Фадеев, со свойственной ему ясностью и четкостью, сообщил нам, что в нашей писательской среде, действительно, долгое время орудовали «безродные космополиты», чуждые нам, мешающие развитию родной литературы, а следовательно, поступательному движению всего нашего общества вперед, к сверкающим вершинам коммунизма.
В разгар этой речи в зале неожиданно потухло электричество. Новые козни врагов народа! Но администрация не растерялась, были найдены свечи, и доклад продолжался уже при свечах. По накалу слов, по всей обстановке, с длинными тенями, падающими от сидящего на эстраде президиума, наше собрание показалось мне заседанием Комитета общественного спасения эпохи французской революции, с выступлением вождя якобинцев Робеспьера, держащим одну из своих знаменитых убийственных речей против жирондистов.
Так вот оно в чем дело, – дошло до нас!
– Сейчас прольется кровь, – прошептал я своей приятельнице.
Она только качнула головой. Доклад продолжался. Были названы имена, на которые мы должны были обрушить наш праведный гнев, – имена, как я сказал, почти сплошь еврейские, один русский сюда затесался – Леонид Малюгин, да еще пара-тройка критиков иных национальностей. Так вот, значит, они те самые, которые мешают нам построить нашу замечательную, счастливую жизнь! Космополиты!! Им все равно где жить, они готовы отдать свое социалистическое первородство за чечевичную похлебку иностранного происхождения! Ату их!
После доклада приступили к действиям. В качестве ответчика на трибуне появился Юзовский, человек субтильного сложения, говорящий с характерным акцентом. На него из президиума накидывался огромный Аркадий Первенцев, журналист.
– Что вы делали тогда-то и тогда-то в ресторане «Арагви»? – гремел голос Первенцева.
– Мы? Мы пили, – отвечал Юзовский.
– Ложь! Вы составляли заговор против советской литературы! Признавайтесь!
Дальше шло уже совершенно непонятное. Я бы никогда этому не поверил, если бы не слышал этого сам, своими ушами. Юзовский говорил:
– Начитавшись Ницше, я вообразил себя сверхчеловеком…
– Да какой вы сверхчеловек? – грохотал, прерывая Юзовского, Первенцев. – Пигмей вы!
И действительно, рядом с Первенцевым это выглядело именно так. Все напоминало заранее тщательно отрепетированную сцену, вплоть до мизансцен.
– Самое ужасное, – прошептала мне Софья Тихоновна, – что позавчера на собрании ВТО он говорил то же самое, теми же словами…
Через несколько дней, встретив в Лаврушинском переулке Юзовского, я вытаращил глаза: жив, здоров, не арестован?
Сейчас я пытаюсь найти для этой акции Сталина соответствующее историческое объяснение. Мы много спорили тогда. Ведь когда Фадеева вызывали для «накачки» «наверх», он мог бы сказать, что, по его мнению, это неверно, преувеличенно, может вызвать ненужное раздражение в Европе – однако он, похоже, смолчал. И это выступление, видимо, вспомнилось ему перед роковым выстрелом, когда он покончил счеты с жизнью.
Кажется, эта акция была частью большого сталинского плана, использовавшего старую царскую практику – натравливать общественное мнение на евреев, когда нужно было «успокоить» народ. Невольно приходит аналогия, никакого отношения к антисемитизму не имеющая, – война 1812 года, победоносное вступление наших войск в Париж. Тогда, после победы над гениальным полководцем, наш народ, насмотревшийся на жизнь простого люда за рубежом, ждал каких-то акций от своего правительства, которые облегчили бы его существование. Однако ответом были военные поселения, дальнейшее закабаление крестьянства. Интеллигенция, чувствуя это, пыталась заговором изменить историю, освободить народ – и вывела солдат на Сенатскую площадь.
Похоже, что наше руководство хорошо усвоило этот исторический урок. Опасаясь взрывов массового недовольства, Сталин решил прибегнуть к старому испытанному способу – антисемитизму, указав на конкретного «виновника» послевоенных невзгод. Послушное общество «клюнуло» на эту наживку, взрыва не состоялось.
Затем, в начале 1953 года, последовало «дело врачей». И, наконец, подготовленное, но не доведенное до конца тотальное переселение евреев, якобы в Биробиджан, а на самом деле – в концлагеря, в Сибирь. Я слышал – правда, это больше похоже на легенду, – что будто бы состоялось заседание Политбюро, на котором Молотов проинформировал, что его навестил господин Сульман, шведский посол, глава дипломатического корпуса, и сделал следующее заявление:
– До дипломатического корпуса доходят сведения о готовящейся акции против евреев. Если это произойдет, Советская страна будет объявлена страной нон-грата, дипломатический корпус в полном составе покинет Москву, и Советский Союз будет исключен из числа цивилизованных государств.
По этой же легенде, после сообщения Молотова наступила долгая пауза, которую нарушил Хрущев, спросивший Сталина – какой экономический эффект даст эта мера? Похоже, что Никита Сергеевич вспомнил «хрустальную ночь», устроенную штурмовиками Гитлера, которая сопровождалась массовым ограблением еврейства.
Сталин ничего не ответил Хрущеву, прервал заседание, взял машину и долго ездил по ночным улицам Москвы, после чего отправился на свою дачу. В еврейском варианте этой легенды – якобы в ту ночь с нашим «отцом» и случился удар. Вот так.
Театр на Таганке: не этот, а тот! Фирс Шишигин
В Театре драмы и комедии на Таганке, не в теперешнем, а в том, старом, главным режиссером был Александр Константинович Плотников. Актер громадной силы, он, как и многие, погнался за миражом. Стать во главе театра, повести его вперед, к новым высотам… И… закопал свой могучий талант. Недавно я смотрел его последнюю роль – мужика в фильме «Белая птица с черной отметиной». Какая сила! А руководить театром, да еще режиссировать при этом – тут нужны совсем особенные силы.
Ставить мою пьесу «Воробьевы горы» поручили Фирсу Ефимовичу Шишигину. В Москве он только пробовался, хотя уже имел опыт режиссуры в провинции: в 1933–45 гг. был художественным руководителем театров Дальнего Востока (Уссурийского, Владивостокского и других).
Фирс Шишигин поставил крепкий спектакль. Особенно отличилась актриса Славина в роли Кольки, младшего брата героя пьесы, Левы. «Воробьевы горы» шли достаточно широко, но пересеклись с одновременно вышедшей пьесой Л. Гераскиной на близкую тему – «Аттестат зрелости».
С премьерой пьесы у меня связан незабываемый вечер – премьерный банкет. Это прекрасный, кстати, обычай, и напрасно некоторые драматурги стали им пренебрегать. Банкет был назначен в «Каме», небольшом ресторане, находившемся тогда рядом с Театром драмы и комедии. Сегодня, глядя на грандиозное новое здание Театра на Таганке, это кажется каким-то сном.
Прошло более сорока лет, а слезы навертываются, когда я вспоминаю эти минуты! Как я их всех любил, моих дорогих актеров, как хорошо нам было! Это был дивный праздник – по какой-то особой атмосфере, которая царила тогда у нас. Я был счастлив. Помню, что какие-то двое завсегдатаев ресторана задержались и, видя наш праздник, попросили дать им слово. Они сказали, что такой атмосферы всеобщей радости, товарищества никогда не видели.
Вообще я начинаю понимать, что, принеся свою пьесу в театр, ты должен как бы проститься с ней. Она делается уже не только твоей, вернее, совсем не твоей. И режиссер, и актеры создают что-то новое. Твоя пьеса – только исходный материал, в который они вкладывают, как им кажется, так много своего труда, что вроде и не существует такого вознаграждения, которое хоть в какой-то степени могло бы компенсировать их усилия. Отсюда и та бытовавшая легкость, с которой они относились к автору, беря у него деньги в долг, угощаясь за его же счет. Более того, актеры искренне считали, что ты их должник. Кто-то сказал и очень правильно: «Актеры – что дети».
В Театре на Таганке у меня шло одновременно три пьесы. Иногда, на школьных каникулах, были дни, когда играли только мои вещи. Два спектакля «Семь волшебников» утром и днем, вечером – «Воробьевы горы». Поневоле тут почувствуешь себя должником. Я поил актеров, отказа никогда не было, но все время ощущал при этом какой-то дискомфорт. Очевидно, «задолженность» драматурга перед актерами ничем погасить нельзя – это закон театральных отношений. Тогда я этого не понимал и однажды даже поинтересовался у одолжившего у меня деньги актера, когда он мне вернет долг? При этом я наткнулся на такое недоумение, что понял – мой вопрос был, по меньшей мере, «неэтичен». Виноват, я ведь тогда искренне стремился понять актеров, их особый мир и свое место в том мире. Все это, только не в такой примитивной форме, относится и к режиссуре. Ох, поздно я понял, что с режиссерами тоже надо дружить и дружбу эту поддерживать любыми способами. Это касается большинства режиссеров. Видимо, таков жизненный закон.
В один из вечеров около театра остановился большой черный автомобиль. Шли «Воробьевы горы». Из машины вышли: Н. Михайлов, тогдашний первый секретарь ЦК ВЛКСМ, с женой и сыном, и два секретаря ЦК ВЛКСМ – А. Шелепин и В. Кочемасов. Они приехали смотреть спектакль. О! Это что-то означало! Мы ходили не дыша. Мы – это Плотников, директор театра Богатырев, я и Шишигин. В антрактах старались не попадаться высоким гостям на глаза. После окончания представления Михайлов объявил, что ЦК ВЛКСМ в их лице высоко оценивает спектакль и выдвигает его, вместе с автором, на Сталинскую премию.
– Пить будем вместе! – пообещала мне на прощание супруга Михайлова.
Да-а, это было переживание! И все-таки сил у комсомола в Комитете по Сталинским премиям не хватило. Премии я не получил. Что делать? Очевидно, моя планида такая.
Хочу вернуться к Фирсу. Какая это была сочная, выразительная фигура! Причем жена Фирса считала, что ее Фирс – это ягненочек, а сбивает его с пути все время Симуков. Моя же Люба пеняла на Фирса, дескать, он – змей-погубитель. Когда он появлялся у нас и садился за пианино, начиналось!
«Вечер черные брови насупил.
Чьи-то кони стоят у двора.
Не вчера ли я молодость пропил,
Разлюбил ли тебя не вчера?»
Моего сына Митю Фирс упорно величал Васей. Митя очень расстраивался из-за разгульного шума, который всегда сопутствовал Фирсу… Был он талантлив, широк душой и поступками, но не всегда соизмерял их с реальной жизнью.
Как-то, будучи у меня, он смотрел телевизор. Там выступал Евгений Сурков, рассказывал о творчестве Леонида Леонова. Упоминался Чернышевский, Достоевский. Леонов, почтенный академик, и сам появлялся на экране, на фоне портретов классиков, что-то произнося. Разгоряченный Фирс, которому не понравились ни Сурков, ни Леонов, тут же по телефону отстукал телеграмму с текстом типа: «Я вас любил, но вы меня разочаровали». Подписался – Фирс Шишигин. Телеграмма ушла.
Леонов, очевидно, как депутат Верховного Совета СССР, тут же установил, откуда была послана телеграмма. Все было ясно: автор Симуков, да еще подписался выдуманной фамилией, в стиле ранних произведений Леонова. Вскоре я получил от него отменно вежливое письмо, каждое слово которого было пропитано убийственным для меня содержанием. Я понял: с депутатом шутки плохи и помчался в Ярославль, где Фирс уже был главным режиссером. Я сказал ему: немедленно пиши письмо Леонову. Хватит шуток! И Фирс письмо написал и признался, что крамольную телеграмму послал он и что его действительно зовут Фирс Шишигин.
Но если сейчас посмотреть – что тут такого? Писатель одному нравится, другому – нет. Но тогда были иные времена…
Фирс, где бы он ни был руководителем театра, всегда пользовался покровительством первых секретарей. Всюду он считался «своим».
Но иной раз он попадал в переплеты.
Дело было в Волгограде. Отыграли последний в этом сезоне спектакль, закрылись до осени. По такому случаю было принято – сами понимаете – сколько. И вот в утренние часы, когда Фирс спит, как говорится, без задних ног, раздается звонок. Жена его Лида, тоже спросонья, поднимает трубку. Трубка вежливо сообщает, что говорит первый секретарь обкома. Остатки сна у Лиды моментально исчезают: – Да, я вас слушаю…
– Позовите, пожалуйста, Фирса Ефимовича…
– Он…
– Он дома?
– Да… Он… он вам сейчас же будет звонить…
Лида бросается к Фирсу, толкает, бьет его, добиваясь, чтобы он раскрыл глаза: «Первый звонит!» Наконец, Фирс открывает глаза.
– Немедленно звони Школьнику!
Фирс трезвеет. Он кидается в горячий душ, приводит себя в мало-мальски приличный вид, звонит «на задних» в обком.
– Фирс Ефимович?
– Да.
– Будьте добры, сегодня дать спектакль (не помню уже какой), у нас в гостях маршал Фын Юн Сян. Пожалуйста!
– Но, – пробует сказать Фирс, – сезон закончен, я уже распустил актеров…
– Так вот, – невозмутимо продолжает голос, – сегодня мы будем у вас. Вы поняли?
– Понял.
Трубка повешена. С первыми секретарями не поговоришь! Если сказал «надо!» – значит, должно быть. И вот начинается бешеная работа: два актера сидят уже в поезде, ждут отправления. Впереди долгожданный отпуск на юге, на столе – коньячок… Уже свисток, но… Поезд задерживается… В купе вламывается милиция, и рабов божьих вытаскивают из вагона. И так далее. Кто уехал к теще, кто куда, но успевают к вечеру собрать всех, кроме одного. Этот актер, играющий характерные роли, – страстный рыболов, укатил куда-то на рыбалку. У нас шутить не любят. Начальник областного МГБ берет быстроходный катер, начинает объезд всех уголков и затонов великой реки – нет нигде актера. А вечер вот-вот… и заменить этого актера некем. В последний момент его обнаруживают на какой-то захудалой базе МГБ же, где он, в компании с начальником базы, мирно распивает бутылочку… Времени остается так мало, что высокое начальство командует:
– За мной!
Актер привычно поднимает руки и только спрашивает:
– За то самое?
Он привык уже к тому, что его не раз таскали за то, что он был белым офицером.
У Фирса же гора с плеч – восстановлено последнее звено этой великой цепи.
Играется спектакль, после спектакля в честь китайского маршала дается банкет, Фирс пытается вместо водки подливать себе воды, но маршал говорит по-русски, покачивая головой:
– Ай-ай, Фирс Ефимович, вы ли это?
Вот так у нас когда-то решались вопросы. Проблем, как говорится, нет.
Фирс был родом из Архангельской губернии. Его предки еще при Марфе-Посаднице [84]84
Вторая половина XV – нач. XVI в. Марфа-Посадница (Борецкая) – глава партии новгородских бояр, враждебных великому князю московскому Ивану III.
[Закрыть]были сосланы на север – «по отнятию ноздрей». Память об этом надолго сохранилась у людей, и Фирса в детстве так и дразнили мальчишки, хватая за нос и крича «рваные ноздри»! Распоряжение насчет ноздрей отдал когда-то наш Иван Васильевич IV, укрощая новгородскую вольницу.
Он успел стать любимцем Екатерины Алексеевны Фурцевой, нашего министра культуры, ему было присвоено звание народного артиста СССР. Позже он прославился спектаклем о Кольцове в Воронежском театре.
К концу жизни Фирсу пришлось оставить пост главного режиссера в Ярославле и перейти на директорство в театральном техникуме… К сожалению, даже его могучая натура не смогла выдержать постоянного приема алкоголя в таких количествах, и мой друг Фирс в 1964 году покинул нас. Мир его праху!
«Девицы-красавицы». Домик в Коломне семейства Чекалиных. Режиссеры Мокин и Медведев
В 1951 году Михайлов, очевидно, вспомнив свой визит в театр Плотникова, пригласил меня к себе в ЦК ВЛКСМ. Принял он меня очень ласково и попросил подумать о пьесе, посвященной молодым рабочим. Я обещал подумать.
У меня был приятель, притом близкий, Абрам Самойлович Лавут. Он руководил художественным коллективом на паровозостроительном заводе в городе Коломне Московской области. Я решил: съезжу-ка я туда… Посмотрю, не откроется ли для меня жизнь, не подбросит ли какой-нибудь сюжетец? И поехал в Коломну.
Так начался для меня коломенский период. Я знакомился с провинцией. Надо сказать, что в Коломне того времени было два крупных, всесоюзного масштаба, завода – паровозостроительный и артиллерийский. На другом берегу реки был еще цементный завод, тоже весьма солидный.
Когда я появился, в Коломне только что был пущен трамвай.
Я отправился к парторгу ЦК, который потом был первым секретарем Коломенского горкома, а впоследствии в течение долгих лет возглавлял московский областной комитет партии. Он направил меня в комитет комсомола, а там, поразмыслив, посоветовали пойти на револьверный – по названию станков – участок механического цеха. Я и пошел. И что же я увидел?
Молодой, восемнадцатилетний парень возглавляет этот участок. Под началом у него человек шестьдесят молодых девчат – мужчины полегли на войне – и три сменных мастера уже пожилого возраста. Ситуация для драматурга крайне привлекательная. Тут не надо много придумывать. Жизнь все сказала за меня. Я познакомился с народом, и работа над пьесой началась.
После обустройства в гостинице я отправился во Дворец культуры к Абраму Самойловичу Лавуту.
Для характеристики культурной обстановки на заводе приведу следующий эпизод. Мой Лавут, вечно горящий идеями, предлагает в парткоме некоему Дьячкову план: он, Лавут, договаривается с Назымом Хикметом [85]85
Хикмет, Назым Ран(1902–1963), известный турецкий поэт, драматург, общественный деятель. Из-за преследования властей бежал в 1951 году в СССР.
[Закрыть]о его выступлении в сборочном цехе.
– Представляете картину? – наступал он на Дьячкова. – Известный турецкий поэт у рабочих? Связь искусства с массами… Грандиозная картина!
– Так… Хикмет… – Долгое раздумье Дьячкова, потом некоторое оживление. – А футбол у нас когда? – И снова долгая пауза. И потом, очевидно, приходит решение: – Слушай, а на хрена нам нужен этот твой Хикмет? – И затея с приглашением великого турецкого писателя была похоронена.
Абрам Самойлович ввел меня в местное общество, познакомив с семьей Чекалиных, у которых я стал частенько бывать.
Это был чудесный, гостеприимный дом старых жителей Коломны – Василия Васильевича и Елизаветы Афанасьевны. Василий Васильевич – мягкий, весь какой-то бесплотный, в прошлом работал в Питере у Фаберже и понемножку занимался своим тонким делом для знакомых. Елизавета Афанасьевна – вся порыв, всем интересовалась, а уж театр – это был ее праздник. Ее отец, начальник цеха цементного завода, страстный лошадник, натура по всему «игроцкая», увлекался лошадьми, водил компании, пел, аккомпанируя себе на гитаре, кутил и был, как я понял из намека Елизаветы Афанасьевны, в близких отношениях с графиней Келлер, местной помещицей, кстати, взявшей на воспитание Елизавету Афанасьевну. Отец Елизаветы вскоре был убит при таинственных обстоятельствах – то ли цыганами, то ли другими, случайно встреченными людьми на конной ярмарке. Единственную свою дочь Маргариту Елизавета Афанасьевна страстно мечтала выдать замуж за представителя какой-нибудь интересной интеллектуальной профессии. Но, как это бывает, – не получалось и не получилось.
Ах, Елизавета Афанасьевна! Наверное, кровь отца бурлила в ее жилах. Ей хотелось страсти, порывов чувств, чего она не могла дождаться от тишайшего Василия Васильевича. Она мне рассказывала, что иной раз, не выдержав его обычного спокойствия, она выходила из дома и некоторое время сидела на скамеечке перед домом, потом возвращалась.
– Где была? – спокойно осведомлялся муж.
– Где была, там меня теперь нет! – с гонором отвечала жена, как бы намекая этим ответом, что она была у-ух где и, главное, с кем!
Но Василий Васильевич был далек от этих мыслей, и затея вызвать у него ревность не удавалась.
У Чекалиных когда-то был хуторок на Оке, куда к ним ездили многие москвичи, в том числе и Цицин, известный селекционер. Они вспоминали о своем хуторке, как о чудесном, незабвенном времени. Это было еще тогда, когда в Оке ловились стерлядки и Чекалины делали икру.
Подружившись с Чекалиными семьями, мы нередко потом ездили из Москвы на машине в Коломну и дальше, на Оку, где когда-то был чекалинский хуторок. Теперь там ломали камень, и от прошлого ничего не осталось.
Наше семейство располагалось на ночлег на берегу Оки. Горел костер, спали мы в шалаше, ловили рыбу, и было нам всем очень хорошо.
У всех моих дом Чекалиных остался в памяти чем-то теплым, задушевным…
Когда пришла пора ставить мою пьесу, которую я закончил в 1953 году, я привез в Коломну своих режиссеров, молодых выпускников ГИТИСа – Колю Мокина и Валю Медведева. Валя отлично пел под гитару. До сих пор помню этот вечер – и русская провинция осталась у меня вечным художественным впечатлением.
Когда я прочел написанную пьесу в заводском общежитии у девушек, причем я искренне считал ее производственной драмой, она вызвала живой интерес, разные житейские предположения, выводы, догадки, а Мокин, присутствующий при этом, сказал:
– Вы написали прекрасную комедию!
– Комедию?
Что ж, комедия, так комедия!
Славно мы тогда пообщались с Мокиным и Медведевым. Нередко ездили ужинать на аэродром во Внуково, находя в этом особый шик. Сидишь на террасе – перед тобой обширное поле, огни, то взлетают, то садятся самолеты – хорошо! Помню, мы как-то ездили туда на машине тогдашнего тестя Вали Медведева, генерала. На обратном пути устроили танцы на шоссе. Нам было так хорошо, что мы заразили своим настроением и шофера, молодого мальчишку. Он сказал, что никогда не забудет этого вечера.
Мокин был талантливым режиссером, но он не проявил себя по-крупному. Был период, когда он пал окончательно, я даже подписывал какое-то ходатайство. Ему грозила тюрьма. Мы его выручали.
Валя Медведев прославился своей повестью «Баранкин, будь человеком!». Потом она была поставлена в кино, на ее основе была написана оперетта, еще где-то.
Мою пьесу они взяли в качестве своей выпускной работы по окончании ГИТИСа. Кроме того, ее захотел поставить в Театре им. К. С. Станиславского Михаил Яншин вместе с молодым режиссером Семеном Тумановым. В Ленинграде пьесу взял по старой памяти Акимов, причем он, прочитав пьесу, сразу же определил: «Восемь девок, один я. Рабочий класс. Беру».







