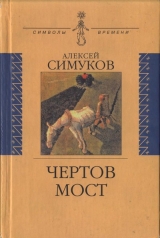
Текст книги "Чертов мост, или Моя жизнь как пылинка. Истории : (записки неунывающего)"
Автор книги: Алексей Симуков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 41 страниц)
А что же Москва? Верные поклонники творчества Вампилова в Москве – завлит Театра им. Ермоловой Елена Якушкина и ставший там главным режиссером Владимир Андреев – стали «пробовать» «Старшего сына». И снова мы столкнулись с проклятым вопросом: на каком основании Бусыгин заявляет, что он сын Сарафанова, когда он не сын Сарафанова?
Мы часто встречались с Сашей в это время, стараясь найти какую-то зацепку в пьесе, которая умилостивила бы строгих ревнителей логики в драме. В отчаянном желании раз и навсегда ликвидировать эту проблему в «Старшем сыне» я задумался над тем самым куском, где Бусыгин и Сильва встречаются с Васенькой и где Бусыгин достаточно нагло объявляет, что он сын Сарафанова. И тут мне показалось, что не так-то уж не правы были наши оппоненты и что Сашины ссылки на то, что Бусыгин своим заявлением выступает чуть ли не в роли моралиста, не очень-то прочны. Я посоветовал Саше попробовать: не стоит ли сделать так, чтобы после выспренной фразы Бусыгина о том, что человек человеку брат и что вот этот брат, голодный и холодный, стучится в дверь с надеждой, что его пригреют, примитивный Сильва, которому хочется поскорее выпить, переводит эту фразу на конкретный язык родственных отношений к великому изумлению не только Васеньки, но и самого Бусыгина. Психологически это было бы оправданием и раз навсегда сняло роковой вопрос, почему сын, когда он не сын?
Саша принял мое предложение, переделал кусок, включил в канонический текст, но… даже такой наш героический акт не произвел должного впечатления… Единственным удовлетворением для меня было то, что эта существенная поправка вошла во все последующие издания пьес Вампилова, во все спектакли, но для Саши наша неудача в то время было особенно горька…
Однако театр, если он чего-либо действительно хочет, в конце концов одолевает все преграды. Олег Ефремов проявил характер и поставил полюбившуюся ему пьесу Михаила Рощина «Старый Новый год» через шесть лет после написания ее. Добился своего и Театр им. Ермоловой, благодаря, как я уже сказал, упорству и настойчивости Андреева и Якушкиной. Среди прочих спектаклей по пьесам Вампилова Андреев великолепно поставил и «Прошлым летом в Чулимске», но, к сожалению, для Саши слишком поздно… А ведь именно вскоре после его смерти все пошло и пошло!..
Раздумываешь, где секрет такого успеха теперь уже всемирного вампиловского театра, в чем же содержится так называемая «загадка Вампилова», как модно теперь выражаться? Ведь в ряду поисков сверхсовременной театральной выразительности его пьесы, казалось бы, традиционны, в них все, как говорится, «на месте», люди внешне понятны, приметы жизни достоверны… Но не присутствует ли и здесь, в творениях Саши, все та же Сашина полуулыбка, всегда несколько отрешенная от того, что происходит сиюминутно, проникающая за пределы видимого нами, обнажая гораздо большее, чем доступно нашим взорам? Все как в жизни, вплоть до абсурда… Нет, не вплоть, а через него – к высшим постижениям человеческой натуры.
Встреча с драматургом Вампиловым была для меня неким открытием, связанным с моим отношением к так называемой философской пьесе. Мне казалось, что чем глубже философская суть драматического произведения, тем больше оно лишается театральной занимательности, переходя ближе к жанру драмы для чтения. Исключение я делал только для Шекспира. Александр Вампилов был одним из очень немногих советских драматургов, легко, непринужденно, вполне для себя органично соединявших философскую глубину пьес с ослепительно яркой, чисто театральной формой.
Думая об этом, я не перестаю жалеть, что не попросил у Саши экземпляра первого варианта пьесы – «Сто рублей новыми деньгами», получившей впоследствии название «Двадцать минут с ангелом». Его одноактная пьеса «История с метранпажем» мне кажется, значительно слабее «Двадцати минут с ангелом». Героем этой пьесы был пожилой капитан речного буксира, остановившийся в той же гостинице, где происходит действие «Двадцати минут с ангелом». Он попадает в водоворот совершенно непредвиденных событий, в их числе встреча с женщиной, которую он в силу возникших обстоятельств вынужден выдавать за свою жену, в то время как ее любовник выдает себя за ее брата… Драматург создавал самые невероятные ситуации для своего героя, он бросал его из огня в полымя, заставляя нас в то же время влюбиться в него – такого смешного и одновременно трогательного… «Мольер!» – повторял я про себя, когда Саша читал мне эту пьесу. Где она, что с ней – не знаю…
Вспоминая Сашу того времени, я пытаюсь отбросить те, уже ставшие почти легендарными, напластования, которые связаны с его именем, стараясь представить Сашу таким, каким я его знал в то время. Мы были товарищами по профессии – я постарше, он помоложе, мы трудились, не думая о том, кто и когда займет место в отечественном пантеоне, но я невольно приглядывался к Саше, понимая, что есть что-то в этом мальчике, есть! Особенно поражал меня его взгляд, которым он как бы насквозь прошивал людей – все с той же полуулыбкой, чуть насмешливой, чуть стеснительной. Разные люди обсуждали его произведения, говорили ему умные слова, он вежливо слушал, помалкивал и все смотрел, смотрел… И те, кто был ему внутренне чужд, постепенно замолкали, терялись и расставались с Сашей странно смятенные… Нередко мне приходилось в то время слышать слова, произносимые даже с какой-то обидой: «Ваш Вампилов!». Видимо, что-то уже очень свое, самобытное, непреклонно отстаиваемое пробивалось сквозь его милую скромную внешность и в сочетании с его улыбкой вызывало у ряда людей то ли настороженность, то ли плохо скрытое раздражение… «У-у… этот проклятый якут… – говаривал один московский режиссер, страстный поклонник Сашиного таланта. – Как взглянет, насквозь тебя прожигает!». Характеристика достаточно точная, за исключением, правда, того, что отец Саши был бурятом.
«О-о, этот Вампиров!» – вторил ему Александр Твардовский, захаживая к Саше на огонек на соседнюю с нами дачу Бориса Костюковского, где Саша зимовал. В сознательное изменение фамилии Саши Твардовский, по-видимому, вкладывал какой-то особый, одному ему понятный смысл…
Рассказывая о встречах с Твардовским в зимние вечера, Саша восхищался глубиной поистине пророческих откровений этого огромного русского художника, которыми он делился с Сашей и его друзьями, говоря о великой гуманистической миссии русской литературы…
Дружилось нам с Сашей хорошо. Для меня и для всей моей семьи Саша был всегда желанным гостем. Хорошо нам было с ним сидеть в нашей тесной кухоньке. Он брал гитару, играл… Играл поразительно. Обычно он импровизировал что-то свое, но это было сказочно музыкально – такого исполнения я ни у кого не слышал… А как он пел, особенно «Утро туманное», да и многое другое…
Вспоминаю, Саша частенько предлагал: «Давайте напишем с вами одноактную пьесу!» Я смеялся – действительно, зачем обязательно вдвоем? Саша настаивал, и в душе мне это было приятно. Я понимал, что таким несколько неожиданным способом драматург Вампилов, мой друг, выражает свою симпатию ко мне.
Любая чрезмерность в проявлении чувств была Саше органически чужда. Он обладал редкой способностью снимать пафос с любой ситуации, никого не обижая при этом, всегда с неподражаемым вампиловским юмором. Уже одно это свойство обеспечивало ему непререкаемое лидерство в молодежных компаниях.
Помню, идем мы с ним как-то по Кузнецкому мосту. Я горячо убеждаю Сашу – я тогда был его педагогом, – что человек всегда должен ставить перед собой пусть небольшую, но вполне конкретную цель. Для наглядности я в пылу доказательства даже показал большим и указательным пальцами, какой может быть размер этой цели. Взглянув на Сашу, чтобы проверить, насколько дошел до него мой призыв, я изумился – в его глазах плясали бесенята. Он с нескрываемым удовольствием смотрел на меня, и тут только я оценил юмор ситуации: стремясь непроизвольным жестом подкрепить свою мысль, я не заметил, как мои два пальца, большой и указательный, намечая примерную величину цели, довольно точно определили уровень ста грамм в стакане с живительной влагой. Я захохотал, Саша присоединился ко мне. Мы тут же решили претворить мою мысль, выраженную столь наглядно, в конкретное действие, двинулись в ближайший ресторан и продолжили нашу беседу о целях, которые нам предстояло достичь, закрепляя свои рассуждения традиционным, освященным веками способом…
Весной семьдесят второго года, во время случайного свидания на улице Горького, мы условились с Сашей о встрече через месяц. Мог ли я предположить, что больше никогда его не увижу…
Выпускная сессия
И вновь Литинститут. Весна, 1963 год. Происходит торжественный акт, институт выпускает своих питомцев.
Хорошо поэтам! Прочтут стишок-другой – и все довольны! И течет заседание гладко и чинно.
Но что это? Поднимается и идет к трибуне девушка, поэтесса… Начинает читать. Голос громкий, резкий, но дрожащий, какой-то неживой. Мне шепчут, что это Нина Новосельцева, она глухая.
Нина читает:
Он стоял вечерами у наших ворот.
И когда я из школы домой проходила,
Он сквозь зубы цедил: «Королевна идет», —
Тот мальчишка, которого я не любила.
Я боялась блестящих, прищуренных глаз.
Но, на камень коса – и, с характером споря,
Я и впрямь королевной вплывала подчас
Под тяжелые серые своды подворья…
Дни летели за книгой и быстрым мячом,
И однажды я с тайным злорадством открыла.
Что уже без насмешки встает за плечом
Тот мальчишка, которого я не любила.
Помню первый, войною завихренный год.
Кто не рвался на фронт, кто был сердцем спокоен?
По-походному собран, стоял у ворот
Не мальчишка – еще не обстрелянный воин.
На меня он глаза не решался поднять,
Все хотел закурить, и обламывал спички.
Только я ничего не сумела понять
И опять королевной прошла по привычке.
А потом я стояла одна у ворот
И впервые по-взрослому грустно мне было,
Потому что теперь никогда не придет
Тот мальчишка, которого я не любила.
Почему мне запомнились эти стихи и весь облик глухой поэтессы? Почему они бесконечно волнуют меня до сих пор? Наверное, потому, что поэзия здесь выполняла свое истинное предназначение – в нескольких строках развернуть великую драму человеческих отношений, в которую вмешалась извечная беда – война… Это чудо, которым владеет истинный поэт: вонзить в бедное человеческое сердце занозу, да так, что прошли десятилетия, а оно отвечает, содрогается, болит…
Выступает еще ряд выпускников. Слово предоставляется драматургу Вадиму Рожковскому. Руководитель его – сам ректор Литинститута, Владимир Федорович Пименов. О, это личность, описать которую не в силах мое слабое перо! Выдержка, разум, умение находить выход из любого положения. Почему-то приходят на ум придворные звания прошлого – гофмейстер, церемониймейстер, в общем, гофмаршал!
Что-то нам прочтет Вадим Рожковский? Неужели отрывки из своей трагедии «Вадим храбрый», рассказывающей о страстях новгородцев восьмого века? Нет, он хочет объяснить, почему он избрал такой жанр – трагедию. Я наблюдаю за Пименовым. Лицо его спокойно, он благосклонно внимает своему ученику.
– Трагедий сейчас никто не пишет, они – удел прошлого, имеют только историческое значение, – говорит Рожковский.
Пименов согласно кивает головой.
– Но нет! – в голосе драматурга страсть, убежденность. – Именно трагедии и могут помочь нам показать язвы нашего общества.
Брови Пименова лезут вверх.
– Ведь мы с вами глубоко несчастны, разве не так? – доверчиво заканчивает драматург.
Его высказывание звучит как выстрел из пушки. Аудитория потрясена. На Пименова страшно смотреть. Наконец он берет слово.
– Я раздражен! – говорит он. – Я раздражен! – повторяет он, от растерянности не находя нужных слов. Несколькими дальнейшими фразами он пытается сгладить впечатление от необдуманного высказывания своего подопечного. Тщетные попытки. Прошло много лет, а я помню эту сцену как живую… Какой же путь прошло с тех пор наше общество!
Служенье муз не терпит суеты
Любая попытка рассказать о состоянии общества средствами искусства – образно, соединяя воедино типичные для такого общества черты, обрекала театр на тяжкие испытания. Сейчас этому найдено, слава Богу, название – застой. А тогда? Шесть долгих лет добивался Олег Ефремов разрешения пьесы М. Рощина «Старый Новый год», а что было причиной такой задержки? Персонально указать пальцем на кого-нибудь не могу, а существо вопроса и так ясно: автор покусился на святая святых нашего общества – рабочий класс. Понятие диктатуры рабочего класса, положенное в свое время в основу нашего мышления, сделало из конкретных, живых людей – рабочих – нечто вроде иконы, к которой можно только благоговейно прикладываться. В пьесе же художник показал рабочую семью как ограниченных мещан, с куцыми мыслями, или, вернее, совсем без мыслей. Символом их бытия является дочь – девочка с ее знаменитыми репликами:
– Это мой медведик! Мой! Мой! Отдайте мне моего медведика! – что, кстати, в нашей семье сделалось ходовой фразой.
Помню, на одной нашей театральной конференции выступал Алексей Арбузов, закончивший свою речь широко известной пушкинской строкой: «Служенье муз не терпит суеты». Боже, как захлопотал, как запротестовал ревностный поборник советской власти Георгий Мдивани! Человек темпераментный, он всегда так кричал, что его голос был слышен из зала в Союзе писателей даже в уборной на первом этаже.
Своей творческой практикой Арбузов подтвердил правоту Александра Сергеевича. После пьес, написанных в молодости, и блистательного успеха «Тани» драматург замолчал, и пауза эта длилась долго, настолько, что мы уже решили: кончился Арбузов. Но вдруг он выступил с двумя пьесами «Двенадцатый час» и «Годы странствий». Последнюю пьесу не сразу все поняли, и я в том числе. Мне она показалась сюжетно разбросанной. «Двенадцатый час» – другое дело, это был рассказ о последних судорогах нэпа. Шла эта пьеса у нас мало, зато за рубежом нашла горячих поклонников. Арбузов мне рассказывал, как он смотрел ее в Оксфордском театре, в отличном исполнении. Особенно его порадовала игра молодого актера, игравшего роль начинающего инженера, комсомольца Ромки Безенчука. Это было настолько близко к замыслу автора, пронизано таким ощущением жизни героя, его уверенностью в близком прекрасном будущем страны, что Арбузов заинтересовался личностью актера. В разговоре с ним автор наивно предположил, что тот, вероятно, близок к коммунистическим кругам?
– Нет! – гордо возразил английский Ромка Безенчук. – Я голосую за консерваторов.
Арбузов недоумевал.
– Почему же вы тогда так верно, так точно сыграли комсомольца? – спросил он.
– Я – артист, – был ответ. – Я обязан сделать все, что могу из роли, которая мне поручена.
Тут уж верно, лучше не скажешь – служенье муз не терпит суеты… И сразу же вновь возникает образ драматурга Мдивани. Помню, как мы прятали друг от друга глаза, когда обсуждал и на коллегии его пьесу «Большая мама». Я умолял не выпускать ее.
– Это, – утверждал я, – бесчестие для автора.
Бывший тогда главным редактором репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры В. Голдобин не смог устоять перед автором, перед голосами влиятельных или просто власть имущих лиц, поднимавших эту пьесу на щит. Правдами и неправдами Мдивани добился-таки постановки своего творения в Театре им. Пушкина. Основу пьесы, по замыслу автора, составляла жизнь старой большевички, бескомпромиссное поведение которой, ее принципиальность в жизненных мелочах, ее идейная неуступчивость проявлялись даже в отношениях с ближайшими родственниками. И вот, вместо обаятельного образа героини, задуманного драматургом, зритель увидел старую грымзу, поедом евшую своего зятя, в итоге доводя его до самоубийства. Вместо «большой мамы», следуя построению пьесы, театр представил отвратительное существо, тещу из анекдота, такую ярую ненавистницу своего зятя. Во время спектакля слышны были реплики:
– Смотри-ка, как она его бедного, и за что?
– Бывает, бывает… – переговаривались в публике. – Вот у нас есть такая же партийная стерва, спасу от нее нет.
Так оппонировал Мдивани Арбузову по поводу служения музам.
Извечный вопрос: нужен ли драматургу редактор? И отсюда – существование репертуарно-редакционной коллегии в министерстве? Правомерна ли была ее деятельность или же нет? Ответу меня один – репертуарно-редакционная коллегия была нужна. Но не для всех. Арбузову? Навряд ли. А вот, скажем, талантливому Михаилу Ворфоломееву – нужен был обязательно. Но и тут редактор должен быть у него постоянный, внимательно следящий за его творческим путем, знающий и сильные, и слабые стороны своего подопечного.
Вот, например, его пьеса «Бес». К этой теме Ворфоломеев подходил долго. Была у него комедия «Святой и грешный», где бес в образе Мефистофеля выступал соперником Бога, желая превратить обыкновенного человека со всеми его слабостями в настоящего грешника. Он написал потом пьесу «Бес» с более серьезными намерениями и прочитал ее нам на семинаре в Рузе. Это было настолько плохо, что слушатели разошлись, не сказав ни слова. И вот как-то мы в коллегии разбирали его новую пьесу под тем же названием. Она сразу же захватила меня своей силой. Я впервые почувствовал, что в нашей драматургии создан образ зла в таком, я бы сказал, человеческом облике. В этом образе были и лирика, и грусть, при том, что свой «служебный» долг в нашем человеческом обществе бес выполнял исправно. Я понимаю, что так изобразить зло – дело очень непростое. Ведь даже незначительное изменение в характеристиках персонажей могут привести к нарушению этого тончайшего баланса. Опасения мои подтвердились. Когда коллегия попросила автора кое-что уточнить в окружающих беса персонажах, Ворфоломеев пошел на это, но образ самого беса оказался испорченным.
Я считаю, что между автором и редактором должны установиться такие отношения взаимного доверия, при которых автор не торопился бы отделаться от редактора, чтобы поскорее «протащить» свою пьесу, а редактор убедил бы автора, что его советы помогут сделать его вещь если не гениальной, то более точной. Автор должен поверить в своего редактора и слушать его одного, а то у нас так бывало на семинарах – автор бегает от руководителя к руководителю, как зайчонок, отбившийся от матери. По закону леса каждая зайчиха готова дать свое молоко любому чужому зайчонку. Но это с зайцами, а здесь?
Я, как редактор, должен внушить своему подопечному мысль, что объективная истина существует в данном случае в моем лице.
Кстати, у кое-кого это может вызвать серьезные возражения, но я свято верю, что объективная истина действительно существует. Без этой веры мне было бы очень трудно разбираться в своем предмете. Ведь должна же быть она, объективная точка зрения, четко определяющая: это плохо, а это хорошо. А иначе как же жить?
Один священнослужитель достаточно крупного ранга, который в свое время порвал с церковью, написал затем пьесу о нехороших служителях культа и принес ее мне в министерство. Сидя в кабинете, мы разговорились, и он вдруг насторожился, услышав о моей вере в существование объективной истины и о том, что я ненавижу поговорку: на вкус и цвет товарища нет.
– Вы на опасном пути, голубчик, – сказал он мне.
– Почему? – спросил я.
– Признание существования объективной истины неминуемо ведет вас к признанию Бога. Бог есть объективная истина.
Один молодой режиссер, с которым я поделился мнением моего посетителя, горячо воскликнул:
– Вздор! Бог – наисубъективнейшая из истин!
И тогда для себя я решил, что Бог – есть субъективное выражение объективной истины.
Но вернемся к образу или Духу зла.
В нашей драматургии обращения к этой теме достаточно редки. Вспоминаю пьесу украинского драматурга А. Левады, посвященную полету в космос, в которой выведен образ Искусителя. Что-то там проклевывалось интересное, даже спектакль у нас был, но впечатления не оставил. У К. Скворцова, драматурга из Челябинска, автора многочисленных пьес в стихах была и такая – «Курчатов», где действовал подлинный Курчатов, вступивший в игру с Мефистофелем, искушавшим создателя атомной бомбы. И тут тема оказалась явно выше возможностей автора. Непонятно, почему в финале пьесы Мефистофель сперва признает себя побежденным и даже катается от отчаяния по земле, а потом эффектно отсчитывает удары сердца умирающего Курчатова. Как это понять? Победа Злого духа? Физическая смерть героя пришла на выручку Мефистофелю или, вернее, автору?
Попытки наших драматургов вывести обобщенный образ зла следует лишь приветствовать, тем более что пора уже переходить к рассмотрению воплощения зла в нашей истории не способами скорописной, публицистической драматургии, а через драматургию философскую, ибо тема эта достойна такой трактовки.
Бесконечны вопросы, как сформировался такой образ Отца всех народов? Я не случайно подхожу к нему после попыток изобразить в вышеупомянутых пьесах духа зла. Моя старая мысль об объективной истине сюда, по-моему, подходит.
Но сперва взглянем на это с обычной, человеческой стороны, что немаловажно при рассмотрении его биографии.
Он – сухорук, ряб, небольшого роста, особыми талантами не обладает, кроме того, он иноплеменник, что в данном случае важно. (Вспомним Наполеона – малый рост, корсиканец!) Кроме того, он еще ничем не примечателен, малообразован, он простой семинарист, один из многих тысяч себе подобных. Все это порождает жгучее желание возвыситься над толпой, подчинить ее своей воле. Один он потеряется, не выдержит. Необходима поддержка коллектива. Коллектив находится в виде рабочей партии, борющейся против существующего строя. Эта партия интернациональна, она его примет, его личные физические недостатки для нее не важны, для нее существуют только массы. Отсутствие таланта – дело наживное. Он усиленно работает над собой. Все его поступки, вся деятельность проникнуты личным, глубоко эгоистическим чувством – подняться, укрепиться, возвыситься. Всем своим тончайшим, почти звериным инстинктом он, однако, чувствует, что только этим себе авторитета не завоюешь, нужна какая-то сверхзадача, некая объективная истина, которая определяет жизнь человека, партийца, возвышает его.
Руководящая истина появляется. Это – сохранение единства партии. И он начинает эксплуатировать этот тезис.
При решении любых вопросов – от мелких, бытовых, до принципиальных – он ссылается на укрепление этого единства. Он непримирим, он даже резок, но ему все прощается: все в его ближайшем окружении видят – вот человек, преданный идее, он, может, и не хватает звезд с неба, где-то даже дикарь, но зато какая у него вера, какое убеждение, как это можно использовать для укрепления партийных рядов!
И постепенно в сознании его товарищей начинает возникать мысль – такого, пожалуй, можно сделать хранителем нашей объективной истины – единства партии. И ведь какие умы приходят к такому заключению! Голова кружится!
И никому из них невдомек, что единство в этих устах и есть их будущая погибель.
Судьба освободила Ленина от необходимости жить дальше. Думаю, он стал бы первой физической жертвой нашего пророка, ибо Он уже перестал быть просто личностью. Его товарищи, сами не подозревая об этом, возвели его в сан пророка объективной истины, он уже взял право определять – кто верит в нее, а кто не верит. К этому времени Он развил в себе еще одну способность – Он умел убеждать.
Наш известный журналист Валентин Бережков, в прошлом переводчик Сталина, писал в своих воспоминаниях, что в сентябре 1941 года, когда вопрос о падении Москвы исчислялся, казалось, уже днями, англо-американская делегация во главе с лордом Бивербруком [120]120
Бивербрук, Уильям Максуэлл Эйткен(1879–1964), английский государственный и политический деятель, в 1941–1942 гг. министр снабжения. Возглавлял английскую делегацию на Московском совещании 29 сентября – 1 октября 1941 г.
[Закрыть]и Авереллом Гарриманом [121]121
Гарриман, Аверелл(1891–1986), американский государственный и политический деятель. В 1943–1946 гг. – посол США в СССР.
[Закрыть]с участием специального представителя президента США Рузвельта Гарри Гопкинса [122]122
Гопкинс, Гарри Ллойд (1890–1946), американский государственный деятель и дипломат. Руководитель программы ленд-лиза. В 1941–1945 гг. – ближайший советник президента Ф. Д. Рузвельта.
[Закрыть]вела переговоры в Кремле. Это были самые тяжелые дни войны. Фашисты стремительно приближались к Москве. Вероятно, внутренне члены делегации были уверенны, что Гитлер не сегодня завтра будет в Москве, и они могут элементарно попасть в плен. И в это же время Сталин принимает их в Кремле с таким видом, словно ничего драматического не происходит. Говоря о нуждах Красной Армии, он останавливается не только на поставках вооружений, но и заказывает целые заводы для его производства. Члены делегации потрясены: враг у ворот, а тут идет разговор о закупке заводов, введение в строй которых потребует много месяцев. Значит, он уверен в своих силах. И действительно, Сталин произвел на представителей этих двух держав такое сильное впечатление, что они поверили ему, а затем ему поверили и правительства Англии и США! [123]123
Бережков В.Как я стал переводчиком Сталина. М.: «ДЭМ», 1993.
[Закрыть]
Я говорил, что у него не было талантов. Был. Один, который помогал ему в течение всей его жизни. Это – воля. Воля, которая позволяла ему выдерживать сроки, порою нечеловеческие, пока он не обрушивал на жертву давно заготовленный удар. Уметь ждать! На это нужен талант, нужна воля. А у него она была для всех случаев жизни. К этому времени он так поверил в себя, что стал говорить о себе уже в третьем лице. И главное, он сумел убедить всех в нашей стране и многих за рубежом, что объективная истина – в его руках и, поскольку все инакомыслящие к этому времени были уничтожены, а живые все были с ним, он из пророка объективной истины превратился в саму объективную истину – то есть стал Богом!
Технические средства для этого у него были.
Как в него верили! Расставаясь с жизнь, жестоко казнимы, люди клялись в верности Ему. Он заставлял брата доносить на брата, товарищей на товарища. И все-таки, я думаю, он, бог в глазах миллионов, оставаясь наедине с собой, ощущал себя маленьким, рябым, сухоруким… Но он был неутомим. И это заставляло его казнить умных, талантливых, рабочих, крестьян, ученых, писателей, военных… Всех! Казнить, казнить.
Только раз нечто человеческое обнаружилось в нем, и то – глубоко эгоистическое. Оскорбленное самолюбие заставило его обратиться к простым людям – помните? 3 июля 1941 года – «Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои…» – И предательский звон стакана… Его обманули! Провели как последнего дурачка, деревенского олуха! И это его, который, казалось, все предусмотрел, договорился в 1939 году с Гитлером, который ему очень импонировал. Ведь они же вместе поделили карту мира, ведь в угоду Гитлеру он обрек на смерть многих немецких коммунистов, австрийцев, чехов, нашедших приют в СССР от преследования нацистов и которых потом нацистам же и выдали! И так дать себя обмануть!
Маленький, сухорукий… Дьявол, по мнению средневековых схоластов, был хром.
Когда же теперь я раздумываю о своей вере в объективную истину, я начинаю сомневаться – а есть ли она, такая, какой я ее себе представлял?
Причем следует заметить, что в тайниках своей души я был уверен, что именно я, только я и знаю, что такое она на самом деле. Для Художника такая предельная гипертрофия, может быть, и характерна, но Боже мой! Эта убежденность, переведенная в практические дела в масштабах целого государства, которые творились на моих глазах и в какой-то мере при моем участии – к каким ужасам она привела!
Превращение человека в Бога, в нечто изначально повелевающее по праву владения объективной истиной, а фактически превращающее все вокруг в мертвое пространство, уничтожающее все живое, – какой это страшный урок человечеству!
Нет, объективная истина состоит, очевидно, в том, что она содержит в себе извечную борьбу, и не постижение ее, но попытку постичь, путем сшибки противоборствующих мнений.
Да, наверное, это так. А все-таки… Я верю, что объективная истина существует, и я один понимаю, какая она из себя. Что поделаешь.







