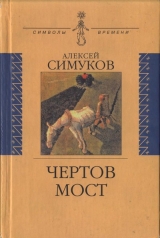
Текст книги "Чертов мост, или Моя жизнь как пылинка. Истории : (записки неунывающего)"
Автор книги: Алексей Симуков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 41 страниц)
Аз воздам
Наступила эпоха перестройки. Могучим эхом отозвалась она в странах Восточной Европы и вообще всюду в мире, куда прежде доставала сталинская рука.
Дрогнул и такой, казалось, несокрушимый наш бастион на востоке, как Монгольская Народная Республика.
После долгих лет полного подчинения Москве, когда мы своекорыстно распоряжались ресурсами страны, строя только то, что нужно было для нашей армии, – наступили новые времена.
Под огнем критики демократического движения руководство Монгольской народно-революционной партии вынуждено было сложить свои полномочия и срочно переизбрать всю правящую верхушку. Сегодня, в 1990 году, в рядах демократов – молодой 28-летний Санжасурэнгийн Зориг [132]132
Санжасурэнгийн Зориг родился в 1962 году в Улан-Баторе. В 1985 году закончил философский факультет МГУ. В 1986–1989 гг. – преподаватель факультета общественных наук МонГУ. В 1989–1991 гг. – генеральный координатор Монгольского Демократического Союза, с 1991 г. – руководитель Республиканской партии, с 1992 г. – руководитель Объединенной партии. В 1992 г. избран членом Генсовета МНДП (Монгольской национально-демократической партии). В 1990–1992 гг. – депутат ВНХ (Великого Народного Хурала) Монголии, председатель Исполкома Парламентской группы МНР. В 1992–1996 гг. – член ВГХ (Великого Государственного Хурала) Монголии. С июня 1996 г. – Председатель ПК (постоянного комитета) ВГХ по государственному строительству. В июле 1997 г. избран Председателем постоянного комитета по безопасности и внешней политике. 2 октября 1998 года был убит в своей квартире при невыясненных обстоятельствах.
[Закрыть], генеральный координатор Монгольского Демократического Союза. Именно он, свой деятельностью как бы олицетворяя справедливый гнев монгольского народа, заставил признать недействительными все награды, которыми осыпали себя Цеденбал с супругою, лишить их дворца, который тот построил себе под Москвой на народные деньги. И я с чувством законной гордости признаю в нем свою ближайшую родню, так как Зориг является внуком моего покойного брата, Андрея Дмитриевича Симукова, и, следовательно, моим внучатым племянником.
Я рад, что Зориг, выпускник философского факультета Московского университета, несет дальше по жизни идеалы своего деда, ведет непримиримую войну против всех тех, кто в Монголии, так же как и в России, виновен и за безвинную гибель лучших людей обеих стран.
У меня нет чувства мстительности, но я рад событиям в Монголии, в результате которых многолетний гнет, под которым находился монгольский народ, надо надеяться, наконец будет сброшен.
Бескорыстный труд по изучению своей новой родины брат посвятил мечте своих юных дней – свободе человечества. Пусть в Монголии поскорей засияет свет этой свободы, а тех, кто мешал ему идти вперед, – вон из Истории!
Вот на какой ноте я кончаю свои «Записки…» о самом себе и о своей семье.
И последнее. Ушедшим от нас я посвятил вот эти стихи:
Когда от нас уходят дорогие,
Они не мертвы, нет – призыва ждут от нас.
Пока мы помним их – они всегда живые,
И к нам их обращен добронесущий глаз…
Ах, сколько в жизни смут! Не буду брать примера.
Ну, как решить вопрос, что вовсе мог не быть?
Их позови. Придут. Зовет их наша вера.
Дадут совет. Он – в нас. Но надо подтвердить…
Пока мы помним их. О, сколько в этом слове
Надежд на нас, их страх перед «пока».
Не расставайтесь же! То голос нашей крови.
Она зовет! Так где же ты, рука?
Я славлю тех, кто твердо помнит, верит.
Прочь скепсис гордеца, он сам себе удав!
Да, я за тех, кто жизнь любовью мерит.
Христос воскрес, что смертью смерть поправ!
За тех, кто памятью не роется в потемках,
Кто знает, как согреть своим дыханьем лед.
И этот мой завет пусть отгремит в потомках,
В одной цепи – кто жил и кто живет!
ГЛАВА X
Мое ремесло [133]133
В X главу «Мое ремесло» А. Д. Симуков включил свои заметки о драматургии, опубликованные в литературно-художественном альманахе «Современная драматургия» (1986, № 2). Впоследствии они были частично перепечатаны под названием «Заметки старого драматурга» в том же альманахе в 2000 году (№ 3).
[Закрыть]
Я писал о людях – о своих родных, о тех, с кем я встречался на своем пути как драматург.
Но не пора ли поговорить о том, что представляет собой драматургия как вид искусства? Как-никак, это мое ремесло, и хочется поделиться некоторыми мыслями, накопившимися у меня в связи с этим за долгие годы.
Предваряю: заметки мои не носят характера некоего поучения, свода непререкаемых истин, нет! Просто это мои наблюдения, мой опыт, мои пристрастия, мои ошибки. Многое из того, о чем я здесь говорю, почерпнуто мной как из собственной профессиональной практики, так и из моей преподавательской деятельности в Литературном институте им. А. М. Горького. Хочу подчеркнуть, речь идет об узкопрофессиональных вопросах, о которых не всегда принято говорить. А жаль! Обмен опытом в этом отношении был бы нам, драматургам, особенно молодым, полезен. Итак, разговор о ремесле.
Известно высказывание Л. Толстого о Шекспире. Отсутствие религиозного начала и неразборчивость в выборе театральных средств зачеркнули в глазах великого русского творчество великого англичанина. Характерна и самоирония в «Дневниках» Жюля Ренара [134]134
Ренар, Жюль(1864–1910), французский писатель.
[Закрыть], когда он говорит, что обладает известным вкусом к посредственности, что поможет ему для работы в театре…
Высокая Проза к своей единокровной сестре, Высокой Драме, относилась в лучшем случае снисходительно. Посредственность по Ренару – это общедоступность, массовость. Зрелищность драмы ревнителям литературы представляется чем-то вроде раскрашенных картинок для тех, кто учится читать. Подобные приспособления чужды Высокой Прозе, которая не нуждается в посредниках, чтобы стать понятной своему читателю. Высокой Драме, для того чтобы явиться зрителю во всем великолепии, необходим Высокий Театр.
Книга создавалась в келье. Драма родилась в храме, имея готовых зрителей. Но лишь выйдя на площадь, она обрела свои истинно народные черты. Непосредственное общение со зрителем оказалось явлением огромной взрывчатой силы, и не случайно французский парламент специальным решением в конце 40-х годов XIX века попытался разрушить эту связь. Театры парижских бульваров, то есть наиболее демократическая часть тогдашнего театрального искусства, были приговорены к молчанию. Живая человеческая речь была изгнана с подмостков. Но Драма не сдалась. Она воспользовалась одним из своих могучих средств. На сцену вышел великий мим – Дебюро [135]135
Дебюро, Жан Батист Гаспар(1796–1846), французский актер-мим.
[Закрыть].
Кто заказывает музыку?
Благодаря своей специфике – конкретному выходу в лице актеров на живого зрителя – в нашей стране Драма несколько неожиданно для себя оказалась в прямых помощниках Власти. Причина тут проста: единственная касса, из которой выплачивались деньги за пьесы, принадлежала государству. А государство, то бишь Власть, в силу этого привыкло указывать Драме, что нужно народу, а что – нет. Не правда ли, как просто? Надо призвать молодежь на какую-нибудь важную стройку или идти всем в физики – драматург тут как тут. «Деньги не пахнут», сказал еще мудрый Веспасиан [136]136
Веспасиан, Тит Флавий(9–79), римский император.
[Закрыть], и драматург, которому надо на что-то жить, по указанию свыше приступает к делу. Задача, взаимно выгодная для двух сторон, решена.
Но постепенно государство входило во вкус. Оно считало, что только оно, в лице своего аппарата, знает, о чем должен писать драматург. Возникло понятие государственного заказа. И в самом деле: зачем автору тревожиться, о чем писать? Хозяин – барин. В недрах соответствующего министерства разрабатывались так называемые тематические планы. Выбирай любую тему – и давай! Тем более что тенденция расходования государственных средств на пьесы все более и более склонялась к заказам. Я помню одного министра культуры, который планировал всю драматургию Советского Союза превратить в один огромный государственный заказ. С точки зрения государства идея рациональна. Неужели здесь могут возникнуть какие-то сомнения, если стоит вопрос о том, кто лучше знает нужды народа, о чем стоит писать – государство или какой-нибудь одиночка, наверняка оторванный от жизни? Не беспокойтесь, темы мы подскажем. Вот план. Знаю по собственному опыту – сам принимал участие в составлении подобных планов, якобы облегчающих работу драматурга. Правда, Николай Погодин в своей последней перед смертью статье сказал, в частности, в связи с навязыванием художнику нужной тематики, что нельзя планировать тему, что она всегда открыта, если достойна писателя.
Кентавр, или специфика драмы
Заказчику, оплачивающему драматургический заказ, нельзя забывать, понадеявшись на своего верного помощника, драматурга, что Драма – это законное дитя двух родителей: Высокой Литературы и Театра. Она является неким гибридом, подобием кентавра в античных мифах – получеловека, полуконя. И если человеческое естество Драмы вроде и склоняется к необходимости откликаться на неотложные нужды общества в данный конкретный момент, то ее другая, «кентаврская» часть так и норовит ударить всеми четырьмя копытами и унестись на вольный простор в дикие степи, чтобы предаться там необузданным первобытным страстям, которые вроде никогда драму не портили, но, наоборот, даже украшали… А если серьезно – что такое Драма вообще? Зададим себе этот элементарный вопрос, как будто мы ничего не читали по этому поводу. Иногда бывает полезно почувствовать себя голым человеком на голой земле.
Как-то с одним из моих собратьев по перу у меня вышел спор. Он показал мне свои тезисы, по которым думал построить лекцию о драматургии, и хотел узнать мое мнение. Первая же фраза вызвала мой активный протест. Смысл ее был в том, что основным материалом драмы является слово. Придраться тут вроде было не к чему: слово, действительно, представляет собой строительный материал литературы, к которой принадлежит и драма, но отвести ему в драме исключительную роль – значит что-то недооценить в этом виде литературы. Так что же это «что-то»? Давайте поразмышляем.
Начну с мысли, пришедшей мне в голову на занятиях в Литературном институте им. А. М. Горького, где я в то время руководил семинаром по драматургии. Глядя в окно аудитории на Тверской бульвар, я представил себе, как после окончания лекций студенты заполняют его, направляясь кто домой, кто к себе в общежитие. По дороге им попадается ворох осенних листьев, которые смела в одно место метла заботливого дворника. И я поставил себе вопрос: как могли бы среагировать на этот ворох листьев представители разных литературных жанров, если бы он попался в поле их зрения?
Начнем с поэта. Могут ли служить осенние листья поводом для его поэтического вдохновения? Несомненно, поскольку поэт в любом предмете или явлении видит, как в зеркале, прежде всего себя, как некий микрокосм, отражающий свою эпоху, и через свои ощущения стремится поведать о ней людям. Опавшие листья, как вечный образ увядания, а может быть, надежды на обновление? А можно метлу дворника вообразить себе жестокой рукой Времени, которая, когда приходит срок, безжалостно сметает все, что отслужило свое…
Для прозаика это законнейший материал. Проза – это великое описание мира: от глубочайших бездн человеческой души до маленькой былинки на дорожной обочине. Ворох осенних листьев – прекрасный фон для любого эпизода повести или романа.
Очеркист тем более найдет здесь поживу. Только представим очерк: осенние бульвары Москвы…
О журналисте и говорить нечего. Сколько ядовитых стрел может он выпустить по поводу качества осенней уборки города!
И только драматургу созерцание означенных листьев не даст ничего. Хлеб драматурга – действие. И если наш студент действительно будущий драматург, долго раздумывать он не будет. Он наподдаст эту кучу листьев ногой и обнаружит под ней… Что – не важно, но обязательно обнаружит! Или живого человека, или мертвое тело, или, в крайнем случае, хотя бы просто бидон с белилами. И будет ясно: завязка пьесы готова. А ведь ни одного слова пока еще не было сказано.
Дело и слово
Так где оно, слово драмы? Я хочу его слышать. Оказывается, путь к нему совсем не такой простой… Когда-то, кажется, в «Комсомолке», я прочитал заметку. В ней был рассказан такой эпизод: по железнодорожной насыпи шел молодой человек. Он настолько был погружен в свои мысли, что гудки тепловоза, шедшего сзади, не доходили до него. Гибель юноши была бы неминуема, если бы в последний момент оказавшийся рядом другой парень сильным ударом не вытолкнул бы его буквально из-под самых колес тепловоза так, что тот кубарем полетел под откос. Когда поезд прошел и спасенный, поднявшись на ноги, осознал случившееся, первым его осмысленным жестом было вытащить из кармана десятку – в то время это были деньги – и протянуть ее своему спасителю. В ответ последовал второй, едва ли не более мощный удар, вторично повергший нашего героя на землю. Когда тот вновь пришел в себя, спасителя уже рядом не было, и наш задумчивый мечтатель остался один на один со своими злосчастными десятью рублями.
Как следует из рассказанного, никем из действующих лиц не было произнесено ни единого слова. Так, может быть, это вовсе не драма? Драма, и самая настоящая, по всем законам классической драматургии: налицо завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Перед нами предстали два человека, действовавшие убежденно, с равной искренностью, но, увы, в разных плоскостях.
В результате поступков данных персонажей обнажился серьезнейший нравственный конфликт. Разворачивался он в конкретных условиях, в так называемых предлагаемых обстоятельствах, причем как особую тонкость следует отметить, что кульминация действия приходится здесь не на момент спасения несчастного зеваки, что мы могли бы по своей наивности предполагать, а в последующем его развитии, в момент оценки – в буквальном и переносном смысле – случившегося. Возник замечательный по своему драматизму диалог, репликами которого служили: с одной стороны – десятирублевая ассигнация, с другой – кулак. Причем все происходило в полном молчании, если не считать гудков тепловоза.
А где же слова? Может быть, это все-таки не полноценная драма, а так, представление для глухонемых? А мы что, хотим Театр мимики и жеста, – к слову сказать, превосходный театр, – вывести за пределы искусства? Нет, ни в коем случае. А почему ж тогда в приведенном выше примере мы так и не добрались до слова? Отвечаю: именно потому, что это драма, совершенно особый вид литературы. В ней слово и пластика действия – вечные живые соперники, ведущие постоянную борьбу за свое место. И эта борьба – их сила и радость театра. Ничего не поделаешь – диалектика.
Чтобы окончательно закрепить это положение, вернемся к концу рассмотренной нами драмы. Помните, наш герой остается один на один со своей десяткой в руках. Он смотрит на нее, на его лице возможна самая разнообразная мимика, но этого недостаточно, конца явно нет, что-то нужно еще. Что?
Ну, конечно же, наступает время Слова. Слова, которое подвело бы итог всему, эффектно завершило стремительную череду только что совершенных поступков, подготовивших его появление. Уже достаточно действия, нужен яркий театральный монолог человека с десяткой в руках. Живая человеческая речь, приди же! Сейчас – можно. Сейчас – нужно. Мы жаждем услышать Слово. Говори!
И он произносит свой монолог. Он говорит:
– Дурак!
Как, и это все?!
Да. Одного Слова в данной ситуации достаточно. Мы растеряны и в то же время потрясены краткостью высказывания, а мозг бешено работает в это время: к кому оно относится? Море возможных догадок. Если оно адресовано к только что покинувшему его спасителю, то это означает приговор человеку, не понимающему простой истины: все в мире, в том числе и добро, имеет свою цену, и за все нужно платить. А кто этого не понимает – достоин в лучшем случае сожаления, а то и презрения. Если это Слово обращено к самому себе, то не является ли оно началом пересмотра своих позиций, извлечением урока для самого себя и, следовательно, огромной нравственной победой спасителя? А может быть, это слово – выражение досады: нужно было оценить себя дороже?
Что бы мы ни предполагали, Слово произнесено. Оно появилось в нужный момент, продемонстрировав тем самым неразрывный союз слова и пластики в драме, основанный на их непрерывном соперничестве за свое место на сцене.
Приведенным выше примером мне хотелось лишний раз напомнить об этом соперничестве, так как я вижу, в особенности у молодых драматургов, что, увлекаясь словесной тканью своих драматических опытов, они зачастую забывают или недооценивают дополнительные средства сценической выразительности.
А они очень важны еще и потому, что наше время характерно известной девальвацией слов вообще. Их слишком много произнесено и произносится. Драматическая литература могла бы давать образцы экономного отношения к слову, максимально приближенного к действию.
Желая проверить, как понимают мои студенты роль и характер сценического слова, я дал им, не без провокационного умысла, задание, которое они должны были выполнить тут же, на занятиях. Я предложил написать диалог. Любой. Просто диалог, и ничего больше.
Диалог
Когда пришло время посмотреть, что же получилось из моей затеи, я взял наугад одну из работ и стал ее читать, заинтересовавшись обширной ремаркой. Начиналась она так: «Тенистый сад психиатрической больницы». Молодец студент. Нетривиальную себе выбрал обстановку. Представляете, какие диалоги здесь могут состояться? Здоровый и безумец, и оба не знают, с кем каждый из них имеет дело. А мы, читатели и будущие зрители, пока догадаемся, кто есть кто, сколько переживем волнений, будучи захваченными развернувшимся перед нами диалогом двух, по существу полярно противоположных героев. Но ближе к ремарке. Читаем далее: «Появляется человек». Прекрасно! Сейчас мы узнаем, что это за личность. Для этого ему необходим партнер. Хотелось бы, чтобы это была во всех отношениях контрастная фигура. «Человек садится на скамейку», продолжает студент. Но где же вторая фигура? Без нее диалога не получится. Ремарка: «Появляется собака. Подходит к скамейке». Студент, ты гений! Ты понимаешь, что театральный диалог это не просто словесный пинг-понг. Это прежде всего форма решения конфликтной ситуации. В данном случае – диалог человека и собаки. Превосходная выдумка! Задача не из легких, поскольку, как известно, собака человеческой речью не владеет. Значит, реплики автору придется писать и за собаку и за ее собеседника, как бы раздваиваясь. Что ж, тем интереснее реализация такого замысла.
Но что это? Ремарка гласит: «Человек погладил собаку. Она уходит прочь». Вот тебе на! Ожидания не оправдались. Единственное, что мы пока узнали, что человек этот, видимо, неплохой, так как не пнул собаку ногой, а погладил ее. Но дальше-то что? Ремарка продолжается: «Появляется второй человек. Подходит к скамейке». Замирает сердце. Тут все сейчас и начнется! Кто он, пришедший первым, и кто второй? Напоминаю: дело происходит в тенистом саду психиатрической больницы.
Но на этом ремарка кончается, и далее идет текст самой пьесы. И каким же он оказался неинтересным! Оба человека нормальные. Такие могли бы с равным успехом встретиться где угодно, а не здесь, в такой специфической обстановке. Они начинают беседовать друг с другом. Молодой драматург по-своему понял задачу драматического диалога, вложив в уста своих персонажей скучные, невыразительные реплики, которыми они вяло перебрасываются. Значит, по представлению моего студента, диалог – это обыкновенная бытовая болтовня? Скучно жить на этом свете, господа, если диалог выглядит таким.
Как тут не вспомнить другой диалог в пьесе американского драматурга Эдварда Олби «Случай в зверинце» (1958).
Напомню вкратце содержание пьесы: в городской парк заходит некий респектабельный пожилой обыватель, чтобы на давно облюбованной им скамейке, в одиночестве, спокойно, как он привык делать это каждый день, почитать газету. И вдруг видит, что его место занимает какой-то оборванец. Полный возмущения, респектабельный господин садится на другом конце скамейки, всем своим видом показывая, насколько ему неприятно такое соседство. Оборванец же, наоборот, жаждет общения. Не замечая неприязненных гримас своего соседа, он начинает с ним беседу, он хочет поделиться впечатлениями о зоопарке, где недавно побывал. И чем больше он встречает сопротивления от любителя посидеть в одиночестве, тем назойливее и в то же время бессвязнее звучит речь бродяги. Возмущенный подобным поведением, почтенный обыватель хочет покинуть скамейку. Оборванец удерживает его. Хотя бы насильно, но он жаждет иметь собеседника, он не может без него жить, он ему необходим как воздух. Неловкая возня переходит в борьбу. В руках оборванца оказывается нож. Защищаясь, респектабельный гражданин так неудачно перехватывает его у своего противника, что нож вонзается в сердце оборванца.
– Что ж, – звучат его предсмертные слова, – хоть такое общение…
Нож как образ соединения двух людей и в то же время разъединяющий их жизни навсегда – каково?
Мне рассказывали сюжет одноактной пьесы одного польского автора, фамилии не помню. На сцену выходит Гулливер в своем знакомом нам костюме: шляпа, штаны до колен, чулки, туфли. В руках он держит пустую клетку. Он обращается к якобы сидящему в ней лилипуту, которого Гулливер, судя по его словам, привез с собой в Англию из Лилипутии. В разговоре со своим воображаемым собеседником Гулливер искренне убеждает того принять доводы о необходимости существования клетки, учитывая новые условия, в которых очутился лилипут. Мир, окружающий его, – пытается донести свою идею Гулливер, – огромен, и свобода была бы для лилипута равна смерти – столько опасностей окружает его на каждом шагу. Поэтому следует отнестись к клетке как к объективной необходимости, даже больше – как к счастливой возможности остаться в живых. Еще Гулливер предлагает лилипуту, заранее отвергая какой-либо возможный протест с его стороны, как абсолютно контрпродуктивный, выступить в цирке, что особенно важно для воспитания детей и юношества.
Далее следует вторая часть пьесы. Тот же Гулливер, в том же костюме. Но в глубине сцены угадываются очертания каких-то толстых брусьев, и по тому, что говорит Гулливер, мы понимаем: теперь уже он находится в клетке у великанов. Увещевания держащего эту клетку великана почти дословно повторяют аргументацию самого Гулливера в первой части пьесы. А Гулливер примерно теми же словами, что и его бывший узник, опровергает утверждения о счастье пребывания в клетке и теперь уже выступает в защиту свободы, несмотря на любые опасности, которые она с собой несет.







