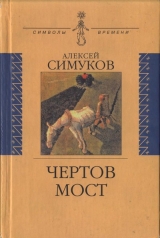
Текст книги "Чертов мост, или Моя жизнь как пылинка. Истории : (записки неунывающего)"
Автор книги: Алексей Симуков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 41 страниц)
«Волшебное зерно»
А работа над сценарием «Волшебного зерна» шла. Наконец я закончил свою сказку и снес ее на Мосфильм. К моему удивлению, сценарий приняли, назначили мне редактора, милейшего Александра Леонидовича Соловьева. Он был режиссером, но на него гаркнули как-то в прессе – он испугался и навсегда ушел из режиссуры, стал редактором.
Когда я возвращался с Мосфильма домой, я раздумывал: какая хорошая вещь советская власть. Мало того, что она приняла мой сценарий, она еще дала мне человека, единственная задача которого – сделать мое произведение как можно лучше. И еще оплачивает его работу за свой счет!
По сказкам главной фигурой на Мосфильме был тогда Александр Лукич Птушко. Он прогремел своим «Гулливером» – картиной, где впервые живой человек играл наравне с куклами. В любой капиталистической стране он был бы крупным продюсером, миллионером. Коммерция не исключалась и у нас. Я убедился в этом на собственном опыте. Мне было грустно, но я понимал: так положено в том мире, куда я попал. Птушко был нашим шефом. Нашим – потому что к работе над сказкой приступили два режиссера, впервые получившие самостоятельную постановку.
Они были по ВГИКу учениками Сергея Михайловича Эйзенштейна, великого Эйзена, крупнейшего реформатора советского кино. Одного звали Валентин Кадочников, другого Федор Филиппов. Валя был некрасив, но была в нем внутренняя упругость, уверенная хватка во всем. Я звал его по-старому «жестоким студентом», потому что чувствовал в нем натуру – «смерть девкам». Федю я звал «Рязанский Аполлон». Он был хорош собой, прямодушен, путал слова, в особенности иностранные, злоупотреблял трюизмами, типа: «Леша! Горький любил народ!» С Федей я впоследствии сделал пять картин.
В общем, это были отличные ребята. Валя в эвакуации скоро умер. Его, нездорового, послали на заготовку саксаула, он еще больше простудился и умер в Алма-Ате.
Учитель моих ребят, Сергей Михайлович Эйзенштейн, был назначен художественным руководителем постановки. Впрочем, он скоро отошел от работы. Он откровенно объяснял мне:
– Я понимаю памфлет, гротеск, но сказка, с ее наивной верой в происходящее, мне чужда.
Главными героями сказки были дети – Марийка и Андрейка, Дед Всевед, Мастер На Все Руки (И. Переверзев), злой волшебник Кара-Мор, его слуги Живоглот и Долгоносики. Живоглота дивно играл мейерхольдовец, превосходный актер Сергей Мартинсон.
Однажды подхожу я к Мосфильму и вижу длиннющую очередь из мальчиков и девочек с родителями и без. Подхожу к началу очереди – ба! Сидит мой Федя с ассистентом и выбирает героев для «Волшебного зерна». Оказывается, в «Вечерней Москве» было дано объявление: «Требуются девочка и мальчик по виду лет десяти, русского типа». Я сел рядом с Федей. Ох, и насмотрелся я маленьких человеческих трагедий! Особенно жалко было смотреть на матерей. Одна из них притащила некрасивую, затюканную дочку и страстно дирижировала ею:
– Спой! Станцуй!
Девочка, робея, покорно исполняла приказания. Получалось принужденно, вяло, а у матери в голове было: кино, гонорары, слава!
Мальчики, большей частью, приходили без взрослых, одни, группами, и когда Федя отказывал им, выкликивая: «Следующий!» – они со смехом убегали, становились снова в очередь и, подходя к Феде, сами кричали: «Следующий!» – и убегали прочь. Правда, были и обиды. Один мальчуган говорил:
– Напечатано «русского вида», а я что – китайского?
Запомнил я еще дрессировщика. Мы тогда были настроены натуралистично: раз есть сорока и кот, они должны быть настоящими. Кино! Очень было трудно заставить кота потянуться, когда нам было нужно. Пришлось загонять его в узкий ящик, а потом выпускать, чтобы он потягивался. Дрессировщик долго нам рассказывал, что главное в дрессуре – хладнокровие и выдержка. В это время ему сообщили, что сорока, которую он принес с собой, вылетела из клетки. Боже! Что сделалось с дрессировщиком! Он чуть с ума не сошел, забыв о том, что сам же только что проповедовал, заклинал всех помочь ему поймать птицу, которая носилась по павильону Мосфильма.
Съемки фильма были закончены в 1941 году уже в Алма-Ате, куда эвакуировался Мосфильм.
Новый год в Малеевке
Новый 1941 год мы с Любой встречали в Доме творчества писателей в Малеевке. Он состоял тогда из нескольких ничем не примечательных двухэтажных и одноэтажных домиков, построенных еще во времена Лаврова, редактора-издателя журнала «Русская мысль». Но в моей жизни это был первый Дом творчества, и я ловил себя на том, что с моих губ, начиная с утра, не сходит улыбка. Было здесь по-домашнему уютно. В дверь деликатно стучали: завтракать пожалуйте… и так же в обед и ужин.
Прошло почти пятьдесят лет. Накануне нового 1989 года я сижу в Малеевке, в номере люкс, на втором этаже и смотрю в окно. За окном зимний пейзаж, деревья, торчащие из оврага – все так же, как пятьдесят лет назад, но разница есть, и огромная. Время все меняет, и на месте той, старой Малеевки, стоит Малеевка сегодняшняя – пышная постройка типа сталинского ампира, только что капитально отремонтированная Литфондом. Всюду колонны, роскошь несусветная.
Вероятно, мои воспоминания о Малеевке 1941 года так благостны еще и потому, что дома у меня в то время все вроде бы тоже было благополучно. Все живы-здоровы. На встречу в Малеевке Нового 1941 года Люба тоже приехала. Сидели мы за одним столом, дружной писательской семьей. Здесь были красавец Иосиф Уткин, еврейские поэты Галкин, Кушнерович с женой, завсегдатай Малеевки писатель Иван Рахилло и еще ряд литераторов. На столе была индейка, шампанское и прочие напитки. И если бы среди этой веселой компании опять нашелся бы Де-Казотт, тот, что предсказал ужасы Французской революции и, встав среди пирующих, мрачно изрек бы, что не пройдет и года (года!), как этот прелестный уголок будет сожжен дотла… «Кем сожжен?» – Немцами! Фашистами! С которыми у нас сейчас такая тесная дружба! Представляю, какая была бы реакция на подобное предсказание! А между тем…
Меня поражает одна вещь: два самых крупных события – революция и Вторая мировая война начинались одинаково, как-то вдруг, совершенно неожиданно для общества. Ну, революция еще понятно: уже шла Первая мировая война, которая и стала одной из ее причин. Но здесь-то? Так заморочил голову Сталину Гитлер, его партнер по договору о дружбе между СССР и Германией? Хотя уж чего-чего, а непредусмотрительности у Хозяина вроде не наблюдалось. Казалось, все мог заранее рассчитать, предусмотреть. Но вся его зоркость была, в основном, субъективной. Он начисто отметал даже объективные вещи, если они не укладывались в рамки его представлений. Какие только предупреждения ни делались, даже от очень осведомленных людей, будь то Черчилль или Зорге, о конкретных сроках начала войны – все отвергалось. И неожиданность мгновенного перехода от теоретической возможности войны в будущем, к которой народ пропагандистски готовили, к войне конкретной и сегодняшней была одинаковой и для обывателя и для первого лица в государстве!
Вообще, большая мировая политика это, на мой взгляд, состязание в таком же крупном жульничестве. И если в начале войны Адольф гениально провел Иосифа, то Иосиф в 1944 году подготовил сюрприз для Адольфа. Режиссер Юрий Озеров, снявший в 1970–1972 гг. киноэпопею «Освобождение» о Великой Отечественной войне, рассказывал мне, что в 1944 году наше генеральное наступление по всему должно было начаться на юге. Командование сосредоточило на юге, под Кировоградом, две тысячи старых, негодных танков, которые пыхтели, фыркали, в общем, шумели во всю ивановскую, убедительно демонстрируя нашу подготовку броска на юг. А в это время в абсолютной секретности маршалом Жуковым готовился бросок на запад – через болота Белоруссии, через Прибалтику, где с ходу удалось блокировать армию фашистов, и далее на Кенигсберг, Пруссию, Берлин.
Сколько смертей уже стояло у нас за спинами, когда мы так весело и безмятежно встречали новый 1941 год! Вот что мне вспомнилось в Малеевке накануне 1989 года…
22 июня 1941 года
Помню, шли тогда мы с Васей Ажаевым по улице, как вдруг Молотов говорит по радио: «Немцы вероломно напали на нас».
Война! А договор о дружбе от августа 1939 года? Мы-то откладывали схватку с фашизмом туда, подальше, до своих внуков, а тут – пожалуйста, сражайтесь сами!
Как я уже говорил, войну 1914 года с немцами я, в силу возраста, как-то не ощущал. Теперешняя беда навалилась на меня сразу, всей своей тяжестью.
Вести с фронта поражали своей однозначностью. Фашисты опрокидывали наши заставы, уничтожали аэродромы, двигались все вперед и вперед.
Профессиональный комитет московских драматургов, в котором я состоял, принял решение эвакуировать наши семьи подальше от Москвы, в Ташкент.
Люба предложила Рите Мусатовой, жене детского писателя Алексея Мусатова, ехать вместе. Они были знакомы, поскольку наши дети Оля и Саша, вместе ходили в Литфондовский детский сад. Переговоры с руководством профкома кончились успешно, согласие на отъезд с нашей группой Рите было дано.
В день отъезда я поехал в Переделкино, куда детсад вывез детей на лето. Оле было семь лет. Она уже кое-что испытала – их водили по тревоге прятаться в щели.
Захватив кое-какие ее вещи, мы поехали в Москву. На Киевском вокзале Оля увидела плакат Кукрыниксов: Гитлер в виде крысы прорывает текст договора о дружбе с Германией. Она спросила меня: что это такое? Я ответил: «Война».
Не заезжая домой, мы поехали с ней прямо на Казанский вокзал, откуда отбывал наш поезд. Там уже собрались все наши. Отъезд был сравнительно спокойный. Даже шутили. Помню, с нашими семьями уезжал здоровенный физкультурник. Когда поезд тронулся, кто-то крикнул ему: «Береги свое здоровье! Не пей сырой воды!»
В эти дни я находился под большим впечатлением от разговора Ефима с братом своей жены Нади, генералом Иваном Крупенниковым. Генералом из комбригов он стал в 1940 году, когда у нас ввели эти звания. Тогда портреты новоиспеченных генералов печатались в газетах.
Так вот, буквально на следующий день после начала войны Иван Павлович сказал, что фашизм – враг очень серьезный, немцы хорошо подготовились к войне, и война затянется. Это так не соответствовало тому, на что мы рассчитывали, что я приуныл. Ефима это озадачило не в меньшей степени.
С самим же генералом Крупенниковым приключилось следующее: когда он уходил на фронт, жена его, как водится, плакала. И он ей сказал:
– Чего ты плачешь? У солдата два пути: или убьют, или приду домой с победой. А ты знаешь, как у нас умеют награждать!
Он не знал, что существует третий путь. Иван Павлович взял к себе в адъютанты старшего сына. Все-таки при себе, на глазах. Однажды, на фронте, ему нужно было осмотреть захваченную нами трофейную технику. С группой сопровождения он поехал на осмотр. И тут они нарвались на засаду. Произошла перестрелка. «При себе, на глазах» убили его сына, перестреляли охрану. Генерала захватили в плен. Впоследствии мне рассказывал один генерал, с которым я познакомился в Евпатории, что за Крупенниковым немцы специально охотились – он только что получил новый шифр. Трофеи же были приманкой, чтобы заманить генерала в ловушку [79]79
Генерал И. П. Крупенников был расстрелян 28 августа 1950 года. Это стало известно благодаря публикации «расстрельных списков» в газете «Вечерняя Москва» в начале 90-х годов.
[Закрыть].
И вот потянулись долгие месяцы, годы плена, причем немцы ни на минуту не оставляли его в покое, тем более что перед войной он служил в Белорусском округе, вместе с Власовым. Склонить Ивана Павловича на измену не удалось, но и когда кончилась война и он попал в руки к своим – свободы он тоже не увидел. Арест, тюрьма. Его жену и полуслепую 80-летнюю мать арестовали тогда же, посадили в Бутырки, а потом сослали вместе с младшим сыном под Караганду. Позже родным прислали официальное свидетельство о смерти, в котором сообщалось, что И. П. Крупенников скончался в заключении.
Эмалированная кружка. Эвакуация
Я был освобожден от военной службы, имел белый билет, как тогда говорили, по зрению. Однако, движимый патриотическим чувством, я сразу же записался в ополчение. Ничего, думал я, вспомню прежний всеобуч, тряхну стариной, да меня еще подучат – буду бить фашиста! Нас, большую группу необученных, собрали в школу, что находилась в переулке за Музеем революции [80]80
Ныне Государственный центральный музей современной истории России.
[Закрыть]. Прошел день, прошел второй – с нами ничего не делают. Как будто никакой войны нет. Но ведь надо же нас как-то учить, дать винтовки хотя бы – ничего! Настроение спокойное, обещают начать занятия. Отпустили на два часа к семьям. Вернулись. И тут я вижу, что забыл очень важную вещь.
Вообще-то я приготовился к войне – взял ящичек с акварелью и сонеты Шекспира в переводе Маршака. Но я не взял кружки! Согласитесь, что мне, воину, которому еще не доверили оружие, без кружки – труба! Я отпросился на часок, сбегать к маме в Хрущевский переулок, мои-то уже были в эвакуации. Меня отпустили. С мамой произошел характерный диалог: мама, мало представлявшая себе обстановку, к которой я себя готовил, сказала:
– Леша, зачем тебе кружка? Неужели там тебе не дадут? А это хорошая, эмалированная, ты ее обязательно потеряешь!
Ее можно понять – Леша всегда и всюду все теряет…
– Мама, – воскликнул я патетически, – дело идет о жизни и смерти, а ты о кружке!
Словом, схватил я эту кружку и побежал назад, в школу – и никого не застал. Всех словно ветром сдуло. Я оцепенел. Только что школа гудела, как улей – и никого! Какой-то человек сидел и что-то писал. Я спросил его:
– Что случилось?
– Приказ, – ответил он важно. – Мигом построили – и на вокзал.
– А что же мне теперь делать?
Он посмотрел на меня, секунду подумал.
– Ждите приказа, – сказал он.
Так, с кружкой, ящичком с акварелью и сонетами Шекспира, то есть с полной боевой выкладкой я вернулся домой.
За несколько дней до этого мы вместе с Ефимом зашли к писателю Петру Скосыреву. Его долго не было. Мы разговаривали с его женой Таней, с которой вместе учились в АХРРе. Вдруг он показался в дверях, поманил жену в прихожую. И мы с Фимой услышали его полушепот:
– Прорыв под Ельней.
Это было сказано так, что мы поняли, что присутствуем при историческом миге. Взята Ельня – открыта дорога на Москву.
Позже я узнал, что в то время на Смоленском направлении у нас образовалась опаснейшая, смертельная дыра. Эту дыру нужно было заткнуть кем угодно, но молниеносно – вот и заткнули ополченцами. Почти никто не вернулся оттуда. Да и немудрено. Мало кто из ополченцев видел винтовку, не то что держал ее в руках… [81]81
Говоря о московском ополчении и его судьбе, нельзя не сослаться на статью Гавриила Попова, президента Международного университета (в Москве), «Правду, только правду, всю правду. К 60-летию победы под Москвой» (см.: «Московский комсомолец», 14,20, 26 и 28 ноября 2001 г.), в которой глубоко анализируются события того периода.
[Закрыть]
Все мои попытки после этого как-то выяснить – что же мне делать со своим ополченским статусом, куда пойти, к кому примкнуть – не имели успеха. Сказано было – ждите, и я ждал. Больше меня никто никуда не вызывал – действовало мое прежнее освобождение от воинской службы.
Дела на фронте шли все хуже и хуже. Враг, ломая наше ожесточенное сопротивление, приближался к Москве. И вот он уже в Красной Поляне, в двадцати семи километрах от центра столицы по Дмитровскому направлению. А отдельные мотоциклисты-разведчики прорывались даже в район нынешней больницы МПС. Это же конечная остановка 12 маршрута троллейбуса, идущего по Тверской!
До сих пор не понимаю, почему наступила пауза. То ли Гитлер предполагал какую-то особую каверзу с нашей стороны, то ли поджидал резерва. Но Москва именно в эту паузу ринулась прочь из города. Да, тогда была такая паника – не хочешь быть под немцами, давай, тикай! Правительство перебралось в Куйбышев. Были заминированы заводы, Кремль, метро. В общем, атмосфера была такая – вот-вот в Москву войдут немцы. А что войска? Перед отъездом я видел одного нашего воина: кургузая пилотка, оборванная шинелишка, на ногах замызганные обмотки… «Да, – подумал я, – с такими навоюешь». Но именно такие, с помощью сибиряков, и отстояли Москву!
Я уезжал в Ташкент со своим профкомом драматургов. Люба с Олей уже там были. Вместе со мной уезжала и моя сестра. Мама и тетя Оля решили никуда не трогаться.
На Казанском вокзале столпотворение. Рассказывали, что Камерный театр уехал на дачном поезде. Мне передавал человек, видевший сцену, как М. Храпченко, тогда председатель Комитета по делам искусств, тряс коменданта вокзала за грудки, крича:
– Мы должны спасти Шостаковича! Понимаете ли, что это ценнейшее народное достояние?
Мы ехали в Ташкент в товарном вагоне… Кто-то поведал нам о том, что случилось с Лукониным, нашим известным поэтом, до войны являвшим собой образец мужественности. Он писал о басмачах, дома у него над диваном висело оружие. Молодые поэты ходили к нему слушать, как он декламировал свои стихи, разглядывали кинжалы и шашки, украшавшие стены.
И надо было случиться, что в первый же выезд на фронт его физическая натура не выдержала. Он ничего с собой не смог сделать и, в конце концов, уехал в Ташкент. Молодые поэты, его ученики, сражались, гибли, а он оставался в Ташкенте, проклиная свою натуру.
Но вот что самое дорогое в этой истории. Кончилась война. Кто жив, вернулись в Москву. И так велико было довоенное обаяние, талант Луконина, что выжившие на войне молодые поэты вновь вернулись к нему, окружили его бережным строем и никто, никогда, ни одним словом не упрекнул его. И когда пришел его час, он отошел от нас таким же почитаемым, как и прежде…
По дороге, где-то в степях мы задержались на одной из станций – ждали встречного поезда. И он вскоре подошел. Это было как в сказке. Из одного вагона выскочил трубач. Труба запела, и вдруг разом открылись все двери огромного товарного эшелона и на землю посыпались румяные молодцы, все в новых полушубках, с автоматами… Это было незабываемое зрелище! То сибиряки спешили на выручку Москве.
Вскоре после этого так случилось, что я отстал от поезда. Выбежал купить еды, вернулся – поезд уже ушел. Я ничуть не испугался и пошел по шпалам вслед. У меня было такое спокойствие, такая уверенность после встречи с сибиряками, что я нисколько не удивился, когда километров через двадцать догнал свой поезд. Кстати, какое счастье во всякого рода пертурбациях иметь «свою» организацию!
Пример Ефима, оказавшегося вне коллектива, показывает это. Он рассказывал мне потом, что все происходило как в страшном сне. Кинулся в одно место – пусто, в другое – то же самое, на полу валяются одни бумажки, в третье – сию минуту уехали, автомобили еще за угол не завернули. Не знаю, как ему удалось покинуть Москву. Наш Радомысленский укатил на грузовике, сидя на ворохе какого-то груза.
Кто ехал с нами, в нашем товарном вагоне? Хорошо помню старого «сатириконца» Михаила Петровича Пустынина с женой, опереточного либреттиста Михаила Гальперина, о котором говаривали: «Гроза супружеских перин, Михал Петрович Гальперин».
Когда мы проезжали через казахстанские степи, по ночам слышался голос жены Пустынина:
– Миша, мне страшно… Верблюды… Где ты?
И ответ супруга:
– Здесь, здесь, я тут… Спи спокойно!
Как-то раз Михаилу Петровичу срочно потребовалась пустая бутылка. Жена, не зная, зачем она ему понадобилась, дала ему роскошный хрустальный графин с серебряной оковкой. Когда она узнала, на что он был употреблен, она устроила скандал, хотела выкинуть графин, да, видно, пожалела…
Нас было много в товарном вагоне… Переносили болезни, бытовые неудобства, иногда граничившие с подлинной бедой… На остановках забегали из других вагонов. В Куйбышеве кто-то поинтересовался у драматурга Исидора Штока, что он будет делать в эвакуации? Шток немедленно ответил:
– Торговать своим роскошным телом!
В общем, спустя немалое время мы прибыли в Ташкент. Встречала нас Зина Маркина. О, это была женщина-динамит, так я ее прозвал. Она организовала отправку первого эшелона с нашими семьями, она помогала устройству всех и теперь. По профессии сценаристка, автор сценария известного фильма «Комсомольск», она легко справлялась с трудностями, обрушившимися на каждого из нас. Впоследствии она прославилась тем, что построила в Москве на улице Усиевича прекрасный многоэтажный дом, там теперь на первом этаже – Литфонд.
Тогда молодая, интересная, полная жизненных сил, Зина Маркина привлекала внимание мужчин, и немудрено, что в свое время ею увлекся Саша Разумовский, написавший в соавторстве с Игорем Бахтеревым интересную пьесу «Суворов», которая шла в Камерном театре.
Он был из тех самых Разумовских, потомков брата фаворита императрицы Елизаветы Петровны. Правда, женившись на зубном враче, которая родила ему двух сыновей, Сашу и его брата, их отец несколько «испортил» кровь. Саша как-то с улыбкой рассказал нам о том, как определенная картавость, полученная его братом-профессором в наследство от матери, привела к инциденту в магазине. Выразив свое неудовольствие по поводу обслуживания, он в ответ получил нелестную реплику о «сынах Израилевых» в более примитивном выражении, которые «повсюду вмешиваются». На это возмущенный профессор, грассируя, воскликнул:
– Я не евгей, я – ггаф!
Саша же прославился тем, что вел через всю Москву до своей дачи корову, веткой отгоняя от нее мух. Корову купила Зина, которая стала его женой.
Я жалею, что не видел этой картины. Она достойно вписывалась в нашу бурную жизнь того времени. Ведь Саша был «обэриутом», то есть членом литературного содружества «Объединение реального искусства» [82]82
Литературная группа, существовавшая в Ленинграде в 1926–1927 гг. В нее входили Д. И. Хармс, Н. А. Заболоцкий, И В. Бахтеревидр.
[Закрыть]. Шествие с коровой по своей экстравагантности вполне соответствовало поэзии Даниила Хармса, Николая Заболоцкого, было сродни музе Александра Введенского – товарищей Разумовского по этому объединению. Ибо смысл их поэзии был вполне реален, несмотря на причудливость формы. В данном случае – нужно было молоко, молоко находилось в корове, корову необходимо было доставить на дачу – все реально. И еще – веточка!
Чудесный человек Саша Разумовский! Его далекий предок Грицко Розум прав был, хватаясь, бывало, за свою хмельную голову: «Що за голова, що за розум!» Причудливый, но вполне реальный разум сохранился у его потомка. Поэтические искания и сопровождение коровы было для него нормальным сочетанием.







