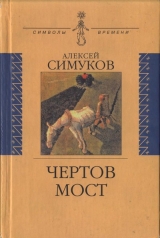
Текст книги "Чертов мост, или Моя жизнь как пылинка. Истории : (записки неунывающего)"
Автор книги: Алексей Симуков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 41 страниц)
– Нет! – воскликнул я. – Зачем же беспокоить столь высокие инстанции! – И продолжал ускользать от ответа.
И тогда Дмитрий Иванович вдруг сказал, обращаясь к Саконтикову:
– И сказал тут волк человечьим голосом: говно твое дело, Иван-царевич!..
Наступила пауза. Наконец Саконтиков вымолвил, заикаясь по своему обыкновению:
– Эт-то кто же Ив-в-ан-царевич?..
Словом, свою кандидатуру я отвел. Мне это легко было сделать. У меня не было в кармане партийного билета. Я был и есть беспартийный. Выходя из кабинета, в «предбаннике» я увидел еще одного кандидата. Это был Игорь Чекин, длинный, тощий, бледный, рыжий, автор пьесы под названием «Я». «Поедешь, – подумал я, – не отвертишься». И он действительно поехал, прослужил года два, но на его дальнейшую судьбу эта поездка никак не повлияла.
А я вскоре получил предложение Н. Михайлова написать своих «Девиц-красавиц».
Александр Довженко
Я впервые увидел Александра Довженко, нашего великого кинорежиссера, философа с тончайшей душой художника на встрече в Политуправлении Красной Армии, во время войны. Он выступил там со страстной речью о том, что нельзя механически делить: ты был под немцами, ты не был, кто был – подозрителен, требует проверки и т. д., потому что народ всегда един. Он говорил о мучениях народа, о том, как избирали старост – по требованию немцев, и как в старосты частенько шли герои, мученики, во имя спасения людей. Его во многом трагическая речь произвела на меня глубочайшее впечатление, и я всегда помню о ней.
В 1939 году Довженко поставил картину «Щорс». «Хозяину» она понравилась. Потом Александр Петрович заинтересовался судьбой Мичурина – «трудной, мучительной…» – так он говорил мне о своем герое. Привлекал Довженко и характер Мичурина, чем-то схожий с его собственным. Ведь у художника всегда своя драма, где бы и при каком правительстве он ни жил. И Довженко сделал фильм «Мичурин», который никто из нас до той поры не видел. Когда его просматривали в малом зале Министерства кинематографии в Гнездниковском переулке, члены художественного совета А. Сурков, Л. Леонов и еще несколько человек после окончания фильма молча обступили Довженко и долго молчали – так поразил их этот фильм. И я слышал от людей, видевших картину, что она была гениальной. Центральные фигуры в фильме – сам Мичурин, его жена и рабочий, всю жизнь проработавший с ним. Эти двое людей, ежедневно общавшиеся с ученым-творцом, трудным по характеру, порою злым, капризным, были мучениками, но их связывала любовь к тому, кто единственный на свете знает, чему он посвятил свой каторжный труд, свою горькую, нелегкую судьбу… Как водится, картину отправили в Кремль. И вскоре оттуда прошелестела весть: картина не понравилась.
Потом было приглашение Довженко к Жданову. Ничего нельзя сказать – Жданов был готов к встрече. Книги по специальным вопросам загромождали стол. Он осторожно, но настойчиво начал разговор – естественно, от имени народа, а как же иначе? Все у нас делалось от имени народа… И постепенно Довженко становилось ясно, что тема творчества, интересовавшая режиссера, нисколько не увлекает собеседника.
– Народ не поймет, – говорил тот. – Народу нужно показать, в чем заключалась реформа великого Мичурина.
Вся программа, предложенная Ждановым Довженко, была, по существу, программой научно-популярного фильма – он так это понял. Потом Жданов сказал:
– Решайте сами. Мы не хотели бы вас насиловать. Хотите – выпустим фильм в таком виде. Мы покритикуем вас. Покритикуем… – И, сделав паузу, прибавил: – Но если бы вы согласились с нами… любые сроки… любые деньги…
Мне эта сцена напоминает евангельскую притчу о дьяволе, который искушал Христа. Как он показывал Христу мир, какими картинами соблазнял… Каюсь, у меня с детства была одна жаркая молитва к Христу: Боже, избавь меня от необходимости выбора! А тут… Ведь самое страшное было в том, что когда с нами говорили от имени народа, мы верили, что это так… И Фадеев ради этого переделывал свою «Молодую гвардию», и многие, многие другие. И Довженко сдался. Кроме себя он еще думал о людях, о своей группе. Он понимал, что значат слова: покритикуем… Это значит, что люди из-за него будут нести бесчисленные материальные и моральные потери, ведь кино – искусство коллективное.
И он начал работать над новым вариантом картины. Результаты его работы я уже видел – все в том же малом просмотровом зале министра. Пока шел фильм, Довженко не было в зале. Он ходил взад и вперед по коридору, судорожно сжимая руки. Но его отсутствие и не заметили. Взоры всех были прикованы к человеку, которого я видел первый и последний раз в жизни. Это был Трофим Денисович Лысенко. Страшный, белоглазый фанатик, неуч, погубивший академика Вавилова и многих, многих других.
Фильм кончился. Началось обсуждение. Лысенко фильм принял – это было все, что нужно министерству, и народ увидел фильм: пионерские шествия, флаги и объяснения, почему из груши получается яблоко и наоборот.
Потом у Довженко были какие-то крупные неприятности по документальной картине об Украине периода войны. И на этот раз он не угодил Сталину.
Верный своему чуткому сердцу, Александр Петрович изобразил беды народа во время войны так, как это было на самом деле. А этого, оказывается, не требовалось. Нужно было вооружать людей на борьбу за восстановление, а не размагничивать. Бедный художник!
У Булгакова в его пьесе о Пушкине есть монолог на станции сыщика Биткова. Я видел в этой роли В. Топоркова. Он гениально рассказывает жене смотрителя о Пушкине: «Как ни напишет – мимо! Еще написал – не туда! Еще – опять не туда!»
Всегдашний разрыв между творцом и прагматизмом власти…
И еще я помню Довженко в 1954 году. Колонный зал Дома Союзов. Идет Второй Всесоюзный съезд писателей. Я был на нем делегатом. Он собрался через двадцать лет после первого съезда. Мы были опьянены. Сталина уже нет. Довженко в Колонном зале говорит страстно, убежденно… О чем? О Космосе. Какой космос? Что он имеет в виду? Он показался нам тогда городским сумасшедшим, одиноким безумцем, выкрикивавшем непонятные слова. А ведь эпоха космоса была уже у нас на носу, но еще никто из нас, земных, не знал, не задумывался, что она несет миру?
И, наконец, лето в Мичуринце, местечке под Москвой, рядом с Переделкино, где мы снимали дачу. Мои прогулки с Александром Петровичем, во время которых он мне много чего рассказывал. Там он поведал мне о своей «триаде», если так можно сказать. В чем она состояла? Человек рождается как часть Природы. Он ее – от плоти – весь.
Потом он отторгается человеческим обществом от нее и вступает в самую жестокую часть своего существования: обществу нужны твои силы, и только силы.
Старея, ты делаешься ненужным обществу, и общество перестает тебя уважать. Тут-то и понимаешь жестокость людей.
И тогда ты, стариком, снова уходишь в Природу, но уже обогащенный опытом, полученным в человеческом обществе. Ты можешь помогать ей стать лучше, обильней и, когда наступит твой последний час, Природа тебя примет, и ты снова станешь ее частью… Вот чем поделился со мной великий художник, мыслитель и певец, печальник судеб человеческих – Александр Довженко…
Д. П. Святополк-Мирский. Всеобщий морок
Уже после смерти Сталина, при Хрущеве, когда началась великая кампания по реабилитации и возвращению заключенных из лагерей, мне в Союзе писателей поручили отрецензировать пьесу одного несчастного, который сидел по обвинению в подготовке покушения на жизнь нашего вождя. Мы разговорились, и он рассказал мне свою историю…
После погромов 1904–1905 годов его мать получила от своих родственников из Южной Америки знаменитую «шиффс-карту» (пароходный билет) и со всей семьей переехала в Бразилию, в Рио-де-Жанейро. Как говорил мой собеседник, он подрос и, следуя примеру своих братьев по классу, примкнул к рабочему движению. Его задерживала полиция раз, другой, а затем он был приглашен к начальнику полиции Рио-де-Жанейро. Тот предложил ему посмотреть в окно и сказать, что он там видит.
– Синее-синее, чудесное небо, – ответил ему задержанный.
– Так вот, – сказал начальник полиции, – давай договоримся. Или ты прекратишь свои политические штучки и до окончания дней своих будешь иметь над головой это чудесное синее небо – или… у нас будет другой разговор.
И они расстались.
Так как мой новый знакомый не внял совету начальника полиции, вскоре последовала резолюция: депортировать такого-то на его социалистическую родину, пусть любуется на свое небо, поскольку там его революционный склад ума найдет лучшее применение. Так и сделали – выслали его в СССР. В Москве он получил место на радио и работал в редакции, вещавшей на Южную Америку до того момента, когда, как вы уже догадались, его посадили за решетку.
Он получил десять лет лагерей и там, на Колыме, встретил «красного князя» Дмитрия Петровича Святополк-Мирского, сына министра внутренних дел при Николае II, бывшего эмигранта. Находясь в Англии, князь Святополк-Мирский славился своими симпатиями к Советскому Союзу, был частым гостем на светских раутах, которые устраивал советский посол в Лондоне. А. М. Горький уговорил его вернуться на Родину, что он, к несчастью для себя, и сделал, став известным у нас, как критик Мирский [93]93
Дмитрий Петрович Святополк-Мирский(1890–1939), князь, отпрыск старинной аристократической фамилии, ведущей начало от Рюриковичей. Отец его возглавлял Министерство внутренних дел при Николае II в 1904–1905 гг. До революции Дмитрий Петрович получил филологическое, а затем военное образование, служил в царскосельской лейб-гвардии. Участник Первой мировой войны и Белого движения. С 1920 г. в эмиграции, в 1921 г. поселился в Англии. Учредитель и соредактор журнала «Версты» (1926–1928). В 1931 г. вступил в компартию Великобритании и в 1932 г. вернулся в СССР. Член Союза советских писателей (1934).
[Закрыть].
Князь все время писал письма Сталину, Ворошилову, Калинину, но не получал ответа. Наконец его вызвал начальник лагеря и, показав все письма, так и не покинувшие лагеря, выбросил их в печку. Убедившись, что о правах человека, а тем более заключенного, в СССР существуют свои понятия, не сходные с убеждениями, которые исповедовал князь, он обиделся, перешел на французский язык и прекратил сидеть. Он только стоял и лежал. Надо полагать, что протест, выраженный таким способом, не облегчил его участи. И он скоро умер.
Мог погибнуть и мой рассказчик, так как в лагере на него натравили власовцев и уголовников, но, к счастью, за него вступилась русская женщина, близкая к кухне, и кое-как его отстояла. Он выжил. В 1961 году он написал пьесу о неграх в Бразилии, восставших и организовавших где-то в болотах свою республику, презрев рабство. Попытки выкурить их оттуда плантаторам не удавались, пока в ход не были пущены змеи – жакараки, которые – только они! – погубили свободу. Негры вышли из болот. Республика кончилась. Дальнейшей судьбы новоявленного драматурга я не знаю, а вот имя князя Святополка-Мирского вновь всплыло в рассказе моей знакомой, драматурга Аллы Борозиной.
В то время, в 1935–1937 гг., Алла Борозина была молодой, красивой женщиной и водила компанию с рядом литераторов – со Стеничем, блестящим переводчиком с английского Дос Пассоса и других американских авторов и столь же блестящим молодым человеком, советским денди, с Юрием Олешей, Михаилом Светловым и Святополк-Мирским, который в этом обществе был самым старшим, самым сдержанным.
Как-то были они в одной компании. Олеша и Стенич скоро ушли домой. Нелегкая задача: кто последний останется с Аллой, чтобы проводить ее. Никто – ни Мирский, ни Светлов не хотели уступить этого права. Поехали провожать Аллу вдвоем. Уже доехав, выходя из машины, князь неожиданно обратился к Алле:
– Аллочка, у меня к вам просьба.
– Какая?
– Поцелуйте меня.
Это было сказано с такой силой, с такой внутренней напряженностью, что всем стало не по себе. Очевидно, долго скрываемое чувство вдруг прорвалось у князя.
– Ну, вот еще! Чего ради? – с обычной строптивостью отозвалась Алла.
– Да ладно! Поцелуй, убудет тебя, что ли? – небрежно обронил Светлов.
– Не хочу! – безжалостно отрезала Алла.
Святополк-Мирский тяжело вздохнул и, втянув голову в плечи, как будто потухнув, пошел прочь. В ту ночь его взяли [94]94
Своими откровенными воспоминаниями о том страшном времени поделился Иван Михайлович Гронский (1894–1985), главный редактор газеты «Известия ЦИК СССР» в 1931–1934 гг. В частности, в 1963 году он рассказывал о том, как он предлагал Генриху Ягоде, наркому НКВД, «заняться», т. е. фактически арестовать Святополк-Мирского еще в середине 30-х. Как же! Сын царского министра, бывший белоэмигрант! «Я сказал о своих сомнениях Ягоде и просил заняться Мирским – подозрительный тип! Он говорит: ну, ты всех подозреваешь!» Гронский на этом не успокоился и рассказал о Мирском Сталину. Тем не менее Мирского арестовали только в июне 1937 г. Он погиб в лагере в 1939 г., посмертно реабилитирован. Гронский был арестован летом 1938 г., провел в тюрьме и ссылке 16 лет. На свободу вышел в 1954 г. (Гронский И. М.Беседа о Горьком. Сб. «Минувшее». № 10. М.-СПб., 1992).
[Закрыть].
Всю свою жизнь Алла не могла простить себе этого. Он будто хотел попрощаться с ней – навек. Потом взяли Стенича, потом – мужа Аллы.
Дикость, непредсказуемость того времени, когда жизнь человека зависела порой от чистой случайности, хорошо иллюстрирует эпизод, рассказанный мне сценаристом И. Менджерицким. Одна знакомая их семьи, жена сербского революционера, жившего в доме Коминтерна, рядом с Манежем, возвращалась откуда-то поздно, часа в два ночи. Войдя в вестибюль, она увидела молодого человека из соответствующего ведомства со списком в руках и дворника, видимо, понятого. Увидев ее, молодой человек предложил ей быть понятой, ибо по закону их полагается двое. Случайно взглянув на список, который молодой человек держал в руках, она с ужасом первой увидела свою фамилию. Она сказала, что не может быть понятой, и указала причину. Он посмотрел на список, потом на часы и… вычеркнул ее фамилию.
– Идемте! – сказал он. – Время позднее.
И они пошли.
Вот так это бывало.
Когда нам случалось быть вместе с Юрой Каравкиным, первым мужем моей сестры, мы частенько задавали себе этот вопрос. И у него и у меня взяли братьев, мы скрывали это от властей, наивно полагая, что органы ни о чем не догадываются. Но если они знали, то почему мы оставались на свободе? Меч висел над нами, каждую минуту он мог опуститься, а мы жили нормальной жизнью, работали, встречались с друзьями, веселились… Почему мы не рвали на себе одежд, почему я не вспоминал каждую минуту о своем несчастье? Уменьшилась моя любовь к брату? Моя вера в его полную невиновность? Нет, ни в коем случае. Тогда что же? Я принял его арест как данность – и все? Ведь лезвие и на меня могло опуститься в любую минуту!
Сейчас, в весьма зрелом возрасте, я часто об этом думаю. Или постепенно сложилось такое общество, которое – страшно даже произносить это слово – привыкло к тому, что каждую ночь то одного, то другого из нас «берут»? Утром мы обменивались этими новостями, потом смыкали ряды и продолжали жить дальше? Кому-нибудь приходило в голову, что так жить нельзя, так жить позорно? Кто-нибудь из нас сделал попытку покончить с тираном?
Я помню, самое большее, на что я мог решиться летом 1937 году в Малаховке, это зайти в лес погуще и громко крикнуть: «Я больше так не могу!»
Приходишь к весьма грустным, весьма нелестным для нашего общества в целом выводам. То, что я тогда легко, искренне писал и мой юмор, такой органичный, – что это? Голос народа или мои личные игры, которые приносили удовлетворение только мне? А как же мой успех у зрителя? Может быть, мои пьесы помогали хоть на минуту забыть эти невеселые думы? А многие и не знали или делали вид, что не знали.
Эти вопросы мучают меня до сих пор. Нелегко делать такие выводы. Но слишком легко мы поддались злой воле человека, который совершил, если хотите, грандиозный эксперимент: один перевернул огромный пласт, по существу, создал новое общество трусов, рабов, со стойкими традициями, переходящими из поколения в поколения, то есть совершил физические и психические изменения целого народа. Или народ был готов к этому по своей природной сути? Проклятый, трижды проклятый вопрос…
Разные голоса Евгения Суркова
Поработал я, и с интересом, в комиссии по драматургии Союза писателей, куда меня рекомендовал вместо себя драматург из «старшего поколения» – Борис Лавренев. За взбалмошность своего характера он был прозван острословами «бешеным огурцом», однако ко мне Лавренев был неизменно благосклонен.
Работая в комиссии Союза писателей, я познавал всю внутреннюю механику этого довольно громоздкого учреждения. Так, подошло время подводить какие-то итоги – то ли конец сезона, то ли что-то другое. Собрался народ. Я сделал доклад и мимоходом, не по основной теме, похвалил пьесу «Гости» Л. Зорина, появившуюся в том сезоне. Оказалось, что главная мысль пьесы – выявление у нас чуждой нам социальной среды, чиновничества, бюрократии – вызвала резкое осуждение Хрущева. Был дан сигнал, и на страницах «Советской культуры» появилась полоса, посвященная нашим выступлениям. Я говорю «нашим», потому что одновременно со мной были подвергнуты «порке» Константин Симонов и Борис Лавренев, также похвалившие пьесу. Меня утешали товарищи, говоря, что фраза из статьи: «Медвежью услугу родному искусству оказал А. Симуков» – не политическая формулировка, но мне было не легче! Полоса в «Советской культуре» была без подписи. По тогдашним меркам считалось, что это придает «выступлению газеты» большее значение. Мне же сказали, что писал ее мой друг Евгений Сурков.
Ах, Женя, Женя! Талантлив он был необычайно. Ораторы у нас известны: Луначарский, Алексей Сурков и Женя… Я слышал его доклад о Грибоедове. Ни разу не заглянув в бумажку, он произнес блестящую речь о значении Грибоедова для нашей литературы. Да, это был талант и вместе с тем фигура трагичнейшая!
У нас в Литературном институте он как-то читал доклад о «лишних» персонажах в драматургии А. Н. Островского – тоже блеск! Остроумно, точно. Я слышал его выступления на разных заседаниях, скажем, в Министерстве культуры СССР – тоже великолепно. Но, будучи по форме блестящим акафистом очередному правительственному установлению, в его выступлениях нередко звучала фальшь. Однажды в Союзе писателей А. А. Фадеев возмущался тем, что Евгений Сурков, быв в то время завлитом МХАТа, не ответил ему на письмо по поводу какой-то пьесы. И в это время со своим огромным портфелем, почти в собственный рост, в зал входит Женя. Он слышит инвективу Фадеева и с ходу начинает отвечать. Но как! В безукоризненной форме он намекает нам всем на известную слабость Фадеева – склонность к горячительным напиткам, что мешает тому сохранять память, что все было не так. То есть он буквально высек Фадеева на наших глазах и так интеллигентно, аккуратно. Какой оратор! Не случайно наша власть не оставляла его своим вниманием. Начал он с начальника реперткома, потом был во МХАТе, потом в газете, потом стал главным редактором журнала «Советское кино». Но всегда мы замечали: одно назначение, другое, новое повышение – и стоп! Некая планка не давала Жене подняться до уровня хотя бы замминистра, кем он по своим способностям вполне мог бы стать. Или слишком интеллигентным был, что ли? Потом прокол, от него не зависящий – дочь вышла замуж за иностранца и уехала с ним. Ну и что такого? А его все-таки с поста главного редактора сняли. Нельзя. Такое было время.
На что способен был Сурков, показывает его статья по поводу романа В. Кочетова [95]95
Всеволод Кочетов в 50–60-е годы был автором ряда ортодоксальных соцреалистических романов.
[Закрыть]«Секретарь обкома». Не знаю уж, по какому случаю Сурков так разошелся, но прославленному Кочетову был нанесен удар, от которого он, по существу, уже не оправился. Сколько блеска, какая четкость мысли, чеканность формы в этом выступлении, полном негодования против всяческой фальши и спекуляции! Тут наш Женя вдруг заговорил своим, не чужим голосом.
Подобно мужчинам маленького роста, у Жени были гипертрофированные представления о своей роли в жизни, о своей неотразимости для женщин, на романы с которыми он пускался без разбору… Но мне всегда казалось, что его душа напоминает лунный пейзаж – кратеры и долины, полные необыкновенной красоты. Но все это неодухотворено, мертво.
Вдруг – известие о его смерти! А если разобраться, подготовкой к этому была вся его жизнь.
Однажды, когда Липа, его жена, ушла к приятельнице. Женя, накопивши изрядную порцию снотворного, заперся на кухне, заткнул все возможные щели, принял снотворное, открыл газ… Видно, тяжело ему было носить в себе все то, что накопилось в душе. Трагедия его заключалась в том, что огромные свои способности он не мог реализовать в том времени, в котором жил. Он носил в душе великий страх, пугался собственной тени… Он понимал, какие возможности заложила в нем природа – и необходимость скрывать их или направлять по ложному пути постоянно подтачивала его существо.
Газ и снотворное подействовали. Очевидно, суд над собой Евгений Сурков произвел жестокий, но справедливый. Он не хотел больше жить. Мир его праху!
«Красный граф»
В конце 30-х я частенько видел в Доме литераторов молодецкую фигуру графа А. А. Игнатьева [96]96
А. А. Игнатьев(1877–1954), русский дипломат, генерал-лейтенант, писатель. В 1908–1912 гг. – военный агенте Дании, Швеции и Норвегии, в 1912–1917 гг. – военный агент во Франции. До 1937 г. работал в Торгпредстве СССР в Париже. Автор известной книги «Пятьдесят лет в строю» (1950).
[Закрыть]. Нередко он появлялся снизу, из кухни, где над чем-то колдовал, так как умел и любил готовить. Я знал, что он был военным атташе Российской империи во Франции, после революции передал Советскому правительству огромные суммы, которыми он распоряжался, заказывая вооружение во время Первой мировой войны.
Я был на одном заседании в ЦК комсомола, где меня познакомили с ним. Шел 1944 год, третий год Великой Отечественной войны. Выступал представитель белорусских партизан, рассказывал о борьбе, которую они ведут с немцами.
Игнатьев говорил, что нужно уже думать об окончании военных действий, когда на литературу ляжет задача развлекать народ, уставший от войны.
Второй раз я встретился с Игнатьевым и его супругой, Наталией Владимировной, в кабинете директора Мультфильма, Александра Степановича Синицина. Игнатьев был приглашен прочитать лекцию о манерах. Он с хозяином кабинета увлекся воспоминаниями о Франции, где они в свое время вместе работали, а я стал собеседником Натальи Владимировны. Она все спрашивала меня:
– Вы говорите – искусство, любовь, но где же у вас ню? Где ню?..
Наверно, она вспоминала свою молодость, когда она, прославленная артистка кафешантана, выступала только в обтягивающем фигуру трико. У меня, кстати, есть картпосталь (почтовая открытка), где она изображена в таком виде.
В этот момент, оторвавшись на секунду от разговора с хозяином кабинета, Алексей Алексеевич, явно играя эдакого гвардейского бурбона, вдруг бросил нам:
– Любовь? Как у Щипачева? На скамейке? [97]97
«Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне…» Имеется в виду стихотворение С. Щипачева «Любовью дорожить умейте…» (1939).
[Закрыть]– И захохотал специальным «бурбонским» смехом.
И еще одно воспоминание. Я был в то время исполняющим обязанности главного редактора Репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры СССР. Однажды принял визит Александра Степановича Синицина, конечно, уже забывшего меня. Я напомнил о себе, и мы погрузились в воспоминания. Тогда Александр Степанович упомянул про мать Алексея Алексеевича Игнатьева, графиню Софью Сергеевну. Когда в 1937 году Игнатьев решил вернуться в СССР, Синицин был в числе тех, кто провожал его в Париже. И вот, в присутствии группы эмигрантов, которые собрались, чтобы лишний раз подчеркнуть свое возмущение позицией «красного графа», устроить некую демонстрацию, появилась Софья Сергеевна. Алексей Алексеевич из-за своих политических воззрений и, в особенности, вследствие женитьбы на кафешантанной диве был презрен всей своей родней. Графиня обратилась к Синицину и, никак не реагируя на приветствие находящегося тут же своего сына, сказала:
– Передайте вашему правительству, что я знаю своего сына: если он на что-нибудь решается, он делает это от всего сердца и – до конца! Сказав это, графиня, так и не попрощавшись с сыном, отбыла…
Мы еще немного повспоминали Алексея Алексеевича, к тому времени уже покойного. Я сказал, что о нем говорили, будто он работал по выставкам совместно с Синициным, тогда нашим торговым представителем во Франции. Александр Степанович задумчиво повторил:
Да, по выставкам…
А потом, не выдержав, со вздохом произнес:
– А какой это был замечательный разведчик! [98]98
Как указывает Джеффри Т. Ричелсон в своей книге «История шпионажа XX века» («ЭКСМО-Пресс», 2000), А. А. Игнатьев, будучи военным атташе (агентом) в Дании и Швеции в 1908–1912 гг., «возглавлял обширную агентурную сеть в Германии».
[Закрыть]







