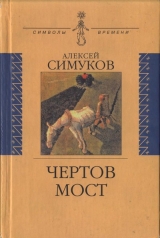
Текст книги "Чертов мост, или Моя жизнь как пылинка. Истории : (записки неунывающего)"
Автор книги: Алексей Симуков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 41 страниц)
Был он в Нижнем Новгороде актером, актера из него не получилось, пошел по профсоюзной линии. Приглянулся – парень был видный, попал помощником к самому Д. Шепилову, заведующему Агитпропом ЦК ВКП(б). Между прочим, он рассказывал, как по долгу службы знакомился с письмом одного из старых партийцев, который тянул свою лямку на непосильной каторге где-то в Сибири. Отправить такое письмо – и то был подвиг!
«Дорогой Сосо! – писал старый, по-видимому, товарищ Сталина. – Объясни, что происходит? Может быть, ты готовишь войну и очищаешь тылы? У каждого из нас, старых членов партии, были грешки, шатания, я готов тебя понять, но объясни, что ты задумал? Я должен понять!»
Когда в 1957 году «погорел» Шепилов, сгорел и Тарасов. Кое-что осталось от прежнего – роскошная квартира в доме на Кутузовском проспекте, но не это заставляло тосковать Павла Андреевича. ЦК! Никакая работа не могла заменить ЦК. У него остались еще связи, он ездил на рыбную ловлю по каким-то старым пропускам, встречался со старыми товарищами. Делясь с нами впечатлениями, он весь таял – как же, разговоры, новости… Остался еще королевский продовольственный паек – он все-таки был членом коллегии Министерства культуры СССР, начальником управления театров. И столько было в его рассказах о рыбной ловле тоски по ушедшему, о величии учреждения, которое он был вынужден покинуть…
Он не знал себе цены – ведь он мужественно воевал, был на знаменитом пятачке под Ленинградом, Невской Дубровке, где земля в несколько рядов была устлана трупами. Он только случайно не получил Героя Советского Союза, кажется, даже был представлен. И жена была ему под стать – врач, прошла вместе с ним всю войну. Но при всем том он был типичнейшим служакой сталинской школы. Выполнять приказ – и все! Назвать белое черным, или наоборот – как там, наверху скажут… Доказывая, таким образом, свою преданность «престолу».
Хорошей иллюстрацией образа мышления людей той эпохи является, на мой взгляд, эпизод из воспоминаний графини Лариш. Это касалось ее деда, австрийского императора Франца-Иосифа. Однажды он был на охоте у какого-то своего друга, командира гвардейского кавалерийского полка, и заночевал у него в замке. Ночью императору захотелось кое-куда, и он отправился на поиски нужного места как был – в одном белье. В коридоре ему попалась старая нянюшка, выкормившая когда-то хозяина замка. Увидев незнакомого мужчину в одном белье, она испуганно закричала.
– Молчите, глупая женщина, – сердито сказал ей Франц-Иосиф. – Я – ваш император.
Потрясенная нянюшка рухнула на колени и тут же запела гимн.
Вспоминаю один эпизод. Нина Петровна, супруга Никиты Сергеевича Хрущева, попросила Фурцеву помочь внучке с переводом пьесы. Та сейчас же позвонила Павлу Андреевичу и приказала заключить с внучкой Никиты Сергеевича договор на перевод. Тарасов вызвал меня и приказал выполнить распоряжение министра. Я отказываюсь, поясняя, что у нас уже есть договор на перевод этой пьесы и я не понимаю, зачем нам второй перевод. Я просил объяснить это министру. Павел Андреевич заливается краской. Никаких разговоров! Приказ министра! Хорошо, я подписал договор.
Проходит время. Рухнул Хрущев, и как раз приходит срок готовности перевода. Работа сделана – надо платить. За соответствующей визой иду к Павлу Андреевичу. И опять он весь делается красным.
– Никаких денег! У нас не богадельня!
– Павел Андреевич, но ведь работа сделана!
– Нет!
Никаких доводов. Поезд ушел. Какая внучка, какая Нина Петровна?!
Простодушие его не знало границ. Была у нас как обычно по понедельникам летучка. Длилась она уже часа два, обсуждался вопрос, если мне память не изменяет, о работе молодых актеров. В то время была у нас одна сотрудница, Людмила Зотова. Всегда – грудь вперед – она проносилась по коридорам, рассекая воздух, даже казалось, с каким-то свистом. У нее обо всем было свое мнение, которое она горячо отстаивала. Так и здесь. Она пыталась доказать свое, все время повторяя: «Свобода творчества! Свобода творчества!», имея в виду, очевидно, условия труда молодых актеров.
Павел Андреевич терпеливо внимал ей, а потом вдруг сказал:
– Слушай, Людмила. Поди-ка ты со своей свободой творчества знаешь куда?
Сразу же возникла пауза. Павел Андреевич понял, что увлекся: на глазах почти трех десятков людей послал человека, женщину, в неподходящее место. Однако он ничем не выдал себя, достойно закончил летучку и только на прощанье, полуобнял Зотову своей могучей рукой, сказал:
– А насчет свободы творчества, я понимаю, ты пошутила…
Был еще какой-то спор. Я назвал Зотову Жанной Д’Арк, поскольку она со всей страстью высказывала свое мнение, невзирая на лица, хотя и была членом партии. Тарасов слушал, слушал, а потом, хихикнув, заметил:
– Чего суетишься, Зотова? Ты думаешь, мы тебя сожжем?
Так уж вышло, что мне достался кабинет рядом с туалетом. Так вот, неожиданно приходит ко мне Павел Андреевич, в шубе, в высокой шапке. Появление редкое. Я встаю и, пользуясь моментом, начинаю какой-то деловой разговор, но чувствую, что моему собеседнику не до этого. Не догадываясь о причине, я продолжаю занимать своего высокого гостя. Но он высказывает признаки явного нетерпения. Наконец, не выдержав, распахивает дверь моего кабинета и кричит:
– Да кто там засел, в конце концов? В штаны мне, что ли, надуть?
И тут дверь туалета открылась и, как нарочно, из нее вышел лилипут из ансамбля лилипутов, который нередко заходил в управление. Контраст между гигантской фигурой Тарасова в высокой шапке и лилипутом был до того разителен, что я рассмеялся, поняв, что явилось причиной неожиданного начальственного визита.
И еще эпизод. Павел Андреевич слушает, что говорит ему по телефону Григорий Иванович Владыкин. Говорит долго, нудно. Павел Андреевич покорно его слушает. Присутствующий тут же Всеволод Малашенко, один из членов репертуарно-редакционной коллегии, пытается что-то сказать Павлу Андреевичу, очевидно, нужное для этого разговора, вернее, монолога.
Наконец Павел Андреевич, не выдержав, восклицает:
– Да замолчи ты!
Трубка замолкает. Тарасов понимает, что этот окрик Владыкин принял на свой счет. Павел Андреевич пытается исправить свой промах.
– Это я тут, – извиняющимся тоном произносит он. – Малашенко воспитываю…
Эти воспоминания, может быть, и не имеют особого значения, но они дороги мне, потому что воссоздают образ человека, прежде всего, не злого, не зараженного «административным восторгом», управлявшего нами патриархально, но с пониманием человеческой сущности каждого работника. И конец его тоже был не шаблонный. Мы должны были во МХАТе обсуждать пьесу Э. Радзинского «О женщине» в присутствии Фурцевой. Это была одна из первых пьес с откровенным разговором о женском характере, о ее психике вне служебных отношений, и это вызывало чувство настороженности, даже неприятия пьесы. Словом, театр решил прибегнуть к помощи министра.
Мы ждали ее в комнате администратора МХАТа. Павел Андреевич сидел рядом со мной. Он, видимо, нервничал, и было с чего. По тем временам пьеса была смелая, искренняя.
Похоже, что Тарасов вообще боялся любых встреч с Фурцевой. Министр запаздывала. И вдруг я услышал какой-то горловой клекот, и огромная масса Павла Андреевича стала валиться на меня. Вызвали врача, положили нашего Тарасова на пол, врач стал делать искусственное дыхание, но было уже поздно. Наш начальник был мертв. И в это время как раз появилась Екатерина Алексеевна. Она увидела распростертое тело, ей доложили о случившемся. Дав распоряжения, полагающиеся в таких случаях, она, перешагнув через труп, пошла в залу, где ее ждали.
Так окончил свой жизненный путь наш начальник, наш милый Павел Андреевич – на своем посту, в последний раз вытянувшись по стойке «смирно!» во весь свой гигантский рост перед своим министром…
А она нам сказала: – Идемте обсуждать!..
Министр… Что она ощущала, переступая через мертвого Тарасова? Для нее он был работником аппарата, исполнителем ее воли, но не тем, к кому она прислушивалась, чьей поддержки искала…
Череда министров
«Не ссорьте меня с интеллигенцией» – вот был ее лозунг, и этому лозунгу она следовала всю свою жизнь. Надо сказать, что это было сложно – и в «великое десятилетие», при Хрущеве, и после, когда она, оставаясь министром, уже не была членом Политбюро.
Дело происходило в 1968 году, и Фурцева уже прекрасно ощущала на себе пристальный, убивающий все живое взгляд Михаила Андреевича Суслова, руководившего всей нашей идеологией. Скажу больше: и фактически управлявшего всей страной.
Я не знаю, принимала ли Фурцева участие в «зарезании» превосходной пьесы С. Алешина «Куст рябины» в 1971 году. Мне кажется, что алешинская пьеса не могла пройти мимо ее внимания. Ведь при мне же на одном из наших собраний Фурцева сказала, указывая на Алешина:
– Вот же существует, живет среди нас классик.
Это было вскоре после выхода на экран фильма «Все остается людям».
Пьеса, как я уже сказал, была превосходной. В ней шла речь о старой акушерке, одесситке, потерявшей в войну единственного сына, живущей в коммуналке, в окружении разных людей. И вдруг она получает потрясающее известие: ее сын жив, он живет в Штатах! Она пишет ему, он отвечает и зовет ее к себе, в Нью-Йорк. Вся квартира, несмотря на разные отношения друг с другом, принимает горячее участие в этом, даются противоположные советы. В общем, старушка решает: она отправится в гости к сыну, но обязательно вернется домой. Она летит – это тоже первый раз в ее жизни. В Нью-Йорке ее встречает сын, ее мальчик, сейчас уже пожилой человек, с семьей. Жена его очень ласково принимает ее, так же и дети, особенно старшая, девушка лет семнадцати. Они прекрасно живут, у них два телевизора, две автомашины. Он литературный агент. Кстати, в год появления пьесы эта профессия казалась нам сомнительной, грязноватой, но прошло время, и мы мечтаем о таких литературных агентах! Словом, в этой семье все превосходно. Внучка заслушивается рассказами бабушки о Советском Союзе. Бабушка сидит в глубоком кресле, в полном покое. Внучка выражает желание вместе с бабушкой увидеть эту страну… И, казалось бы, невозможное сбывается. Бабушка с внучкой приезжает домой. Их встречают жильцы коммунальной квартиры. Внучке неведом такой быт, здесь перемешано трогательное с комическим… Великое с трагическим…
Финал пьесы. Поездка с внучкой домой приснилась бабушке. Она умирает, сидя в кресле, в квартире своего сына, в присутствии своей внучки, которая стала так близка ее сердцу…
Пьеса сразу же, с подачи, увы, одной из наших же коллег, к сожалению, пошла по разряду «политических». Это подхватил новый начальник управления театров:
– Это любование чуждой нам жизнью! Нашли чему завидовать! Два телевизора. Почему у нашего человека, оказавшегося в Америке, такая хорошая семья и достаток? Это утверждение американского образа жизни в нашей драматургии.
И тут не помогло даже хорошее отношение замминистра, пьесу не разрешили к исполнению. Я думаю, запрет был вызван национальностью героини. Это было время, когда антисемитизм стал, по существу, государственной политикой, а в искусстве стыдливо рекомендовалось «не выпячивать» национальный вопрос. Кто-то рассказывал мне еще задолго до алешинской пьесы о реакции Хрущева на всю эту проблему в целом:
– Знаю, все знаю, – говорил он, словно отмахиваясь от какого-то призрака. – Не трогайте все эти дела! Только тронешь – такое полезет, и обязательно выйдет антикоммунизм.
Так или иначе, пьесу зарезали. У меня долго болела душа за погубленное прекрасное произведение. Помню, защитники пьесы прибегали даже к таким доводам: почему считать главную героиню обязательно еврейкой? Она одесситка, в Одессе же живут люди разных национальностей. Но эти, такие наивные «оправдания» пьесы ни к чему не привели. По той же причине была зарезана постановка пьесы известного американского драматурга А. Миллера «Случай в Виши».
В свое время я советовал А. Гончарову, главному режиссеру Театра им. Маяковского, поставить одну из лучших, на мой взгляд, пьес советской драматургии, «Закат» И. Бабеля. Он загорелся, пошел к Фурцевой, поделился с ней своими планами.
– Зачем вам эти еврейские анекдоты? – был ответ.
И Гончаров отступил на много лет, поставив «Закат» только в середине 80-х, когда началась перестройка. Мне думается, что Фурцева своим отказом тогда просто следовала неписаным идеологическим установкам – остерегаться появления на сцене «этой» темы.
Вообще, в отсутствии смелости Фурцеву трудно было упрекнуть, о чем свидетельствует история с «Большевиками» М. Шатрова. Как известно, эта пьеса завершала трилогию, постановку которой затеял Олег Ефремов, бывший тогда главным режиссером в «Современнике». Первая пьеса была «Декабристы» Л. Зорина, вторая – «Народовольцы» А. Свободина, и третья – шатровские «Большевики». С ней было много всяких пертурбаций, спектакль был готов, наступало пятидесятилетие Октябрьской революции, а судьба пьесы находилась в руках Главлита. И грянул гром. Пятого ноября пришел ответ: пьеса не разрешалась к исполнению. Перечень пунктов, вызвавших такое решение, был внушителен: тут была и моральная обстановка, и выбор исторического момента, и параллели с Французской революцией. Но о самом главном не было сказано: как посмел драматург у постели борющегося за жизнь Ленина прогнозировать путь партии без него?
Ефремов, Волчек и несколько других актеров бросились к Фурцевой. И вот тут ее всегдашний призыв «Не ссориться с интеллигенцией» подвергся большому испытанию. В самом деле, представим ситуацию: 1967 год. Фурцева, ближайшая соратница снятого Хрущева, – уже не член Политбюро, но пока еще занимает пост министра культуры. И вот она должна решить судьбу пьесы на ответственную тему буквально накануне юбилея Советской власти! Тут ни слезы Волчек, ни нервические судороги Ефремова можно бы и не принимать во внимание. Но Фурцева решилась! Она разрешила играть «Большевиков», несмотря на прямое запрещение Главлита. Это надо оценить и запомнить. Она трусила ужасно, но решилась!
Потом на спектакле появился А. Микоян, одобрил его, позвонил М. Суслову. Приходили «лица» еще и еще, в общем, атмосфера сложилась благоприятная, и Главлит, после ряда уступок, сделанных театром, сменил гнев на милость.
Вспоминается еще один случай. Очевидно, это было в 1964 году, на очередной коллегии Министерства культуры СССР. Речь зашла об одном из романов Кочетова – вроде его хотели инсценировать в какой-то из среднеазиатских республик. С резкой критикой романа выступил наш известный драматург Афанасий Дмитриевич Салынский, несмотря на то, что было известно, что роман высоко оценил Н. С. Хрущев.
– А вы знаете, что этот роман получил высокую оценку? – спросила Фурцева.
– Знаю.
– И знаете, из чьих уст?
– И это знаю. Но, извините, Платон мне друг, но истина дороже! – ответил Салынский.
Кое-кто захлопал. Фурцева несколько растерялась, не зная, как реагировать.
Казалось, этим дело и закончится. Коллегия продолжалась, но после ряда выступлений Фурцева решила взять реванш. В своем заключительном слове она вернулась к диалогу с Салынским.
– Вы, вероятно, слышали выражение «великое десятилетие»? [113]113
«Великим десятилетием» в то время было принято называть период правления Н. С. Хрущева (1953–1964).
[Закрыть]Многие повторяют его, не всегда понимая смысл. Вот вам живой пример: если бы не это десятилетие, то один из нас двоих уже наверняка сушил бы сухари!
Говоря о Фурцевой и отдавая ей должное, как не вспомнить одного из ее знаменитых предшественников, имя которого определяло уровень культуры в нашей стране. Все, чего он касался, сразу же приобретало глубину, значительность – и поэзию! Вы, наверное, уже догадались, о ком я говорю. Это Анатолий Васильевич Луначарский. Стоило увидеть где-нибудь его характерный профиль, и сразу становилось ясно: предстоит что-то серьезное и в то же время увлекательное.
Рассказов о его исключительном даре общения с аудиторией я наслушался очень много, но, как ни странно, еще ни разу не попадал на его выступления.
И вот как-то совершенно случайно, на какой-то выставке на территории Парка культуры и отдыха я наконец его услышал. Мало того, что эта встреча стала для меня полнейшей неожиданностью, она к тому же произвела на меня оглушительное впечатление.
Все рассказы о Луначарском мгновенно побледнели – я был свидетелем совершенно нового для меня явления, продемонстрировавшего неизвестный мне дотоле образец высочайшего ораторского искусства.
Боже! Что это было за наслаждение! Внешне полная простота, доверительность тона, ощущение гигантского, неисчерпаемого запаса созданных человечеством ценностей: мыслей, образов, сравнений, юмора и прочих красот из всех эпох. Я вспомнил знаменитого крысолова из Гамельна [114]114
Немецкая легенда: крысолов избавил город Гамельн от крысиного нашествия, заиграв на дудочке, и крысы заворожено последовали за ним и утонули в реке. Когда же городские власти не выплатили ему обещанного вознаграждения, тот, заиграв на дудочке, увел из города всех детей, и они также утонули.
[Закрыть]. Да, я поверил тогда, впервые в жизни, что меня, взрослого человека, можно заворожить, увлечь куда угодно простым звуком человеческой речи. Это была даже не речь, это была песня, идущая прямо в сердце…
С председателем Комитета по делам искусств СССР М. Храпченко я встречался только один раз. Шла Великая Отечественная война. Я просил его познакомиться с моей пьесой-сказкой «Земля родная». Он вяло ронял слова, развивая свои теоретические взгляды на неспособность, по его мнению, такого жанра, как сказка, отразить пафос, которым охвачен сейчас наш народ, потом перешел почему-то на Блока, на его пьесу-сказку «Роза и крест».
В общем, толку от него я не добился.
Я понимаю министров. Им дано высшее право – сказать «да» или «нет». О-о, это совсем не так просто, как кажется. Я наблюдал раз Н. Беспалова, бывшего тогда председателем Комитета по делам искусств СССР, когда от него ждали такого решения. В Театре драмы и комедии, что находился на Таганской площади, где сейчас в его старом здании театр Любимова, была поставлена пьеса Мамина-Сибиряка из купеческой жизни. Смотрели ее делегаты какой-то партийной конференции и выразили свое неодобрение. В отчаянии театр обратился к своему высшему начальству. Беспалов должен был сказать свое последнее слово. Он приехал, смотрел спектакль. Дирекция ждала его наверху, в кабинете. Беспалову явно не хотелось приближать момент встречи. Он заходил за кулисы, беседовал с рабочими. Увидел кого-то знакомого, заговорил с ним, с тоской поглядывая по сторонам. Приближался миг, когда он должен сказать свое слово. А до чего не хочется! Но надо. За это ему платит деньги государство, власть. Не помню, каково было его решение, но эти министерские «муки» хорошо врезались в память.
Следующая фигура, которая вспоминается мне, – это Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, руководитель партизанского движения в Великую Отечественную войну, человек, с которым, где бы он ни находился, Хрущеву было тесно. Стал он после войны первым секретарем ЦК Белоруссии – тесно. Кстати, ходили слухи, что он сжег остатки старого Минска, разоренного фашистами, чтобы построить новый, светлый город. И построил! Был первым секретарем Казахского ЦК – показался слишком смел. Назначили министром культуры СССР. Я был на XIII пленуме Союза писателей, посвященном драматургии, где он выступал. Говорил дельно, интересно.
С Пономаренко был случай, рассказанный мне кем-то из работников министерства.
Докладывают Пантелеймону Кондратьевичу, что приема у него добивается Елена Фабиановна Гнесина, просит назначить день. Повод: она хлопочет о 300 000 рублей, которые никак не может получить от министерства. Он сам берет трубку и говорит:
– Что вы, Елена Фабиановна, как можно такому человеку, как вы, ходить по кабинетам? Я должен сам приехать к вам, я давно собирался это сделать!
Старуха вне себя от радости. Сам министр! Собственной персоной!
В назначенный день министр берет с собой начальника музыкального управления Серебровского, с которым детально обо всем договаривается, и они едут в Гнесинский институт. Елена Фабиановна не знает, куда усадить дорогих гостей. Министр в ее институте! Это требует мрамора, золотых букв! Пономаренко устраивает на глазах Елены Фабиановны жестокий разнос Серебровскому – на каком основании Гнесинскому институту до сих пор не выплачена требуемая сумма? Серебровский оправдывается, хотя оба отлично знают, что все это театр. Деньги для института в свое время были запланированы, только из-за рутинного бюрократического порядка они еще не дошли до адресата.
Потом оба гостя отбывают, оставив Елену Фабиановну в состоянии, близком к счастливому обмороку. Сам министр был! Теперь деньги, считайте, в кармане! Министр обещал!
В конце концов деньги приходят, ни на йоту не убыстряя своего движения, но об этом все забывают. Главное – министр приехал сам! Министр обещал!
Крошечный эпизод – а ведь создана легенда о добром министре, легенда, остающаяся в народной памяти! Жаль, что такой «маленькой режиссурой» чрезвычайно редко пользуются власть имущие. Отсутствием таковой особенно отличался М. Горбачев.
Наверное, правду говорили тогда люди, что где бы Пономаренко ни был, он мешал Хрущеву, как бы невольно заслонял его. И впоследствии его сослали в послы, а потом в уполномоченные в каком-то зарубежном комитете.
О министре культуры СССР Н. Михайлове я уже писал. Связь с культурой у него была прямая. В прошлом – работа в заводской многотиражке.
Если в своих выступлениях на коллегиях он и ошибался, касаясь вопросов, в которых мало понимал, и делал ошибки, то всегда, услыхав шум в зале, добродушно вслух признавал это. И за такое простодушие ему многое прощали.
Простодушен был и начальник Комитета по делам искусств РСФСР Алексей Иванович Попов. Однажды, не помню по какому поводу, он собрал группу драматургов, преимущественно русской национальности, и сказал им попросту:
– …вашу мать! – Он грешил подобным просторечием. – Вы же русские люди! Неужели вы не понимаете, что дела у нас плохи? Помогать нам нужно, а вы какую-то правду ищете!
Список министров будет неполон без Демичева, который к тому же был кандидатом в члены Политбюро. Я помню, когда состоялось его назначение, я верил, что неспроста на культуру сажают кандидата Политбюро. Я полагал, что ей наконец-то будет уделяться больше внимания.
Была устроена встреча с министром в Доме творчества в Голицыне. Собралось человек шестьдесят – режиссеры, драматурги. Это была первая встреча министра со своими опекаемыми, хотя он был на посту уже около года. Должен был состояться откровенный разговор. И что же? Министр сказал несколько слов, серых, как и он сам, – ни хороших, ни плохих, так, не кисло и не сладко. И о делах его говорили: сказать «нет» ему не хотелось, а от его «да» дело все равно не решалось.
Суть Демичева достаточно ясна уже по эпизоду, рассказанному мне одним из участников делегации, направлявшейся на совещание министров культуры соцстран. В роскошном самолете, в большом салоне, что делал министр культуры СССР, пока летел в Берлин? Готовился к докладу, читал любимую книгу, делал записи или, воспользовавшись случаем, прилег отдохнуть от тяжких трудов? Нет, всю дорогу он занимался любимым делом пенсионеров на бульварах – «забивал козла» в домино!
Странная вещь искусство! Вроде Власть полностью овладела им, но ведь, как я однажды сказал на собрании в Управлении театров, весь огромный аппарат Министерства культуры, выполняющий указание Власти, зависит не от нее, а от какого-то мечтателя, который, сидя в мансарде под крышей, а то и вовсе будучи бомжем что-то сочиняет, а что – поди разберись!
Вспоминаю еще один случай из эпохи моего пребывания на посту главного редактора. М. Маклярский и К. Раппопорт написали пьесу о Рихарде Зорге, нашем известном разведчике, о его пребывании в Японии. Пьеса хорошая, она уже шла в ряде театров.
Но в СССР из Японии приезжает подруга Зорге Исия Ханако. Знакомится с пьесой. О ней – ни слова. Есть жена Зорге Катя, все как положено – тоскует о муже, ждет… Исия требует свидания с Косыгиным, получает его, жалуется ему на искажение истории, он – команду в Министерство культуры – разобраться. Поскольку мой шеф болел, отвечаю я.
Во-первых, я узнаю – и для меня это новость, – что существуют две разведки – по линии КГБ и военная. Я знал одно: всяческие тайны концентрируются на Лубянке, и все тут. А оказывается, мне надо идти в военное ведомство, на Арбатскую площадь. Взяв с собой В. Малашенко, который был редактором пьесы, отправляюсь в министерство. Естественно, предварительные формальности были выполнены, пропуска выписаны. К кому? К самому начальнику Разведывательного управления Генштаба вице-адмиралу Л. К. Бекреневу. Старый чекист, сценарист М. Маклярский, когда мы рассказывали ему о нашем визите, только стонал и хватался за голову. В Англии даже фамилию подобного начальника не знают, так он засекречен!
Мы прошли, по крайней мере, три поста на нашем пути. Рослые молодцы с автоматами на шеях каждый раз зорко вглядывались в наши документы. И чем тщательнее становилась проверка, тем сильнее рос в нас страх и почтение к месту, куда мы направлялись. Наконец мы у цели. Огромный кабинет, стол гигантского размера, стальной сейф за ним. Знакомимся.
Вице-адмирал внешне ничего особенного не представлял. Так себе, морячок. Но когда мы изложили цель нашего визита, поинтересовавшись, насколько права японка в своих претензиях, хозяин кабинета обнаружил необыкновенный, взрывчатый темперамент. Он бросился к сейфу, стал вращать в разные стороны его ручку, за первой дверцей открылась вторая – поменьше, снова замок, там еще, еще, и наконец после такой работы обнаружилась совсем маленькая дверца. У нас екнуло сердце – сейчас нам откроют все списки зарубежной резидентуры! Но на свет божий извлекается лишь очередной номер «Техники молодежи»:
– Смотрите, что тут пишут! – загрохотал вице-адмирал. – Что Зорге любил березки! Березки! Понимаете, какой ерундой люди занимаются!
Более конкретных рекомендаций мы от него не добились, а пьесу было велено спустить на тормозах. Жаль.







