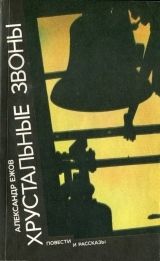
Текст книги "Преодолей себя"
Автор книги: Александр Ежов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
– Как же так, не обращать, когда я сама слышала. – И она рассказала ему о том, как у землянки отзывались партизаны о ней и о Ноглере.
– Поговорят и бросят, сказано еще не нами: нечего попусту в плешь колотить,– начал отшучиваться особист. – У ребят нервы не железные. Теряют людей. Потому и подозрительность.
– Но ведь мы тоже люди,– не сдавалась Настя. – Я предлагаю сделать налет на лагерь, что возле деревни Любони. Там советские люди томятся. И подружка моя Светлана Степачева там. Перебить охрану и спасти людей. Ждут нас – не дождутся.
– Об этом подумаем,– пообещал Гурьянов,– но сейчас дела есть поважней. Наша задача – деморализовать тылы противника, вести рельсовую войну, а значит, как можно эффективней помогать фронтам. Вот скоро лед тронется и на Ленинградском, и на Волховском...
– Скорей бы,– сказала Настя. – Народ истомился ожиданием. Бьем фашистов и все никак добить не можем.
– Всему свой срок. Так что потерпите немного, дорогая Настя. Настанет и ваш звездный час.
– Скорей бы,– вздыхала она,– пока сижу за чужой спиной. Совесть заела. Покоя нет.
Она почти ежедневно видела, как партизаны уходили на задания. Воевали, били фашистов. А она? Что она? Ест партизанский хлеб и никакой пользы не приносит. Комом в горле застревал этот трудный хлеб. Было стыдно и горько.
Однажды рано утром Настю разбудила Паша Кудряшова. Она дрожащим голосом сообщила, что партизаны захватили в плен немецкого офицера, кажется, эсэсовца, трех солдат и полицая.
– Гурьянов их допрашивает. Может, твои знакомцы попались? Сходила бы, узнала.
У Насти разгорелось любопытство, и она пошла. На улице было свежо и прохладно. Недавно выпал легкий снежок, но партизаны уже понатоптали дорожки. Одна их них вела к землянке Гурьянова. Остановилась у двери, прислушалась. Войти не решалась. Как она могла войти, когда ее не звали? От нетерпения разволновалась: хоть приоткрыть бы дверь и посмотреть, что там за «гости».
Из землянки вышел связной Вася Решетов, молоденький парнишка с веселыми глазами. Он куда-то торопился. Настя схватила его за рукав, повернула лицом к себе:
– Васек, кого там приволокли?
– Секрет,– ответил Вася, – Улов – дай боже. Давно такого не было.
– Может, мои знакомцы?
– Возможно.
– Иди, Васенька, доложи и вернись, скажи, что я здесь.
– А может, без тебя разберутся?
– Чует сердце, что знаю я этих немцев и полицая. Хоть одним бы глазком взглянуть.
– Ну, ладно, доложу. Обожди чуток,– и он скрылся за дверью.
«Пригласят или нет? Возможно, там Синюшихин, волчья морда. За ним давно партизаны охотятся, да ловок, бестия, из каких только сетей не вырывался!»
Дверь открылась, появился Вася и коротко сказал:
– Иди.
Она переступила порог, обжигаемая любопытством. Вошла – и все сразу повернулись к ней. В первую очередь она посмотрела на Гурьянова. Он был весел. Рядом на скамейке сидел начальник штаба Говорухин, еще кто-то. И вот она увидела (подумать только!) самого Брунса. Вот уж не ожидала с ним повстречаться в такой обстановке! Брунс стоял и смотрел на нее с любопытством, глаза его округлились и почти не мигали. Кроме Брунса тут был Гаврила Синюшихин. Он тоже смотрел на Настю своим единственным глазом, полуоткрыв рот, и что-то хотел сказать, но молчал, ждал своего часа.
– Узнаете? – спросил Гурьянов у Насти.
– Узнаю,– ответила она. – И господина Брунса знаю, и Синюшихина. Они мне давно знакомы. Рада повстречаться. Ну, как самочувствие, господин Брунс?
Лицо фашиста исказилось злобой. О, как ненавидел сейчас он эту русскую – как ловко обвела она его вокруг пальца! – и сожалел, что не уничтожил в свое время. А возможность такая была. Значит, и на самом деле Усачева шпионка. Вельнер, видимо, был прав.
– И вы здесь? – спросил он. – Партизанка...
– Да, здесь, господин Брунс. А где же мне еще быть?
– Я понимаю,– промямлил он еле слышно. – Так и должно быть. Так, так...
– Да, господин Брунс, именно так. Ваша песенка спета.
– Но ведь я вам спас жизнь, Усачева. Только я...
– Спасибо, Брунс. Но я, к сожалению, в данный момент не могу вам помочь. Не могу.
– Я понимаю,– сказал он тихо и уронил голову.
Держался он с достоинством, не просил пощады, ибо знал, что пощады не будет. Когда его допрашивал Гурьянов, он все еще бормотал о непобедимости фашистского рейха, о возмездии, но разглагольствования его казались настолько смехотворными и нереальными, что все улыбались, кроме самого Брунса и Синюшихина.
Если Брунс и внешне выглядел подтянуто, и форма на нем сидела все так же подобранно ловко, только китель был несколько помят, то на Синюшихина просто неприятно было глядеть. Ворот расстегнут, полупальто, которое было на нем, вымазано грязью, и вся одежда помята, точно его только что вываляли в луже и не успели переодеть. Руки предательски тряслись, и голова слегка подергивалась. Он не хотел умирать и просил, чтоб его пощадили.
– Я никого не убивал и совсем не виновен. Совершенно, поверьте мне... – Голос у него изменился, он словно бы захлебывался словами. – Поверьте, я не виноват...
Но ему никто не хотел верить. Все знали о его злодеяниях, на его совести были десятки замученных людей. Синюшихин уже несколько месяцев назад был приговорен партизанами к смертной казни, и вот только теперь приговор должны были привести в исполнение.
– Как же ты до такой жизни дошел, Синюшихин? – спрашивал у него Гурьянов. – Стал изменником Родины, опасным преступником. Видимо, решил, что Советской власти каюк? Так, что ли? Решил – и просчитался!
– Завербовали. Силком заманили в тенета. Я ни чем не виноват.
– А вот Усачеву тоже хотели заманить, а она не поддалась на приманку.
– Она с этим, с Брунсом, якшалась. Не верьте ей…
«Господи, что он сказал?! – пронеслось в голове у Насти.– Какой негодяй! Мерзавец! Клевещет так подло, так вероломно! Не ожидала такой клеветы даже от Синюшихина. Как он посмел? Как язык у него поворачивается?»
Настолько она была потрясена, что не могла вымолвить и слова, и поняла, что все смотрят на нее и ждут, что она скажет. А она не могла ничего сказать, не могла вот так сразу отвести от себя эту чудовищную напраслину. А Синюшихин между тем продолжал:
– И я с ней спал не одну ночь. За буханку хлеба продалась. Она продажная...
Как ненавидела она в этот момент негодяя! Обреченный на смерть, он пытается запачкать и ее грязью позора. Нет, этого не будет, она сумеет себя защитить. Сумеет... И, сдерживая гнев, стараясь быть как можно спокойней, сказала:
– Все вы знаете, что Синюшихин – убийца, изменник. Да, он действительно приставал ко мне, но разве могла я с ним лечь в постель, товарищи? Разве могла? И как у него язык поворачивается говорить такое!
– А с Брунсом? – выдавил ядовито Синюшихин.
– Так же и с Брунсом,– ответила она. – Но Брунс куда благородней, чем ты, шелудивый оборотень. Он клеветать не стал.
– Он вреть,– сказал по-русски Брунс. – Клеветя, клеветя.
– Вот видите, товарищи, даже Брунс не поверил полицаю. Так что я чиста перед всеми, перед совестью своей.
Синюшихину не поверили, и все же обида давила горло. Ведь надо же, хотел облить грязью, обесчестить. И зачем она пришла сюда? Зачем? Любопытство? Да, она хотела посмотреть на пленников. Хотела. А получилось так, что Синюшихин попытался опозорить, грязно запачкать.
Целый день не могла успокоиться. Ходила по лесной тропинке с Паулем, разговаривала с ним, а думала совсем о другом. Ведь как может опуститься человек: стал изменником, обагрил свои руки невинной кровью, да еще на краю своей погибели оклеветал подленько другого.
Пауль заметил, что Настя расстроена, задумчива, отвечала невпопад.
В лесу прохладно и сыро, пахло мокрым снегом. На елках ледяной бисер. Тряхни веточку – и дождик окропит тебя, словно бы прикоснется ласковой рукой. В этом царстве тишины и покоя Насте стало легче думать, нервы успокоились, и она сказала Паулю:
– Прошу тебя, Пауль, почитай стихи Гейне. У него есть хорошие строки.
Он тихим голосом стал декламировать:
Буди барабаном уснувших,
Тревогу без устали бей:
Вперед и вперед подвигайся —
В том тайна премудрости всей.
– Хорошо, Пауль, очень хорошо! – сказала Настя. – Какие слова: «Буди барабаном уснувших»! Словно бы для нас написал Генрих Гейне. И сколько бы ни прошло лет, а стихи поэта будут пробуждать к борьбе и добру.
– Да, именно так,– согласился Пауль. – Настоящая поэзия не умирает. Даже в такие горькие дни она помогает нам. А почему ты грустишь, Настя? – неожиданно спросил он.
– Я была там, в землянке,– ответила она,– видела твоего соотечественника Брунса. Он офицер, фашист, эсэсовец... Его допрашивали.
– И что он сказал на этом допросе?
– Все еще верит в победу немецкого вермахта, но держится достойно, не просит пощады.
– Да, я понимаю,– ответил Пауль. – Понимаю таких людей. Их не исправишь. Они до конца останутся злодеями и погибнут со своим фюрером.
– Там схвачен еще один негодяй. – Настя помедлила и продолжала: – Он русский. Предал свой народ в трудный час, перешел на сторону фашистов, убивал людей, может, детей убивал. Я ненавижу этого человека. Он пытался оклеветать и меня, но просчитался. Ему не поверили. Потому и грустно мне в эти минуты.
– Не принимай все близко к сердцу,– успокаивал ее Пауль. – Клеветник будет наказан. Получит свое. А у нас с тобой впереди дела. Только держат почему-то долго, не посылают никуда. Почему?
– Видимо, срок не пришел. Я готова в любую минуту,– ответила Настя. – Готова пойти с тобой, Пауль, с Пашей Кудряшовой, пойти на любое задание. И не боюсь смерти. Ты веришь мне?
– Верю,– ответил он. – И навсегда.
Она посмотрела на него внимательно, подумала и добавила:
– Мы пойдем, Пауль. Обязательно своей дорогой пойдем. С открытым сердцем. И докажем каждому, что верны своему идеалу до конца.
Словно бы клятву дали они друг другу, и с этого момента Настя поняла, что судьба ее, очень нелегкая, будет неразрывно связана с немцем Паулем Ноглером.
Глава шестнадцатая
Через три дня, в субботний полдень, Настю Усачеву вызвал начальник особого отдела Гурьянов. Вошла в землянку, остановилась у порога, точно слепая. В землянке сквозь маленькое оконце еле пробивался слабый лучик света, и Настя в первые секунды не могла ничего рассмотреть в непривычной обстановке – в помещении было полутемно. И только через минуту она разглядела Гурьянова, очертания его фигуры теперь проступали ярко и отчетливо: лицо, руки, спокойно лежащие на столе, и весь он показался необычайно спокойным и обыкновенным.
– Садитесь, Усачева,– пригласил он, и Настя села на лавку в предчувствии чего-то необычного.
Что скажет Гурьянов, зачем вызвал? Наверное, пришел тот звездный час и для нее, для Пауля Ноглера, для Паши Кудряшовой.
– Я вот по какому делу,– начал Гурьянов не торопясь, спокойным голосом. – Сегодня ночью сбежал из-под стражи и неведомо где скрывается полицай Синюшихин.
– Сбежал? Почему сбежал? – Настя привстала со скамейки. Она была ошарашена этой новостью.
– Часовой проворонил... Задремал на посту. А Синюшихин выломал крышу и... был таков.
– Что же делать теперь?! – Настя была подавлена – Что делать?
Она ненавидела Синюшихина. И вот на тебе – сбежал… Настя ждала, что скажет Гурьянов, а он молчал, спокойно курил, однако она заметила, что рука его лежала на столе неспокойно – слегка вздрагивала, и дымок от цигарки волнисто покачивался и таял в полусумраке потолка. Настя поняла, что и начальник особого отдела волнуется и, возможно, не знает, что делать и как ей ответить. Наконец он сказал:
– Синюшихина расстрелять должны были утром, на рассвете...
– Сегодня?
– Да, сегодня.
– И что же теперь?
– Приговор надо привести в исполнение, хотя и с опозданием, но надо непременно. И ты должна нам помочь, Настя, должна. Ты ведь опытная разведчица. Пошлем тебя с надежным человеком, чтобы выследить негодяя. Найти и... – Он не договорил, смотрел и ждал, что она скажет.
– А кто этот человек, с которым я должна пойти? – спросила она. – Не Пауль Ноглер?
– Нет-нет, не он, совсем другой человек.
– А кто же?
– Афиноген Чакак. Знаком он тебе?
– Немного знаю. Это кучерявый такой? Чуваш?
– Вот с ним и пойдешь. Сегодня же. Пойдете сначала в Нечаевку. Может, он, Синюшихин, прячется у матери. Чакак проинструктирован и знает, что делать.
Афиноген Чакак встретил ее у выхода из землянки. Он стоял перед Настей точно изваяние, настоящий витязь из сказки, кряжистый, ладный, глядел на нее озорно и весело. Из-под шапки-кубанки выбивались густые каштановые кудри, лицо скуластое, доброе, располагающее. «Такой не подведет,– подумала Настя,– видно сразу – смелый и решительный». Чакак протянул широкую ладонь, и пожатие руки было таким крепким, что она чуть не вскрикнула.
– Будем знакомы,– сказал он немножко картавым гортанным голосом. – Хотя уж знакомы мал-мальски. Афиногеном меня звать. А фамилия – Чакак.
– Настя,– ответила она, – Значит, в путь-дорожку дальнюю?
– Да, пойдем, Настя, выполнять задание. Поведешь, куда надо, а я уж там сработаю как положено. Со мной не бойся, я удачливый.
Настя посмотрела на Афиногена и снова подумала: «Да, с таким отчаянным парнем не
страшно пойти хоть куда, такой и в огне не сгорит, и в воде не утонет». Чакак известен был в партизанской бригаде как неустрашимый разведчик и подрывник, человек хладнокровный, отчаянный и, что самое главное, надежный. Бывали случаи – раненых выносил на спине из самых опасных мест, спасал в любых условиях.
В тот же день Чакак и Настя вышли из партизанского лагеря, шли по проселочной дороге и молчали. Настя горела нетерпением: хотелось спросить, как Афиноген попал к партизанам, какие пути привели его в эти края. Хотела расспросить и не решалась, но Чакак сам начал рассказывать о себе. Говорил он тихо, взмахивая правой рукой, и русские слова в его горле словно бы булькали и переливались.
– Из Чувашии я родом-то. Есть такое село под названием Юнга, недалеко от Волги. Большая деревня. Домов пятьсот. Вот там и родился, там и рос.
– А как сюда попал, в партизаны?
– Известное дело как. Призвали в армию перед самой войной. Служил в Прибалтике. В начале войны оказался в окружении, в тылу у немцев. Вот и попал партизаны. Лесные стежки-дорожки привели. А ты, Настя, как?
– Я здешняя. Из Большого Городца я.
– Бывал в Городце,– сказал Чакак. – Это колхоз там у вас подпольный, и председателя, что хлеб припрятал, фашисты сожгли.
– Откуда ты все это знаешь?
– Бывал, вот и знаю. Ночевал в Городце. Раза два или три, когда в разведку ходил...
– У кого ж ночевал? Не у матушки ли моей?
– А как величают мамашу?
– Екатерина Спиридоновна.
– Был раз и у ней. Картошкой разваристой угощала. Добрая у тебя мать.
– Так у матери, значит? Когда?
– Месяца два назад. Еще теплынь была, август отцветал.
– Значит, у матушки? Господи! Жива, значит. Давно я ее не видала.
– Пройдем в Городец. Нагрянем нежданно-негаданно, на блины. Спроведаем мамашу. Разузнаем, что там и как. Синюшихин-то из какой деревни? Уж не из вашей ли?
– Нет, из соседней, из Нечаевки. Туда и направил нас Гурьянов.
– Погостим мал-мальски у матери. Отогреемся. А потом и в Нечаевку. Ты думаешь, там он, полицай-то?
– Возможно, и там. А может, в какой другой деревне или в самом райцентре, докладывает начальству, как к партизанам попал. А сейчас в Городец пойдем. Может,
там что разузнаем.
Настя очень хотела навестить мать и маленького Федю, побывать в Большом Городце. Ведь так долго она не виделась с матерью. Времечко-то страшное. Фашисты да синюшихины, разные там христопродавцы по деревням рыскают, злобствуют. И сама она побывала в лапах гестапо. Чудом спаслась, точно в сорочке родилась.
Шли они до Большого Городца почти сутки. Настя хорошо знала дорогу, пробирались по окрайкам опушек от деревни к деревне. В Городец пришли когда уже стемнело, в деревенских окнах кой-где мерцали тусклые огоньки. Значит, жила деревня, и это обрадовало Настю. Она заметила огонек в окнах своего дома и с облегчением вздохнула: огонек мерцает – значит, и мать жива, ждет небось дочь-затеряху, не дождется.
Спиридоновна так разволновалась, увидев на пороге непредвиденных пришельцев, что не могла вымолвить и слова. Ведь надо же, дочь Настенька, словно с неба свалилась, воскресла из мертвых. Вот стоит перед матерью живая и невредимая, и не одна, а с парнем.
– Настя, Настенька! – наконец, придя в себя, закричала Спиридоновна.– Уж ждала-то я тебя так долго-долго. И ждать-то устала. И всего-то надумалась.
Чакак стоял и смотрел, как Настя обнимает старенькую мать, стоял, будто бы чужой в
этом доме, совеем посторонний, лишний здесь человек. Он хотел было повернуться и
выйти, но что-то удерживало его, и он ждал.
Настя спросила у матери:
– А Феденька где?
– Спит в боковушке. Пускай спит, не буди.
Настя разговаривала с матерью отрывисто и сбивчиво, волнение в эти минуты переполняло ее – она была несказанно рада, что встретились. Потом вдруг спохватилась, подбежала к Афиногену, повела его в передний угол, посадила на самое почетное место. Спиридоновна глядела на пришельца: кто он такой, откуда? Потом узнала, заулыбалась.
– Ты ночевал у меня – вот и вспомнила. Знакомый чуток. Бедовуху за собой не принесли? – спросила она у Насти.
– Не бойся, мама,– сказала Настя.– Афиноген свой человек. Партизан.
– Теперь времечко такое – каждого бойся.– Спиридоновна заохала: – О-хо-хоюшки! Без опаски в такое лихолетье и жить нельзя. Вон народу-то сколько сгубили, покалечили!
– Так то фашисты,– сказала Настя.– А мы еще живы и будем жить.
– Живи да оглядывайся.– Спиридоновна взяла в руки ухват, подошла к печке, начала доставать чугунок.– Знамо дело, что они бедовуху принесли, но ведь лучше подальше от них, от супостатов этих. Точно волки голодные рыскают по деревням, хватают людей. Лучше не трогать их. Глядишь – и сбережешь себя. Спасешься.
– Неверно ты говоришь, тетя Катя,– начал возражать Афиноген.– Не согласен я с тобой. Фашистов бить надо, чтоб скорей убрались восвояси. Разобьем, прогоним, и жизнь опять пойдет как по маслу.
– Пойти она пойдет,– еще сердито перечила Спиридоновна,– для тех пойдет, кто живой останется. А если кто не доживет? Как тут быть?
– На то она и война,– сказал Афиноген.– А раз война, все мы рискуем – и я, и Настя... Ради победы рискуем. А ради победы и умереть не страшно.
– Ишь прыткий какой! – вскипятилась тетя Катя.– Ты вот лучше за стол садись. Бери ложку да щи похлебай. Щи без мяса да без хлебушка. Уж не прогневайтесь, гости. Дорога-то была небось длинная. Проголодался, сынок?
– Что верно, то верно, мамаша,– согласился Чакак.– Поесть не откажусь. А сухарики-то у нас свои есть. Ну-ка, Настя, выкладывай.
Настя достала из вещмешка сухари, положила на стол, села рядом с Афиногеном. Спиридоновна налила щей, и они ели с отменным аппетитом – и на самом деле проголодались изрядно. Когда поели, Настя спросила у Афиногена:
– Чакак – интересная фамилия. Чакак, ча-как... Что значит слово – Чакак?
– Чакак – это сорока по-чувашски. Значит, и фамилия у меня простая – Сорокин. По-чувашски – Чакак, по-русски – Сорокин.
– Чак-чак, ча-как – интересно звучит. Это значит – сорока чекочет: ча-че, ча-че, ча-че...
Афиноген засмеялся:
– Настя, ты очень точно подметила. Моя фамилия действительно на сорочье чекотанье похожа. Таких схожестей много в нашем языке.
– Значит, язык чувашский – богатый по различим своим оттенкам и звукам,– сказала Настя.– Скажи-ка несколько фраз по-чувашски.
Афиноген начал говорить по-чувашски, а Настя и Спиридоновна слушали и ничего не понимали.
– Ну, поняли что-нибудь? – спросил Афиноген.– Я уже и сам стал забывать свой язык. Четыре года по-чувашски ни с кем не разговаривал. Только сам с собой, шепотом. Стихи чувашских поэтов про себя частенько повторяю, чтоб не забыть. Самый знаменитый у нас поэт – Константин Иванов. Написал поэму «Нарспи», когда ему еще и семнадцати не было.
– А что такое «Нарспи»?
– Девушку так звали. Сосватать ее решили за нелюбимого, а она любила другого. Хотите, прочитаю по-русски из этой поэмы?
– Интересно бы послушать,– сказала Настя.
Афиноген начал читать:
Месяц март уж на исходе,
Греет солнышко. Тепло...
Окружило половодье
Все чувашское село.
Почернели прежде взгорья,
После снег с полей сошел,
В зеленеющем уборе
Заиграл под солнцем дол.
Стихи, такие простые и безыскусные, западали в душу, волновали. Она начала расспрашивать, кто такой поэт Константин Иванов, когда жил.
– Умер до революции, двадцати пяти лет.
– О господи, как мало жил! Почти так же, как и Лермонтов. А сколько бы мог еще написать!
Чакак начал рассказывать Насте о своей матери.
– А жива мать-то? – спросила Спиридоновна.
– Нет, умерла,– ответил Чакак.– И отец рано умер. Грамотный был, а дедушка вот жив. И две сестры у меня – Роза и Валентина.
– Такие же, поди, как Нарспи?
– А вот уж не знаю, не мне судить, но хорошие и добрые.
На другой день Настя проснулась рано, наскоро умылась, привела себя в порядок и заглянула в боковушку, где спал маленький Федор. Он проснулся, как только вошла Настя, глазенки спросонья уставились с удивлением на нее. Настя заулыбалась, подбежала к кровати, спросила:
– Что, не узнал, Феденька? Это я, проведать тебя пришла...
Он смотрел на нее с удивлением и тихо, слабеньким голоском произнес:
– Мама...
– Узнал, родненький... Как живешь-то у бабушки?
– Хорошо
– Ну, вот и преотлично, мой мальчик.– Она села кровать, приподняла Федю на руки – он все еще был легкий, словно бы невесомый. Видать, харчишки у матери не ахти какие: картошка да капуста, не всегда с хлебом, но и то ладно. Жить можно. Вот окончится война – тогда все пойдет на поправку, всего будет вдосталь: булки, и конфеты появятся... А сейчас вот она, Настя, даже гостинчика не принесла. Неоткуда взять – ведь нет ничего, одна бедовуха да корочка хлеба.
В Нечаевку Настя и Афиноген отправились, когда уже на мокрую от дождя землю пала густая осенняя сумеречь. Настя шла впереди, а за ней – Чакак, шаги его – тихие и осторожные. Она слышала эти шаги, слышала, как он дышал ей в затылок, тяжело и с присвистом, потому что у него побаливало горло – пил холодную воду и застудил. Когда подошли к деревне, уже стемнело. Остановились у крайней разворотни. Здесь как раз и жила Синюшихина – мать полицая. В окнах слабо мерцал огонек.
Настя подошла к окну и замерла от неожиданности: в доме за столом сидел Гаврила, сидел один. «Вот и хорошо,– подумала Настя,– если Синюшихин один, то и взять его будет легче, без посторонних глаз».
– Вроде один,– сказала, подойдя к Афиногену,– матери нет.
– Значит, попал в ловушку.– Настя заметила, как в темноте заблестели глаза у Афиногена. Он даже скрипнул зубами.– Чего ждать? Надо брать его тепленьким...
Чакак подошел к двери и начал стучать. Громко крикнул:
– Открой!
– Кто там? – послышалось из-за двери.
– Свои!
– А кто свои? Кто такие?
– Из полицейской управы,– уточнил Чакак.– Срочно вызывают тебя, Гаврила. По важному делу.
– По какому такому важному? Больной я. Не могу явиться.
– Ну, открой! Объяснишь, что там и как.
Синюшихин не открывал, видимо, почувствовал что-то неладное, боялся.
– Не откроешь – хуже для тебя,– припугнул его Чакак.– Как дезертира расстреляют.
За дверью щелкнул крючок, и дверь распахнулась. Синюшихин попятился, глаза его округлились. Увидев Настю, он сразу понял, что это конец, что пришло возмездие. Стал умолять:
– Не виноват я. Пожалейте, христа ради. Не виноват. Простите!
Он упал на колени, спина его тряслась не то от рыданий, не то от страха. Настя с брезгливостью глядела на Синюшихина, приосмотрелась: в избе было полутемно, на столе чадила коптилка, в переднем углу почерневшие образа, большая печь, на шестке – закоптелые чугунки и кринки. Пахло кислыми щами, сивушный дурманом, затхлой овчиной. На столе – недопитая бутыль самогона, фарфоровая чашка, недоеденный огурец, ломоть черного хлеба. Дышать было тяжело. Едва привыкнув к спертому воздуху, она спросила:
– А мать где?
– Мамаша? Она к Цыганковым ушла,– ответил плаксиво полицай. – Сейчас вернется. А что со мной?
– Отведем куда следует,– ответил Афиноген. – Сбежал-то откуда?
– От партизан.
– Так вот к партизанам опять и отправим.
– Зачем? Я не хочу. Не хочу!
Синюшихин опять бросился в ноги Афиногену, затрясся в конвульсиях, зарыдал.
– Отпустите, ради бога! Простите! Настя, прости! – Он смотрел на Настю умоляюще, увидев пистолет в ее руке, сник.
– Вставай, пошли,– приказал ему Чакак. – Одевайся, нам ждать некогда.
– А куда пойдем-то? – снова спросил полицай и начал поспешно напяливать на плечи мундир.
Одевшись, он покорно вышел в сени. Оказавшись на улице, бросился бежать. Настя, вскинув пистолет, устремилась за беглецом. .
– Стой! Стой! – закричала она. – Стрелять буду! Остановись, гадюка!
Спина Синюшихина еле различалась в полутьме, он бежал и, словно бы ныряя,
спотыкался. Настя еле поспевала за ним и страшно боялась потерять его из виду. Потом выстрелила из пистолета. Попала в него или нет, она не знала, а сама споткнулась и распростерлась плашмя на сырой земле. И в этот момент мимо нее вихрем промчался Чакак. Он стрелял на ходу и кричал:
– Остановись, гад! Все равно не уйдешь! Не уйдешь, предатель!
Потом он, видимо, догнал Синюшихина, послышался еще выстрел – и все затихло, замерло, оцепенело.
Чакак вернулся, когда она уже поднялась, чувствуя острую боль в правой ноге: падая, ударилась о что-то твердое.
Чакак тяжело дышал и, поддерживая Настю за руку, спрашивал:
– Не сломала ногу?
– Нет, нет, только ушиблась. А он там как? Синюшихин?
– Именем закона и народа приговор приведен в исполнение. С негодяем покончено,– сказал он просто, так просто и обыденно, как будто бы ничего и не случилось.
Стояла мертвая тишина, черная и тягучая. Настя с облегчением вздохнула, словно сбросила тяжкий груз, но сердце стучало громко и тревожно, звало куда-то. Хотелось поскорей уйти от этой захолустной деревеньки Нечаевки, уйти к своим...
– Пойдем,– сказала она Афиногену и взяла его за руку.
Он покорно зашагал рядом. Над землей висела густая и влажная темень, почти ничего не было видно, накрапывал мелкий холодный дождь.
Глава семнадцатая
Наконец пришло предписание свыше отправить группу Усачевой по определенному маршруту и с определенным заданием. Настя получила соответствующие инструкции, и разведчики двинулись в путь. Шли пешком до деревни Глебово, километров пятнадцать. Пауль нес радиостанцию, Настя и Паня шли следом, часто отдыхали, а когда пришли в деревню, там для них была уже подготовлена подвода. Радиостанцию уложили на сани, прикрыли сеном и в тот же день двинулись снова в путь.
Снежок выпал неделю назад, слегка подмораживало, лошадка бежала не очень ходко, а когда переходила на шаг, Настя соскакивала с дровней и шла позади пешком. Пауль тоже шел рядом, хлопал ладошкой Настю спине, подбадривал:
– Так-так, невеста, пойдем на самый край света. А там, глядишь, обвенчаемся. Муж и жена – согласна на это?
– Согласна,– отшучивалась Настя. – Как говорят: кто жить не умел, того помирать не выучишь.
– Смерть от нас в сторонку уйдет, и мы еще долго жить будем. Очень долго... Так что,
Настя, будь веселой. Впереди счастливая дорога, и длинная-предлинная.
– Ой ли, Пауль, твоими бы устами да мед пить. Дай бог нам удачи. А дорога все же разухабистая.
Путь и на самом деле предстоял опасный. Они понимали, что могут возникнуть рискованные ситуации: остановит патруль, начнется проверка документов. И что самое страшное – начнут обыскивать подводу. Ведь под сеном на санях – радиостанция. Обнаружат – что тогда? Провал.
И все же Настя надеялась, что этого не случится, – она и Пауль отлично говорят по-немецки, так что с любым патрулем можно свободно объясниться. Сама она теперь – Анна Мюллер, немка по происхождению. Пауль – жених. Куда едут? Известно куда – к родственникам в Латвию, там у Анны проживает тетя. Версия была продумана до мельчайших подробностей.
В первый день их останавливали только два раза, все сходило благополучно, Настя
отшучивалась, а Пауль серьезным тоном вставлял нужную реплику. Документы у них – носа не подточишь. Гурьянов постарался.
Ночевали в глухой деревушке и на другой день должны были двинуться дальше. Подъехали к железнодорожному полотну – у шлагбаума скопилось подвод пять или шесть. Настя насторожилась: переднюю подводу обыскивали. Она еле слышно предупредила своих:
– Готовьте, друзья, оружие. Назад пути нет. – И, просунув руку в потайной карман, потрогала дуло пистолета.
Минуты тянулись томительно долго. Пауль, держа вожжи в правой руке, соскочил с телеги и пристально всматривался, что делается впереди. Там шла тщательная проверка первой подводы, другие ждали своей очереди.
Наконец очередь дошла и до них.
– Что везете? – спросил патрульный. Рядом с ним стоял немолодой лейтенант, наблюдал за проверкой
– Сами себя везем,– ответила Настя по-немецки, – да вот сено коню под хвост.
Часовой опешил, услышав немецкую речь. Он не знал, по всей видимости, что ответить, и ждал приказаний лейтенанта. Тот подошел к подводе и, пристально глядя на Настю, спросил в свою очередь:
– Кто такая? Почему хорошо говоришь по-немецки?
– Я немка, Анна Мюллер, а это мой жених – Пауль Ноглер.
– Что, он тоже немец? А не партизан, одетый в немецкую форму?
– Нет, я солдат немецкой армии,– ответил Пауль,– лежал в госпитале. Сейчас еду в Латвию с невестой Анной. Вот мои документы,– и он показал их лейтенанту.
Офицер вертел их в озябших руках так и этак и, вернув Паулю, потребовал документы Насти, а затем Кудряшовой. Опять долго просматривал и, убедившись, что документы не поддельные, вернул их законным владельцам. Весело заулыбался, подошел к Паулю, хлопнул его ладонью по спине, сказал:
– Красива, солдат, невеста! Где такую прихватил?
– Это секрет, господин лейтенант,– сказал Пауль. – Боюсь потерять, если снова пошлют на фронт.
Лейтенант засмеялся и махнул рукой:
– Доброго пути. Валяй...
И они поехали. У Насти отлегло от сердца, будто бы она вырвалась на простор из дремучего леса, стало легко и радостно на душе. «Пронесло!.. – пело у нее в голове, звенело колокольчиком, переливалось малиновым перезвоном... – Прекрасно! Теперь я немка, невеста солдата немецкого вермахта. Облапошили часовых так ловко и складно, что даже не верится. Поверили и отпустили...»
До Аксатихи добрались на третий день. Тут жила знакомая Пани подпольщица Дуся Скворцова. Приехали поздно вечером. Паня постучала в окно Скворцовым. Дуся была дома. Все обошлось как нельзя лучше. Рация была спрятана на чердаке. Настя и Пауль должны были передохнуть немного и двинуться в путь дальше, а Паня останется здесь, в Аксатихе, до тех пор, пока не поступит распоряжение сверху о передислокации узла связи.








